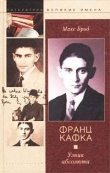Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Воспоминание о несокрушимой силе души Микеланджело выявило и в самом Реубени черты той таинственной радости, которая обща всем великим душам. У некоторых эта радость проявляется очень редко, но вполне она никогда не отсутствует, и Реубени стал не без задора декламировать стихи Абрагама ибн-Эзра:
Был я утром у вельможи,
Слышу – выехал верхом;
Робко вечером спросил я,
Говорят – улегся спать.
Дина весело подхватила:
И всегда – иль нету дома,
Или только что уснул.
И другого нет ответа
Бедному, что под счастливой
Не рожден звездой.
Она испугалась:
– Да это совсем не так, – простите – что я говорю! Не рожден под счастливой звездой? Да ведь вам дарованы слава и царство.
Реубени отвернулся.
Дина винила во всем неловкость. Как могла она процитировать такие неудачные строки. Ей и в голову не приходило, что Реубени был в дурном настроении, потому что слишком далеко зашел в своих признаниях. Ведь он был Мессией. Правда, он должен был еще ждать, как пророчествовал Исаия – «подобно корню в тощей земле», как «муж, страждущий и знакомый с болезнями», но настанет день, когда он «заставит многие народы воспрянуть от изумления и почтения». И «цари из-за него крепко сожмут уста свои». Дина ни на минуту не сомневалась в этом. То обстоятельство, что Реубени явно страдал как физически, так и духовно, только укрепляло ее веру в него.
Когда он снова повернулся к ней, выражение лица его было совсем другое. Обычное, неподвижно холодное.
– Позови мне своего брата и другого врача, – сказал он суровым тоном, – я хочу, наконец, быть совсем здоровым.
Девушка пугливо вздрогнула. Хотя это было его обычное лицо, но оно пугало ее. Разница в сравнении с тем человечным, нежным, вдохновенным выражением, которое она только что видела, была слишком велика.
– Простите меня, – робко сказала она.
Слышал ли он ее? Он кивнул головой, словно думая о чем-то другом.
Она повернулась, чтобы уйти, и боялась расплакаться. Нет, одно еще она должна была сказать. Это всегда занимало ее, придавало всему, что совершалось, особый блеск, – было ее целомудренно охраняемой девичьей тайной. Теперь надо было высказать это в искупление того, что она оскорбила сара!..
Слова с трудом выходили из ее горла, словно язык, который должен был произнести их, преграждал им путь.
– Вы спросили, господин, был ли тот танец свадебным? Так знайте же: я никогда не выйду замуж – кроме как в Иерусалиме.
И она так быстро убежала, что шелковые занавеси у дверей еще долго колыхались после этого.
В следующие дни cap избегал разговаривать с ней. Он медленно поправлялся, мог уже сидеть в кресле.
Он заставлял теперь своих слуг прислуживать себе. Дину он больше не хотел видеть.
Но однажды она еще раз заговорила с ним. Пришла дрожа, с заранее обдуманной речью и готовым планом.
Она сообщила, что в Венеции свергнут весь еврейский совет. Этот бунт произошел вскоре после отъезда сара. Все смещены, даже Мантино, который был прежде всесилен. До такой степени настроение всего народа склонялось в пользу князя из царства Хабор. И это сильно подействовало на римских фаттори, с де Сфорно во главе. Теперь они рады будут оказать услугу Реубени и примкнуть к его партии, только чтобы это не было слишком заметно, но так, чтобы в случае удачи они могли сказать: мы в этом принимали участие. Ей это известно на основании разных заявлений, намеков. А такая услуга действительно очень нужна.
– Вы в ваших стараньях подогнать чиновников курии, пожалуй, не подумали об одном, – простите мою дерзость, но я знаю, я дитя этого города, я знаю их нравы и знаю новую поговорку, что в Риме вместо десяти заповедей теперь следуют десяти буквами: «De pecuniam», то есть давай деньги. Денежная сумма, предоставленная де Сфорно…
Он сердито прервал ее:
– Довольно. Благодарю. Никогда.
– Это единственный путь…
– Этим путем мы идем уже много сотен лет. Я знаю это, но я хочу, чтобы мы пошли, наконец, другим путем.
Дина смотрела на него в полном отчаянии.
– Ты не можешь понять, дитя, – сказал он более мягким тоном, но в словах его было нечто такое, что отстраняло ее далеко-далеко, может быть, навеки. – Нельзя, конечно, вменить тебе, слабой девушке, в вину то, что составляет вину столетий. Ты, дитя мое, не виновата, что не понимаешь многого.
Ей было больно от его холодности.
В слезах она бросилась перед ним на колени, схватила его руку, страстно целовала ее, а слезы лились на его костлявые, тощие пальцы.
Он вздрогнул. Боль и страсть двигали его левой рукой, когда он гладил ее красивые волосы. Она не решалась поднять голову.
Одно мгновенье он только слегка коснулся рукой ее головы и уже отдернул ее обратно. Это была не ласка, а привет издали, с другого берега широкой реки.
В тот же вечер он сказал посетившему его Аретино:
– Все, что вы рассказываете о женщинах и их проделках, может быть, и верно. Я этого не переживал – не знаю. Один только раз, очень давно – тринадцать лет прошло с тех пор, – тогда я пережил много дурного. Но это было совершенно иначе, гораздо возвышеннее того, что вы рассказываете. Там не было той слепой необузданной жажды наслаждений и еще более скверной жажды наживы, которая заполняет ваши истории. И, может быть, они все-таки правильны. К той картине, которую являет собой этот жалкий мир, они очень подходят.
– Вздор, – прервал его Аретино, – вы берете неправильный тон. Только таким ворчунам, как вы, мир кажется жалким, потому что вы не следуете моей заповеди, которая объясняет все, все до конца, которая мудрее всех изречений семи мудрецов Греции и семидесяти раввинов. Я говорю: люди должны больше спать с красивыми женщинами. В этих словах все сказано. Всякие меланхолии, всякие ложные догматы – порождения больного мозга, всякие войны, политические и религиозные распри проистекают от того, что человечество отклоняется от единственно приятного для него занятия и вследствие боли и злобы, испытываемой из-за упущенного наслаждения, занимается потом всякими глупостями и взаимной враждой.
– Я знаю ваше мнение, вы достаточно часто мне его проповедовали. Но позвольте мне сегодня внести хотя бы частичную поправку. В красивой женщине любят не женщину, а цвет своего народа. В ее благородных чертах я читаю добродетели предков, сумевших завоевать хорошее место, хорошую землю, на которой можно процветать. В ее смеющихся глазах, в милом разрезе рта я вижу очень серьезные вещи: первый мужественный захват владений и борьбу за землю, упорную борьбу поколений, неутомимость, суровую дисциплину, благородную простоту убеждений, всю суровую историю народа, даже его восхождение к Богу. Все это в образе женщины представлено легко и играючи, но тем не менее это видимая форма самых плодотворных и скрытых сил, какие только существуют.
Аретино рассмеялся:
– Я же говорю: слишком мало спят. Иначе бы вам и в голову не пришло ничего подобного.
– Нет, вы только выслушайте до конца. Когда чувствуешь, что история народа идет на ущерб, а женщина все еще прекрасна, потому что в ней все еще сказываются старые геройские подвиги, – прекрасная женщина живет, так сказать, милостью давно ушедших поколений, с добродетелью и силой коих она уже не связана и даже память которых хороший, но разменявшийся на мелочи ум ее невежественно осмеивает, – скажите сами, разве такая прекрасная женщина не является самым ужасным обманом нереальности? И когда видишь, как она мучается и желает стать снова великой и вернуться в Иерусалим, дочь моего народа, и когда хочешь поэтому привлечь ее в свои объятия, потому что она прекрасна – добра и прекрасна, – и когда сознаешь, что если сделаешь это вместо того, чтобы сделать единственно правильное, а именно – начать с корня, а не с цветка, окрасить новой, очищенной кровью призрачную, бледную фигуру прекрасной женщины, – скажите, разве тогда не кажется, что в одно и то же время вы говорите «Бог велик» и тут же поносите его?
Реубени вскочил с кресла. Его рука, еще слабая, ухватилась за оконную раму. Все тело дрожало. Если бы Аретино не поддержал его, он упал бы. Участие к взволнованному, обессилевшему человеку светилось в глазах Аретино, но рот насмешливо вздрагивал.
– И что вы вечно возитесь с вашим Богом! А главное, нашли у кого спрашивать о богохульстве. Я дурно говорил обо всех, но о Боге никогда – потому что его я не знаю.
XI
Сар оправился и снова хлопотал по своему делу у кардинала и в канцеляриях.
Не дело не двигалось. По обоим вопросам решение все откладывалось. Посланник дон Мигуэль по-прежнему вел бесконечную переписку с португальским двором, в то же время Реубени не удавалось получить определенного разрешения на вербовку армии из годных к военной службе евреев в Риме. Правда, он приказал завести списки, подвергал осмотру юношей, которые заявляли о своем желании вступить в армию, начал даже обучать их военным приемам. Но на этом дело и остановилось. В то же время эти приготовления послужили его противникам материалом для агитации против него. Они заявляли, что будет безумием разрешать вооружаться евреям, этим опаснейшим врагам Церкви Христовой. Не в качестве союзников христиан, как обещает Реубени, а в качестве врагов используют они свое оружие.
Кардинал Эджидио, правда, держался твердо. Точно также покровительствовал Реубени престарелый Лоренцо Пуччи, главный начальник тюрем и решительный враг инквизиции и доминиканцев, который в свои молодые годы поддерживал борьбу благородного Рейхлина с теми, кто требовал сожжения Талмуда в Кельне. Этот Лоренцо Пуччи был строгим католиком, но он любил пробуждавшийся молодой мир, который так серьезно стремился к красоте и действительному братству всех сильных людей, без различия сословий и происхождения. И он смертельно ненавидел Испанию и исходившие из этой страны мракобесия посягательства на все свободные порывы. У папы Реубени еще раз добился аудиенции. Прием был оказан отеческий, благосклонный, но решения не последовало никакого. Продолжительная беседа с папой и на сей раз постоянно сбивалась от стоявших на очереди политических вопросов на общие жалобы по поводу надоевшей всем военной смуты. Разговор закончился любимым словечком: videbimus – посмотрим.
Правда, у него было больше, чем когда-либо, оснований к нерешительности. Военное счастье беспрерывно колебалось и, по-видимому, никак не могло прочно обосноваться в лагере какой-нибудь из сторон.
Была зима. Прошел почти год с тех пор, как Реубени прибыл в Италию. И ничего не было достигнуто.
Реубени держали про запас в качестве орудия курии против инквизиции и против усиления императорского влияния в Португалии. Но этого средства не пускали в ход, пока оставалось неизвестным, кого следует бояться больше – императора или французов. Посланник знал, что в этой обстановке интригами нельзя было помочь делу.
Из Венеции прибыл Мантино. Не собирался ли он мстить за свое падение? В Венеции, где он утратил всякий авторитет, он не мог больше оставаться. Но в Риме Мантино имел великого покровителя в лице епископа Джиберти, который был теперь управляющим канцелярии в Ватикане. Неудивительно, что Реубени почувствовал, как с прибытием Мантино все скрытые препятствия при курии заметно усилились. Можно ли было назвать случайностью, что этот же самый епископ Джиберти теперь более резко выступал также и против Аретино, которого он всегда преследовал? Аретино ответил на это злым стишком, который он вывесил на «пасквино» – сломанной статуе, на которой римляне привыкли читать насмешки на злобу дня.
Вскоре после этого последовал удар кинжалом. Аретино свалился раненый с лошади. Все знали, кто нанял бандита. Но Климент, подпавший теперь всецело под влияние Джиберти, не принял своего прежнего любимца, и Аретино не имел даже возможности изложить ему свои жалобы и подозрения.
– Я всегда не любил этого желчного епископа, – сказал он Реубени, который посетил его во время болезни. – Это тоже один из тех, которые слишком мало спят.
И как только он выздоровел, он отправился в лагерь к капитану Джованни Медичи, в лагерь «черных банд». Это – «дьявол, который, по крайней мере, не притворяется ничем иным».
А «притворщикам в Риме» он посвятил в своем «Радджонаменти» ядовитую главу: «Эти умники не открывают рта, чтобы не сдвинулись складки, в которые они сложили свои губы перед зеркалом; а если они иногда и открывают свой рот, то делают это с величайшей осторожностью, чтобы снова сложить губы в надлежащие складки. И к распутным женщинам они ходят тихо-тихо, кошачьей походкой. А когда они оказывают свое внимание какой-нибудь из них, они при этом добавляют: „Мы такие же грешные, как и все“. Застегнув потом штаны, они приводят свои губы в движение и не перестают бормотать: „Господи помилуй“, „Domine ne in furore“ и „Exaudi orationem“. И затем немедленно отправляются в больницу, чтобы растирать ноги неизлечимо больным. Пускай их щиплют в аду раскаленными щипцами».
Обилие пороков, в котором Аретино так хорошо себя чувствовал, неоднократно отпугивало Реубени, но, тем не менее, какая утешительная живость и какая доброта и ласка были в этом всегда веселом человеке!
Несколько дней спустя после отъезда Аретино на сара напали двое замаскированных мужчин, в то время, как в одиночестве он совершал свою очередную прогулку вечером по Колизею.
Нападавшие были вооружены кинжалами, но Реубени тоже всегда носил за поясом дамасский клинок. В его маленьком, но широкоплечем и крепком теле было много силы. И мужество его принудило обоих бандитов немедленно перейти к обороне. Одного он ранил, тогда оба быстро обратились в бегство.
Было естественно предположить, что это нападение связано с нападением на Аретино. Но какое могло быть на то основание у епископа Джиберти? Или, может быть, в курии были и другие лица, которые считали Реубени таким опасным врагом, что хотели обезвредить его подобным образом?
Загадка эта не была разрешена и еще усилила ту таинственность, которая и без того окружала личность Реубени. Правда, Реубени хотел сохранить все в тайне. Но были свидетели происшествия, видевшие его издали. И вскоре распространился слух, который сделал сара героем, причем рассказывали, будто он обратил в бегство пять или десять бандитов.
Любовь и суеверный страх народа, и без того уже считавшего его божеством, превзошли все пределы. «Праведнику хотели поставить западню, но сам Господь послал ему на помощь своих ангелов».
Как ни странно, но все эти мелкие неудачи и препятствия, заставлявшие Реубени почти целый год безрезультатно оставаться в Риме, нисколько не подорвали его авторитета среди широких народных масс. Народ по-прежнему видел его в сказочном блеске. Для него он был принцем, прибывшим с Востока, располагающим бесчисленными войсками и, в сознании своей силы, защищающим права Израиля перед высшим троном христианского мира. Подлое покушение на убийство никого не запугало, а вызвало только новый взрыв восторга.
Образовалась добровольная лейб-гвардия из молодых евреев, которые охраняли дом посла. И, казалось, не было конца случайным происшествиям, возвеличившим его славу. Ибо едва только успел умолкнуть на еврейских улицах разговор о непонятном покушении на убийство, как произошло другое событие, которое произвело впечатление даже на скептиков.
В церкви Святого Петра, в Винколи, Микеланджело выставил свою статую Моисея. Впечатление было огромное. О ней говорили: «Когда видишь лик этого святого и великого человека, то кажется, что он потребует покрывала, чтобы закрыться от нас, так лучезарен его лик, так верно воплощает он величие Бога». Другие, наоборот, усматривали в лице грозного вождя – terriblissimo capitano – больше выражение гнева, нежели Божьего света. Казалось, что он сходит с горы Синай, держа скрижали Завета в правой руке, и, остановившись отдохнуть, прислушивается, как народ поет и пляшет вокруг тельца, а верный его спутник Иосуа говорит ему: «Слышишь военный шум в лагере!» И вот схвачен его взгляд, схвачен момент перед яростным порывом, перед вспышкой, которая принесла бы верную гибель! И в борьбе с такой дикой страстью к разрушению его сдерживает сознание его неповторимой, огромной миссии. Голова поднимается лишь слегка, словно он прислушивается к происходящей в нем внутренней борьбе не меньше, чем к народу, беснующемуся в долине, – и рука хватается за бороду, словно ища опоры.
Вскоре вспомнили, что cap Реубени, когда он усаживался в стороне на празднествах, принимал такую же позу: не лицо Моисея, которое, несмотря на одухотворенность выражения, было выхоленное, полное, не изборожденное морщинами, а вот эта поза и еще, пожалуй, что-то в ищущем, неуверенном выражении глаз напоминало о нем.
И вдруг стало известно, что Реубени послужил моделью для статуи. Может быть, это выдала Дина, не будучи в состоянии сдержать свою радостную гордость?
И вот евреи, мужчины и женщины, поскольку они могли преодолеть свой страх перед посещением церкви, стали толпами ходить в церковь Святого Петра в Винколе. «Пускай они это делают, они молятся не человеческому, а Божьему произведению», – так записал ученик Микеланджело Джорджио Вазари в своих записках, которые он вел о жизни современных художников и в особенности своего учителя.
Много евреев, в частности еврейская знать, только теперь имели мужество оценить выдающиеся качества Реубени. Ведь знаменитый Микеланджело подал им пример. И потому было уже не так неприлично полушутя, полусерьезно – называть замечательного чужеземца вторым Моисеем.
XII
– Если вы намерены сделать решительный шаг, то сейчас самое подходящее время!
Человек, говоривший это Реубени, уже неоднократно заводил с ним беседу, когда приходилось дожидаться в папских канцеляриях. Этот флорентинец был уже пожилым мужчиной и называл себя «статс-секретарем», а иногда даже «канцлером», так как когда-то, давно, действительно занимал такой пост. Но сейчас это был безработный и не особенно популярный писатель (историк и сочинитель ученых комедий), написавший недавно по поручению папы «Историю Флоренции». Для того, чтобы передать манускрипт этой «Истории», он прибыл в Рим, надеясь получить какое-нибудь дипломатическое поручение или хотя бы незначительный пост, связанный с политической деятельностью, которая занимала все его помыслы. Однако явные и тайные враги, которых у него было много, мешали его успеху так же, как и успеху сара. Папа милостиво принял его, но на ходатайство его не давал ответа. Так как им обоим часто приходилось бывать в одних и тех же учреждениях, то они познакомились и в долгие часы ожидания расхаживали вместе по бесконечным коридорам Ватикана.
Секретарь дал сару для прочтения некоторые из своих произведений, которые пока имелись только в рукописи, много раз переделанный труд «De principatibus» и обширные «Исследования о первых десяти книгах Тита Ливия». Возвращая ему эти книги, Реубени сказал, что теперь он понимает, почему Николо Макиавелли – так звали секретаря – пользуется самой скверной репутацией и почему его все избегают, хотя он только честно советовал то, что многие монархи и правительства знали и делали с давних пор: дурное. Но тем самым он погрешил против одного из своих основных принципов, согласно коему монарх (причем это одинаково обязательно и для всякого общественного деятеля, в том числе и для писателя) должен прилагать все старания к тому, чтобы казаться хорошим, совершенно независимо от того, каков он в действительности.
– Вы, мессер Николо, сами, может быть, хороший человек, но своими писаниями прославили себя как самого порочного человека и богохульника.
После этого разговора Макиавелли считал сара «посвященным», относился к нему с известным почтением, насколько это было возможно при его ироническом и озлобленном направлении ума. И на этот раз, советуя сделать решительный шаг теперь или никогда, он говорил это полушутя, полусерьезно, с безобразной улыбкой, которая широко раздвинула на гладко выбритом лице фокусника его без того широкий рот с отвисающей нижней губой. Это лицо, синевато-бледное, меланхолическое, казалось бы незначительным и каким-то безвольным, если бы не резко выделяющийся длинный нос. Этот римский нос превращал его в карикатуру на Юлия Цезаря.
– Я полагаю, что вам следует приняться за дело, потому что сейчас покушение и история с «Моисеем» расположили всех в вашу пользу.
Реубени вспыхнул.
– Ведь все это ложь, все это страшно преувеличено. Микеланджело видел меня всего один раз, и всем разумным людям должно быть ясно, что он лепил свою статую много лет и хотел изобразить того великого папу, на могиле которого она должна стоять в виде памятника, или делал ее, повинуясь своему собственному гневному воображению.
– Пускай так, но ведь не в том дело, что думают разумные люди. Чернь всегда руководствуется успехами и слухами, а весь мир – это чернь.
– Этому я не верю. Вы слишком презираете людей. Бывают и хорошие люди, и иногда их дела венчаются успехом.
– Этого я никогда не отрицал. Я только сказал, что человек, который всегда желал бы делать хорошее, должен погибнуть среди множества людей, которые дурны. Поэтому правитель, желающий проявить себя, – а вы находитесь именно в этом положении, – должен уметь поступать дурно, то есть совершать хорошие поступки или отказываться от них в зависимости от обстоятельств: быть то человеком, то снова животным. Это и имели в виду древние, когда они в качестве воспитателя для монарха избрали кентавра Хирона – получеловека, полуживотное.
Реубени отступил на шаг.
– Хладнокровие, с которым вы все это говорите, осуждает высказанное вами мнение. Может быть, это и правильно, но нельзя с таким легкомыслием преподносить и применять это. Я могу, хотя и с трудом, представить себе, что человек, который испытывал тысячи мук, полуобезумев от отчаяния, вопреки своей доброй воле, как бы со скрежетом зубовным решается на дурное дело, потому что иначе ничего сделать не может, потому что он находится в положении, когда приходится служить Богу обоими побуждениями – хорошим и дурным. Я могу себе представить, что такой человек оправдывается перед своей собственной совестью, потому что он страдает, потому что дурное дело, которое он начинает, больше всего причиняет боль ему самому. Может быть, так должно быть…
– Я никогда не говорю о том, что надо, – прервал его Макиавелли брюзжащим, педантичным голосом. – Я говорю о том, что есть. Я основываюсь на исследованиях, которыми я занимаюсь уже несколько десятков лет, на опыте истории древних времен и моего времени. Я никогда не руководствуюсь фантазией. Многие изображали республики и государства в том виде, как они существуют только в их воображении. Я же, например, когда был в Лукке, собирал сведения о прежнем властителе этого города, Кастручио Кастракани. На этих сведениях и на подлинной природе событий я и основываюсь, а не на философских системах. Одно-единственное слово этого человека говорит мне больше, нежели все прекрасные речи, которыми Данте возвещал о будущем мирном государстве. Вот эти слова моего Кастракани: «Бог любит сильных, это видно из того, что он всегда наказывает слабых через посредство сильных».
Секретарь улыбнулся сладенькой улыбкой, словно попробовал кончиком языка какое-то очень вкусное блюдо.
– Или, например, другое его изречение: «Я никогда не пытался победить силой, когда мог победить обманом, ибо только победа, а не искусство побеждать доставляет славу».
Сар взглянул на него с огорчением.
– В том-то и дело, что вы в глубине своего сердца любите этих злодеев, которых вы венчаете вашим двусмысленным словом virtщ[2]2
Так в книге (прим. верстальщика).
[Закрыть]. А для меня отвратительна эта геройски преступная доблесть. Она может быть допущена только как принудительный выход из положения.
– Такова уж жизнь! Ничего не поделаешь! – горячо уверял Макиавелли, словно его собственная жизнь была поставлена на карту.
– Нет, это только маленькая частица жизни и пока еще не лучшая, – ответил cap грустным, но решительным тоном, свидетельствующим, что он не менее упорно, чем секретарь, думал над этим вопросом. – Поверьте, к этому надо подходить гораздо осторожней. Вот вам пример: вы говорите о вашем Кастракани так, словно побеждать обманом нехорошо, но побеждать силой не представляет собою ничего плохого. Но разве всякая война, с ее насилием и убийствами, разве всякое убийство человека или животного не является самым большим злом, какое только можно придумать?
– Вы имеете в виду открытую, честную войну? – спросил Макиавелли, недоверчиво покачивая головой.
– Да, открытую, честную войну.
– Но где же тогда будет геройство, честь, мужество, подвиги Фемистокла, Эпаминонда, Александра и Сципиона?
– Все это имеет второстепенное значение, в сущности, дело идет совсем о другом.
– И это говорите вы, воин, желающий вооружить евреев и собирающийся отправиться вместе с ними в поход против турок!
Уже и раньше они неоднократно резко спорили в своих беседах. Но на этот раз разговор незаметно зашел глубже. Реубени не любил пререканий и обычно не говорил ни о чем, кроме того, что непосредственно было связано с его дипломатическим поручением и в чем он усматривал поддержку для своей миссии. Но секретарь поймал его как раз на этом пункте, ловко переведя теоретический спор на предполагавшуюся войну с турками. Реубени не мог отступить.
Бесполезно прождав и на этот раз, они вместе вышли из Ватикана. Не переставая спорить, они дошли до Тибра. Зимний ветер гнал его желто-зеленые волны. Они перешли через мост Святого Ангела и прошли мимо Пантеона через весь город.
– Взгляните, мессер Николо! Рим остался прекрасен даже без когорт. А мой народ! Нужда его обезобразила: люди стали маленького роста, с большими головами, с узкой грудью, искривленные, пугливые, больные. Редко когда в них бьется старый источник радости жизни, красоты Израиля. Так вот, понимаете, когда в таком тяжелом положении, почти накануне гибели, не брезгаешь никакими средствами, даже самыми грешными, когда в борьбе со смертью хватаешься за оружие…
– А разве Италия не борется со смертью? Разве не громят ее варвары, разве не умоляет она Бога о спасении? Вас среди ваших называют Мессией. Мы уже тоже несколько столетий как ищем Мессию.
– У вас есть свое государство, вы не рассеяны, вы находитесь на своем месте, – жаловался Реубени.
Но Макиавелли не слушал его и продолжал:
– Мы надеялись найти Мессию в лице Кан Гранде, в лице Кола ди Риенци, Владислава Неаполитанского, Карла французского. Я сам считал таким – цезаря Борджиа, а впоследствии нашего Марса под тиарой – папу Юлия, с которого Микеланджело лепил Моисея. Все это потерпело неудачу. Фортуна не пожелала. Или, может быть, причина в том, что герои эти были сильными и дурными людьми, но все же недостаточно дурными?
Где Реубени слышал такие слова? Призраком пробегают они в туманах Кампаньи. Облекаются в определенную форму, снова всплывают: «Тайны великого дракона, лежащего на потоках», – доносится издали голос привратника Герзона.
– И разве такая война, война за объединение Италии, по-вашему, не является самым возвышенным велением, не должна вестись всеми средствами, хотя бы самыми жестокими? – закончил свою речь секретарь.
Реубени не хотелось, по-видимому, спорить с разгорячившимся противником; он желал высвободиться из сплетения доводов и возражений, которыми опутывал его Макиавелли.
– Вы уклоняетесь, – наступал на него секретарь. – Защищать и охранять эту красоту – и является целью моей войны. Это сильно действующее лечебное средство против одряхления Италии.
И Реубени внезапно почувствовал, как его выманивают с прочной позиции, нападают на него сзади. Он сказал последнее, что ему еще осталось сказать:
– Вы рекомендуете зло, и совесть у вас при этом спокойна. А я делаю то же самое, но с угрызением совести. Делаю это, но одновременно хочу ограничить зло. Можете считать это великим или мелочным. Но, по всей вероятности, это единственная возможность.
Голос его упал, он с трудом переводил дыхание и едва мог продолжать свою речь.
– Вы сами знаете, что вы сейчас сказали сущую нелепость, мессер Реубени. Ограничить зло? Ведь оно требует от нас всего, всего. И если разжижать его умеренностью и комическими угрызениями совести, то получатся самые печальные последствия. В своей книге о Тите Ливии я очень обстоятельно это доказал: «Римляне всегда избегали золотой середины. Покоренным городам они предоставляли права гражданства или совершенно уничтожали их. Если бы они их щадили, то им пришлось бы иметь дело с бесконечным рядом восстаний. Нет ничего более вредного, чем умеренность и золотая середина. И ничто не свидетельствует так явственно о неблагородной, ничтожной душе».
Реубени казалось, что дорога, которая вела в бесконечность, высасывает у него все силы. Ноги его еще двигались впотьмах, но еле-еле, и он ощущал какую-то беспредельную слабость! Это старый исконный враг – это Рим, строящий дороги и разрушивший Иерусалим. В его представлении все спуталось. Вот бесконечная вереница красивых еврейских рабов. Они воздвигли Колизей – под кнутом Рима, теперь их уводят. И он среди них – их уводят навсегда, распыляют по колониям нижней Италии.
– Нет, этого не может быть, – с трудом выговорил он и искал какого-нибудь факта, хотя бы такого, в котором ему строго-настрого запрещено признаваться, лишь бы хоть на момент снять с себя эту тяжесть. – Допустим, человеку приходится украсть у родной матери, отнять у нее деньги, с трудом заработанные в течение десятилетий. Это можно потому, что так требует призрак спасения, показавшийся вдали, призрак спасения гибнущей души и спасения народа. И вот шкатулка взломана, в руках свертки с деньгами, кошельки. Что можно взять отсюда? Только самое необходимое, лишь столько, чтобы хватило на дорогу? Или же надо просто уступить злу и жестоко забрать все?
– Все, все! – И легким жестом Макиавелли подтвердил, что и в данном случае умеренность неуместна, что она бессмысленна, мелочна.
«А что, если этот упрек в мелочности есть коварная змея, подосланная дьяволом?..»
Они повернули назад и пошли по направлению к Риму, потом снова пошли обратно. Давид уже не сознавал, сколько часов они так бродили. Но вдруг он почувствовал, как секретарь прочно уселся у него на груди, оседлал его, направлял его туда, куда хотел. Неужели он совершенно выдал себя?
– Не годится, – поучал Макиавелли, – быть мягкосердечным, когда стремишься к великому. Мягкость есть лишь остаток испорченной крови, которую благородные души стараются возможно скорей выпустить из жил. Признайтесь же, наконец, что вы меня понимаете! Более того – что никто не может лучше вас подтвердить мое учение о приобретении новых государств. Вы находитесь в хорошем обществе. Я уже ссылался в моем произведении на Моисея, Кира, Ромула, Тезея. И я назову также и Реубени среди тех, кто, благодаря счастью или собственным заслугам, из простых людей стал монархом. Признайтесь, – я уже давно это знаю, – что всю вашу миссию вы просто выдумали, все это княжество Хабор – для того, чтобы создать себе княжество среди евреев Европы. Ведь если бы это государство Хабор действительно существовало, то за три-четыре года, с тех пор как вы уехали оттуда, вслед за вами прибыл бы сюда какой-нибудь курьер или новое посольство. Разве оставляют своего принца в одиночестве в течение многих лет? И потом еще другое: у папы и кардиналов вы всегда появляетесь с переводчиком, словно вы знаете только язык той далекой страны, а со мною и с другими, в интимном кругу, вы говорите на чистейшем латинском языке и на родном наречии вы объясняетесь тоже весьма проворно.