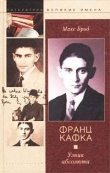Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
XVI
Однажды вечером его остановил Гиршль:
– Ты снова идешь на башню?
– Да, – твердо ответил Давид.
– Ты теперь занимаешься со стариком Герзоном?
Давид кивнул головой.
Двусмысленная улыбка.
– И так прилежно, до рассвета?
Откуда знал это Голодный Учитель?
– Вы, должно быть, следите за мной?
– А если бы я это и делал – из дружбы.
Ну, вот, теперь начнутся старые жалобы об ослабевшей дружбе. Уже много лет подряд одни и те же жалобы. Но Давида заставила насторожиться угроза, которую он почувствовал в ироническом вопросе – «до рассвета?». Неужели Гиршль узнал что-нибудь о ночных поездках через реку на кузницу? Давид внимательно слушал шедшего рядом с ним маленького хромого человечка. Сначала Гиршль говорил обычные свои вещи. Упрекал Давида, что тот приходит к нему все реже, что клятвы верности и вечной благодарности, которыми он клялся ему ребенком, оказались такими же никчемными, как и обещания других людей, которые не принадлежат к числу «homines eruditiores». «А знаешь, что измена не остается без возмездия? Не одному только Катуллу удалось напустить богиню Немезиду на своего неверного друга».
Они вошли в дом Гиршля. Давид уселся в том же углу и на том же диване, где он сиживал ребенком. Ведь здесь прошли лучшие часы его мечтательного детства. Никто, кроме Гиршля, не интересовался им: он один только отвечал на его вопросы, не сердясь, и, не считаясь с обычной школьной рутиной, поучал жадную пугливую душу. «Я не прав по отношению к нему», – думал Давид. Меланхоличная жалость заполнила его сердце.
Но вскоре его отрезвила бесконечная речь Гиршля; все это были сплошные общие места. Он цитировал Платона и Цицерона, восхвалявших дружбу. Но Давид уже знал, что Гиршль усваивал из воззрений философов только то, что укладывалось в его маленьком мирке. В сущности, его мнения мало чем отличались от мнений, господствовавших в гетто, хотя он и старался изобразить, что это не так У него был тот же ход мыслей, только примененный к другим объектам.
«И этого человека я когда-то, по молодости моей, сравнивал с Сократом! Ораторским искусством и сильной волей – ими он действительно обладал, но эти свойства выявлялись на ложном пути, в стороне от подлинной жизни, среди мусора и песка, а не на плодоносной почве. И как он разбрасывал во все стороны свой мусор, как он шумел! Теперь он громил суетность мира, произносил тирады против смешных модных платьев с разрезами, против турниров, против гайдуков».
Какая узость была, в сущности, в этом мнимом гуманизме Гиршля! Давид почти стыдился, что не заметил уже давно, как смешны в устах маленького учителя стихи Ульриха Гутена «Жалобы и увещания», которые он теперь декламировал.
– Я смело поступал! – кричал Гиршль, – и они не посмеют тронуть мою школу. Как бы они ни неистовствовали, они меня не сломят и не возьмут измором. Но от тебя, Давид, я ожидал большей помощи. Если отец твой – мой злейший враг в совете и не хочет пропускать через ворота нашего гетто ни одного луча света, ни одной искорки новых идей, то я все-таки надеялся, что в твоем лице я воспитаю друга мудрости и справедливости, вождя угнетенных.
– Чем же я могу помочь вам? – возразил Давид, который до сих пор почти все время молчал. – Ведь я не заседаю в совете.
Голодный Учитель раздраженно замахал руками.
– Дай мне говорить! Что ты постоянно меня прерываешь! Ты душишь мою мысль!
И, понизив голос, словно подкрадываясь с другой стороны, он с той страстностью, которая его никогда не покидала, стал говорить о своем деле, которому он служил денно и нощно и которое является великим делом и только по несчастному стечению обстоятельств доверено убогой душе или, вернее, душе, пришедшей в убожество от испытанных ею унижений. Он говорит возбужденным шепотом, словно передавая государственные тайны:
– Победы свободной мысли они все равно не в силах задержать. Для всех народов уже сияет провозглашенная великими умами свобода, только нам закрывают к ней доступ. Но я сделаю разоблачения, я теперь занят этим. Ты заметил, как Мунка «парнес» сам не свой от страха, он даже спать не может. А отец твой, – я недавно его встретил, – тоже совершенно осунулся.
– Это из-за изгнания, которое нам угрожает, – заметил Давид.
Последовавшая за этими словами выходка Гиршля ошеломила его, хотя, в сущности, по опыту прежнего времени, он мог ожидать чего-нибудь подобного.
– Нет, это они боятся меня. Всякая неправда мстит за себя, а значит, и неправда, причиненная одинокому, беззащитному учителю. У всех у них совесть нечиста передо мною. Да, теперь обнаружились такие дела, такие злоупотребления! Я собираюсь разоблачить их. Ювелир Яков Кралик – мой приятель, его выберут старшиной, и тогда настанет мое время.
– Это будет пришествие Мессии, – сказал Давид.
Не замечая иронии, Гиршль с восторгом повторил:
– Да, пришествие Мессии.
Давид с грустью задумался над миром призраков, в котором жил Гиршль. Как несокрушим этот мир!
Недавно разбогатевший ювелир, партия которого все больше усиливала свое влияние, разумеется, так же мало станет заботиться о Гиршле, как и прежние старшины. Школа Гиршля никого не интересовала. Это было давно решенное дело и никого оно не волновало, кроме самого Гиршля. Его мнимые противники отделывались от него небрежными жестами, они даже не считали его врагом, заслуживающим внимания, но именно в этом он не хотел сознаться. Он был убежден, что его ненавидят, что всюду, где он появляется, он вызывает возбужденное сопротивление, что борьба из-за его школы стоит в центре всех общинных дел и если не является сама по себе мировым событием, то, во всяком случае, символом, отражением нового времени в стенах гетто. Это обычное явление на еврейской улице, что всякий кажется себе центром мироздания. Но ни у кого воображение не работало столь упрямо, как у Гиршля, освещая все искусственным светом, так что действительные отношения казались совершенно неуловимыми. «Может быть, мало кому это в такой степени нужно, как убогому учителю, которого все презирают! – думал Давид. – Он слабый, измученный человек, но разве эти слабые не являются худшими из всех?»
И особенно противно было Давиду, что перед лицом бедствия, угрожающего его народу, Гиргаль думал только о собственной вражде к старшине и к его отцу.
– Наверное, проведут тебя в совет, – приставал к нему Гиршль. – Мне стоит сказать только слово. А ты будешь тогда защищать мои интересы, как ты мне неоднократно обещал?
«Против родного отца», – подумал Давид и улыбнулся, так как нашел хорошую отговорку.
– Да ведь меня не пустят…
– Я знаю, – поспешно прервал его Гиршль. – Вот именно об этом я и хотел сказать. Недостает одного условия. Ты должен жениться. Пока существует это варварское правило, что нельзя забирать в совет неженатых…
Давиду скоро должно было исполниться девятнадцать лет, и он давно уже достиг того возраста, когда родители и добрые знакомые подыскивают молодому человеку подходящую невесту. Таков был еврейский обычай.
Гиршль продолжал приставать к Давиду:
– Тебе все равно уже пора. Тебя несколько раз видели с христианской девушкой.
Положение становилось серьезным. Очевидно, замечание Гиршля о том, что Давид занимается до рассвета, было не так невинно. Давида охватил мрачный гнев. Кто смеет мешать его счастью? Кого это касается? Горе тому ревнителю веры, который станет на его пути к Монике, ко всему, что было хорошего и успокаивающего в его мучительной жизни!
– А вам это не нравится? – упрямо спросил он.
– Это не принято.
– И это говорите вы, который учил меня презирать предрассудки.
– Я ничего не говорю против потребностей тела, – ответил Гиршль с отвратительной улыбкой, – но это показывает, что тебе пора жениться.
Давид вскочил в бешеном гневе.
«И для того, чтобы приходить сюда, в свое время я не остановился перед первым обманом в своей жизни!»
Он сначала подумал, что может спокойно предоставить события их течению и посмотреть, как Яков Кралик будет слушаться внушений Гиршля. Но он с негодованием отверг такую тактику.
– Я никогда не женюсь и не буду членом совета! – злобно крикнул он.
Это было открытое объявление войны. Гиршль так это и понял. Дрожа, подошел он к полкам с книгами и, держась за них, тяжело перевел дыхание. Он казался большой мухой, прилипшей к радостной мудрости всех народов всех времен.
– Значит, ты изменяешь мне? Забыл все, что было в прошлом? И это как раз тогда, когда обстоятельства складываются благоприятно для меня, когда я нашел себе высоких покровителей, когда я в первый раз обратился к тебе с просьбой, к тебе, моему духовному сыну, ростку моего виноградника! И ты отказываешься, ты предаешь меня, а вместе со мной предаешь прогресс и просвещение?
Давид холодно и с чувством отвращения думал – «он декламирует». Но при этом он ясно чувствовал, что Гиршль говорит все вполне серьезно. Однако какие карикатурные формы принимали у него все человеческие переживания, даже когда они серьезны!
Его отвращение быстро перешло в ненависть, когда Гиршль, коварно поглядывая на него, стал продолжать свою речь. Сначала он ожидал, что Давид пойдет на уступки, но когда тот продолжал молчать, Гиршль утратил всякую сдержанность.
– В таком случае я предостерегаю тебя – ворота плохо охраняются, необходимо, чтобы ключ всегда был здесь – может вспыхнуть пожар, и что будет, если не сумеют открыть ворота и побежать за водой к реке? Отвечать будет твой отец – он управляет всеми воротами.
Давид побледнел. О такой возможности он не подумал – что его любовь может стать угрозой его отцу.
И как хорошо знал Гиршль все слабые пункты его позиции! Очевидно, он давно тщательно обдумал свое нападение.
– Ведь сумасшедшего Герзона привратником назначил твой отец, – неудивительно, что сыну потворствуют в его разврате.
Давид поднял кулак.
– Ударь. Подыми руку на своего старого учителя. Я ничего не боюсь. Никогда не боялся. Перед королями и князьями провозглашал я истину.
Тщедушное тело Гиршля выпрямилось, и он загудел торжествующим голосом:
– Я пущу здесь в ход все средства, не остановлюсь ни перед чем в борьбе с красным еретиком. Почему ты смеешься?
По бледному лицу Давида действительно пробежала презрительная улыбка.
– Потому, что вы так негодуете на еретика Герзона, тогда как вы сами гордо называете себя еретиком, – сказал ему Давид и ушел.
Но за этой улыбкой скрывалось ужасное решение: «Хромой учитель должен исчезнуть, – отчетливо сказал себе Давид. – Я не могу допустить, чтобы за мной следили, чтобы угрожали моей любви, да еще старику Герзону и отцу, этому святому человеку, который, не ведая ни о чем, сидит у себя в комнате, склонясь над священными книгами». Хитрые затеи Гиршля казались Давиду вдвойне презренными, когда он думал о старике отце, совершенно не подозревающем об опасности, которая ему угрожает. «Ладно. Если учитель считает себя вправе, наподобие тех итальянских тиранов, о жестокости которых он мне так часто рассказывал, творить всякие злобные дела, не считаясь с требованиями нравственности, тогда он враг и тогда у меня тоже нет по отношению к нему никаких обязанностей: противопоставляю силе силу».
Его опьянила мысль о зверском убийстве. В голове бродили воспоминания о жестоких пытках Бернабо Висконти и Ферранте. Ради губ Моники никакой грех не будет слишком дорогой ценой. Ему казалось совершенно легким, простым делом пойти завтра же к Гиршлю, напасть на него, связать его и верным ударом в сердце заставить умолкнуть навек, и потом, не боясь шпионов, отправиться к Монике, уже действительно как Марс к Венере, и безмерно счастливо любить ее до конца.
«Дай мне остро отточенный кинжал и веревки», – написал он на клочке бумаги глухонемому приказчику. Тувья замахал руками. Его широкий рот с красными, яркими губами судорожно раскрылся.
Давид только посмотрел на него настойчивым, твердым взглядом. Он знал, что Тувья предан ему смешанным чувством слепого повиновения и безмолвного протеста. Вечером у него будут кинжал и веревки.
XVII
Так действительно и было. Когда он вечером плыл на лодке к Монике, оружие лежало у него в мешке. Завтра утром он весело и легко совершит это дело. С городского вала он пробрался через дверцу в погребе; на том самом месте, где Моника в первый раз поджидала его на коврике, он споткнулся о большой узел с платьем. Он не обратил на него внимания и быстро побежал знакомым путем по лестнице, через двор, через погреб и по винтовой лестнице к Монике.
– Ты ничего не заметил? – спросила она его после первых поцелуев, – ничего не заметил в погребе под башней?
Затуманенный теплом ее тела, запахом ее волос, он не вспомнил о странном узле. Она взяла свечу и повела его в погреб.
По дороге, вопреки своему обыкновению, она не переставала возбужденно болтать.
– Так лучше – иначе он бы покончил с тобой, лучше предупредить.
Когда они пришли в погреб, она сказала:
– Разве я плохо его запрятала? Ведь было бы неосторожно оставлять его на дворе. Ты должен поблагодарить меня.
Давид не понимал ее возбужденного шепота. Тогда она подняла свечку. На пороге лежал какой-то человек в темном плаще, без движения. Моника посветила ближе и пытливо посмотрела в лицо Давида. Он смущенно передернул плечами, не понимая, чего она от него хочет.
– Значит, это дело бургграфа, – сказала она, и что-то вроде раздражения прозвучало в ее голосе. – В конце концов, мне ведь все равно, кто его укокошил.
Давид сорвал плащ с лежащего человека. Убит.
Это был первый труп, который он видел в своей жизни.
Он уже не помнил, как происходили похороны его братьев и сестер. А этот человек – он еще вчера, может быть сегодня, был жив.
Это был крупный, рослый человек.
Давид боялся подойти ближе.
Он сразу похолодел, почувствовал, что еще никогда серьезно не задумывался над смертью, никогда не представлял себе, каким должен быть в действительности мертвец. Моника тоже была возбуждена, но иначе, чем он. Он молчал, а у Моники возбуждение проявлялось в том, что она не переставала говорить. Она, обычно такая уравновешенная и спокойная, теперь, по-видимому, нуждалась в утешении и в громких рассуждениях.
– Ты должен радоваться, – сказала она Давиду, – тебе нечего с таким ужасом смотреть на этого свирепого парня, который только и думал, как бы погубить тебя, всех вас.
Каждый день он бегал к шефенам. Выгнать евреев – больше он ни о чем не думал. Обленился, перестал работать. Мой отец давно уже прогнал его. С тех пор он постоянно околачивается здесь, около кузницы. Я встречала его здесь каждый вечер на дворе. Я так боялась, мне он тоже угрожал. А сегодня вечером я нашла его меж кустов у стены. Должно быть, господин фон Розмиталь велел своим слугам укокошить его. Я сама его собственными руками притащила в погреб. Радуйся же, что теперь все миновало. Ну же, радуйся!
– Кто это такой? Кто? – пробормотал Давид.
Моника присела на корточки около трупа, подняла лицо, искаженное гримасой, и, подражая покойнику, крикнула:
– Мы еще придем!
Только теперь Давид узнал покойника. Только теперь ужас пронял его до самого сердца, так что оно сначала совсем перестало биться, а потом забилось вдвое сильнее. Черный Каспар, подмастерье из кузницы, – и как он обезображен! На бледных губах свернулась кровь, умирая, он прокусил себе язык, и тот свисал изо рта. Это было ужасно! Давид не в силах был этого перенести. «Вот из этого искаженного рта еще недавно вырывались такие яростные проклятия! Этого кулака, который судорожно сжимал пустое пространство, так боялись! Этот взгляд, теперь такой пустой и бледный, ожег меня однажды в утреннем сумраке так, что я даже издали ощутил пламя, а теперь в нем только холод и оцепенелость. Все живое ушло. Оно опровергнуто, и опровергнуто таким свирепым ударом, что даже прошлое кажется уничтоженным. Даже то, что было, кажется чудовищной небылицей».
– Это часто бывает, что в драке убивают кого-нибудь из немцев, – болтала Моника. – Хорошо, что он нездешний, иначе к нам сейчас стало бы приставать начальство.
«Так, значит, вот какой в действительности человек, – думал про себя Давид, – смерть окончательно формирует его. То, что было раньше, это только несколько прыжков и судорог, а под конец человек лежит тихо, как пустой футляр, с открытым ртом, словно он выплюнул свою душу. И таким он остается навек. Нет, даже и таким не остается… – Давид закрыл лицо руками. – Наступает гниение…»
– Да тебе, никак, жаль его? Неужели ты плачешь? Он бы не стал долго задумываться и укокошил бы тебя, если бы ты попал к нему в руки. Это заслуженное наказание и справедливая месть.
– Месть?
Давид не ощущал потребности объяснять Монике, до какой степени фальшивым и ничтожным показалось ему внезапно все то, что он думал о наказании и мести, о действии оружием. Мстить врагам – это заманчивая идея, если бы только это не было так глупо! Ведь этим только самого себя дурачишь. Убиваешь врага, и вот он лежит мертвый и неподвижный, как Каспар у ног Давида. Но тем самым месть не попала в цель, потому что перелетела далеко за нее. Сделала бесчувственным того, кому хотела дать себя почувствовать, и теперь он уже ничего не знает о вражде и мести и всем прочем, что делается на свете, он уже навеки стал недоступен всякой мести. Хотелось погубить его, унизить, а теперь он так загублен, так принижен – ниже растения, ниже камня, что человек уже не может ничего с ним поделать. Надругаться над ним – он не услышит, наступить на него ногой – не почувствует. Он даже ничего не делает, только… смеется. Смеется так громко и гулко, что уши человеческие не в состоянии вынести этого. Если внимательно прислушаться, то, в сущности, дьявол смеется из трупа, издевается над одураченным мстителем. Весь погреб наполнен этим дьявольским ржанием и хохотом. Давид вспомнил, что Ферранте в Неаполе бальзамировал убитых им врагов и ставил их в том платье, которое они носили при жизни, в той комнате, куда он часто и с удовольствием заходил. Должно быть, этот человек был глух, ведь его комната, наверное, грохотала от презрительного дьявольского смеха!
И есть все-таки люди, которые этого не замечают, которые не чувствуют бессмысленности убийства. «Не убий». И Давид подумал: «Не то существенно, что есть такой запрет. Убивать – более чем запрещено. Убивать невозможно! Это противоположно природе человеческой, разуму, простому движению чувств. Поднять руку на ближнего, одним единственным ударом или уколом разрушить то, что создали года, – это грех».
Но ведь он мечтал о зле. «Мы грешим слишком мало» – ведь это за последнее время стало буквально его еврейским символом веры! Разве он не хотел научиться у Моники именно ее безмятежной отваге, ее беззаботности, уменью делать без раздумья то, чего ей хотелось. Да, грех, грех! Он ведь почти гордился своей греховностью. Но разве он знал, что такое грех? Восхищение смелыми походами и путешествиями в неведомые страны, гордость, внушаемая знаменем, которое хранилось в синагоге как напоминание о борьбе, гордость, внушаемая ужасами в крепости Бетар и всеми битвами, описанными в трактате «Гитин», любовь к турнирам, к великолепным шлемам городской стражи – все это показалось теперь ему легкомысленным и презренным, не продуманным до конца. В этом мертвеце с бледным лицом и прокушенным языком перед ним впервые встал грех во плоти и приводил его в ужас. Разве он когда-нибудь представлял себе, что перед храбро защищаемыми стенами Иерусалима, перед бурным натиском высадившихся португальцев кучами лежали убитые, несчастные, разорванные в клочья, приведенные в негодность люди, и у каждого, как у этого мертвеца, лицо было запачкано кровью?
«Не убий!» Убийство есть великий, настоящий грех. Но безобразным убийством кончается все, что во всех четырех мирах начинается так красиво и таинственно, гордой поступью, бряцанием оружия, красотой и веселою радостью и тайной великого дракона.
– Помоги же мне, – слышит он тихий голос Моники, в то время как кровь стучит у него в висках. – Нам надо вынести его отсюда.
Рядом с большим сводом погреба имеется маленькая каморка, дверь которой открыла Моника.
– Если найдут труп, мне несдобровать.
Давид посмотрел на нее, ничего не понимая.
– Ведь все-таки его убили из-за меня. Что не ты это сделал, это ничего не меняет.
Ему показалось, что она презрительно скривила губы. У него мелькнуло в голове: «Она – Венера, но как далек я от Марса»…
– Разве его не будут хоронить? – спросил он взволнованно.
– Я ведь сказала тебе: надо, чтобы не нашли его трупа.
– Ну, а как же с христианским погребением, – так ведь вы это называете?
– Поторопись, – у нас мало времени.
Она наклонилась к покойнику, схватила его подмышки. Давид все еще был неподвижен.
– Мне кажется, что ты, в сущности, язычница, а я, хотя еврей, но… больше христианин, чем ты.
Но он устыдился ее взгляда, который явственно говорил, что здесь не место для религиозных диспутов. Он не хотел заставлять ее одну тащить это тело.
«Значит, и тут есть палата мумий, как у Ферранте, и я каждую ночь буду проходить мимо мертвеца, когда буду прокрадываться к своему греху. О, я теперь только и узнаю, что такое грех».
Его так взволновали эти мысли, что он сначала не заметил, как тащил мертвеца. Но вдруг ему показалось, что холод трупа пронизывает плащ, к которому он прикасался.
И, вскрикнув, он бросил ношу и отпрыгнул в сторону. Прислонившись к стене и дрожа, он смотрел, как Моника одна скрылась с трупом в двери, ведущей в темную каморку. Не прощаясь с ней, он спустился к городскому валу и побежал к лодке.
«Какой я трус, – злобно говорил он себе. Зубы у него стучали, ноги скользили. – На этом самом валу я однажды вообразил себе, что беру приступом вражеский город. Да, если он не будет защищаться, если не будет течь кровь! О, как низко! Действительно ли низко? Нет, нет, пусть будет так, как оно есть, это все же лучше, чем убивать! Все на свете лучше, чем убийство. Следует быть добрым, хотя бы пришлось казаться жалким! Только не убивать! Только не грех, только не оружие и злоба!»
Все, что он передумал и пережил за последние годы, казалось словно опрокинутым при виде трупа. Смятение, груды развалин в сердце его.
Когда он входил в лодку, что-то зазвенело. Оружие в мешке. «А я, я хотел убить Гиршля – ранним утром и весело. Какие жалкие глупости я говорил!» И его охватил ужас перед собственной незрелостью, перед стремительной сменой мнений, перед неуверенностью, с которой он шел. Он не знал, куда ему идти. Вернуться к учению, жить как все евреи? Ему вдруг захотелось видеть отца. Снова найти путь к благочестивому отцу. Отбросить от себя, как что-то нечистое, все эти приключения, которые он переживал, жить мирно среди огромных книг, как ребенок.
Когда он выехал на середину реки, он бросил мешок в воду. Кинжал зазвенел. Веревки коварно зашуршали, вода забурлила, и все кончилось.