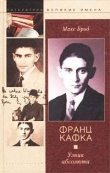Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
VIII
В Риме мрак и ужас: в некоторых частях города, как Треви, Кавалло Писчино, вокруг Эсквилина, в квартале Порта дель-Пополо обнаружилась чума. Целые улицы оцеплены тяжелыми цепями, никого не пропускают. Только стражники и могильщики с масками на лицах и смоляными факелами в руках ходят туда.
Мрак и ужас. Успехи императорской армии в верхней Италии разбудили старую кровь бунтовщиков в семье Колонна. Римские бароны, сломленные династией Борджиа и властным папой Юлием, снова торжествуют победу, предвкушают месть. На улицах по ночам раздаются крики: «Да здравствует Испания! Да здравствует империя! Да здравствует Колонна!», а сторонники Медичи, верные их гербу с изображением шара, боязливо закрывают окна.
Папа тоже охвачен боязнью, он слушает доклад господина Марсо, который часами рассказывает ему о новых военных приготовлениях Франции и о большем войске, которое король Франциск собирает у Авиньона. Папа дает аудиенцию герцогу Сесса, посланнику императора. Это элегантно одетый грубиян, который приходит каждый раз со все более беззастенчивыми угрозами. Папа предпочел бы не видеть их обоих: и любезного болтуна, и грубияна. Но коллегия кардиналов, в которой наряду с приверженцами императора много симпатизирующих французам, заставляет его, вопреки своему желанию, все чаще и серьезнее вести переговоры с обеими сторонами. Как будто эти переговоры чему-нибудь помогут!
Климент отлично знает, что все зависит исключительно от счастливого случая, а именно: удастся ли ему в последний момент примкнуть к тому, кто одержит решительную победу, но что он почти совершенно не в силах что-нибудь сделать для того, чтобы обеспечить победу той или другой стороне. Сознание своего бессилия и при этом – огромной ответственности приводит его в грустное настроение. Ни современники, ни потомство не пощадят его, если он, на свое несчастье, поставит не на ту лошадь. И уже теперь по улицам бегает опоясанный лишь кожаным передником пророк Брандано с развевающимися рыжими волосами, с распятием в одной руке и с черепом в другой.
«Рим, покайся, – восклицает он, – тебя постигнет участь Содома и Гоморры!» Когда папа благословлял народ на площади Святого Петра, полуголый Брандано взобрался на статую Павла и визгливым сумасшедшим голосом осыпал его ругательствами. «За грехи свои будет разрушен мир». Разве он грешит? Он разумнее и добрее своих предшественников, но военные бедствия он не в силах отвратить, точно так же, как не может приостановить распространение ереси в Германии и наступление турок на Венгрию. Теперь отчаянное время, парализующее человеческую волю: ежедневно чума уносит двести человек. Всякий боится проснуться утром с голубыми нарывами подмышками – ужасным знаком чумы. Неудивительно, что снова появились фанатики-флагелланты. Босыми ходят они по городу, обходя семь паломнических церквей, яростно бьют себя по голым спинам треххвостными кнутами. Святые Дары носят на разукрашенных носилках, которые держат на плечах четыре священника, одетые в полотняную одежду. Это должно напоминать шествие Израиля со скинией Завета вокруг стен Иерихона. Испуганный народ умоляет Бога вспомнить старый союз. «Misericordia! Misericordia!» – раздается из тысячной толпы. Но слышит ли Бог? Молния ударила в церковь Санта-Мария Маджоре. Ночью страшный шум будит римлян. В воздухе видят полчища вооруженных людей, все они без голов и размахивают алебардами над несчастным городом.
Но не все поддаются ужасам этого печального времени. Есть люди, которые, как Бенвенуто Челлини, отправляются в Кампанью, изучают развалины прошлого и стреляют диких голубей, свивших себе гнезда в развалившихся стенах. Образуется общество художников, скульпторов и золотых дел мастеров, в котором верховодит Джулио Романо, иллюстратор нашумевших «позиций» Аретино. По воскресеньям каждый приводит с собою свою «ворону» (так называют они своих любовниц), и устраивается веселое пиршество. Более образованные люди – поэты и ученые – встречаются в «Римской академии», которая собирается иногда на вилла Колокчи, иногда у кардинала Эджидио, а охотней всего – в прекрасном большом саду у форума Траяна, который разбил у себя благодушный Гориц фон Люксембург, начальник канцелярии по приему прошений, друг всех гуманистов, один из немногих немцев, состоящих на службе при римской курии. Здесь устраиваются простые обеды и ведутся остроумные разговоры; нацепляют на деревья сонеты, в которых воспевается старик-хозяин, его гостеприимство и «приятный гнев». Гориц яростно ненавидит все уродливое. То, что преподносится в благородных формах, по образцу древних, приветствуется им, будет ли это эпос Санацарро «О рождении Святой Девы» или описание новой загадочной болезни «Syphilis sive de morbo gallico – libri tres», сделанное Фракастарро в стихах, подражающих Вергилию. Это и многое другое впервые становится общественным достоянием благодаря чтениям у Горица. Здесь люди находятся в своей компании, хвала и порицание выражаются свободно, скромное угощение подкрепляется превосходным настроением. Пиршества у крупных банкиров носят более пышный характер. Все эти Киджи, Спаноки, Альтовати соперничают в блестящих празднествах с кардиналами, из коих один только Ипполит Медичи имеет у себя на иждивении триста художников и разных литераторов. Одни воспевают его славу, другие выдумывают танцы и представления для его званых вечеров.
А на следующее утро страшные вести из Ломбардии, гром оружия, доносящийся издали.
А вечером пир у прекрасной Туллии. Она «meretrix honesta», знатная куртизанка и возлюбленная Филиппо Строцци, доверенного лица папы. Здесь тоже читают сонеты и эпиграммы, декламируют старые произведения вроде «Гермафродита», написанного Антонио Бекаделли, утверждение которого, что «гетеры полезнее самых благочестивых монахинь», было встречено смехом и восторгом. И вдруг все затихает, раздаются дрожащие звуки кем-то настраиваемой гамбы. Сейчас будет играть знаменитый Якопо Сансекондо, величайший музыкант Рима и такой красивый, что Рафаэль изобразил его в своей картине «Парнас» в Camera della Segnata в виде Аполлона, хотя он и еврей. Сама хозяйка затягивает песню. У нее превосходно обработанный голос. Песню эту сложил когда-то Лоренцо Великолепный, повелитель Флоренции, для своей пьесы с пением «Вакх и Ариадна».
* * *
В стороне от всего – еврейская община. Ее не интересуют ни тревожные вести, ни колдовство, ни шумные пиршества. Там, где живут евреи, вокруг «Platea Judaeorum» у моста Кватро Кампи, в Трастевере, всюду говорят об одном – о Реубени. С тех пор как его принял папа, не было такого еврея, который был бы равнодушен к этому человеку. Одни им восторгались, другие ненавидели, одним он внушал уважение, другим отвращение, но приверженцев было уже значительно больше, чем скептиков. Самые невероятные ожидания предшествовали каждому его шагу. Еврей, которого сильные мира принимали не как просителя, а как равного, который выступал перед ним как независимый правитель! Со времени великого Ирода не было тому примера! Ведь это должно было коренным образом изменить положение загнанного, преследуемого всюду, безнаказанно мучимого народа! По всей Италии, по всем странам, где были рассеяны евреи, из уст в уста переходила весть: «Бог не отвращает больше лица своего, мы – дети царей, и царство возвращается к нам».
Было известно, что обе бронзовые колонны в базилике Ватикана взяты из храма Соломона и что каждую субботу вечером на них появляются капли, словно они оплакивают позор изгнания. Базилика была уже наполовину сломана, чтобы очистить место для нового собора Святого Петра, но та часть, где находились бронзовые колонны, еще уцелела. Евреи ходили по субботам вечером смотреть на них. О, чудо! колонны больше не плакали.
Бог сжалился над Иерусалимом. Близок конец!
Ходил слух, что по ночам под аркою Тита раздавался жалобный голос, возвещавший о падении Рима. Рим разрушил храм, а теперь храм разрушит Рим. Суеверные евреи всегда избегали проходить через Триумфальную арку – памятник их поражения. Только когда в город въезжал новый папа, их заставляли, с целью унизить их, украшать коврами эту самую арку Тита. А теперь каждый вечер можно было видеть евреев, в особенности молодежь, среди развалин форума около арки или в самой арке. Они напоминали собою черное стадо баранов между камнями, заросшими кустарником. Они проводили там целые ночи; все хотели слышать пророческий голос. В каждом веянии ветерка, пробегавшего по груде развалин, слышались таинственные звуки, словно где-то играли на арфе. И, наконец, раздавался этот голос: «Пробуждение, пробуждение»…
Народ дрожал от страха и любви, когда Реубени показывался. Шепотом рассказывали, что cap знает неискаженное имя Бога, которое пишется семьюдесятью двумя буквами. Даже в книге «Разиель», книге великих тайн, это подлинное имя Бога не приведено полностью. Если его выговорить, то небо заполняется огненным пламенем. С нетерпением ожидали того момента, когда господин сядет в убогом одеянии вместе с нищими на Тибрском мосту, у замка святого Ангела, чтобы на следующий день объявить себя Мессией. Ибо так было предсказано и так должно было исполниться буква в букву.
Одно-единственное событие: Реубени. Вся община ничего больше не хотела знать. Правда, мнения были различны, и вражда, с давних пор господствовавшая между сторонниками одиннадцати синагог, получила новую пищу. Кем был Реубени? Мессией или его предтечей, или только князем, который приносил с собою светскую помощь вместо ожидаемой помощи Божией? А от этой светской помощи не будет ли еще беды для еврейства? Или, может быть, он был волшебником и лжепророком? В таких предостерегающих голосах не было недостатка. Но большинство из тех, кто и слышать не хотел о его Божественном происхождении, придавали тем большее значение тому обстоятельству, что весть о потерянных коленах Израилевых, которую он принес в Европу, поднимет авторитет еврейства и внесет новый фактор в соотношение политических сил.
Это вынужден был признать даже Обадия де Сфорно, хотя это несколько мешало его излюбленной мысли, что спасение евреев придет от брата Мартина Лютера. Подчиняясь возраставшему воодушевлению, он не мог не признать, что Реубени очень ловко защищал свое дело перед кардиналом. Особенно тонко было сделано указание на заигрывание кардинала с каббалой, удачны также были похвалы по адресу Рафаэля. Этим посол хотел показать, что евреи не чужды новому светскому образованию.
IX
Сар проявлял мало интереса к той суете, которая создавалась вокруг него. Он редко показывался на людях, большую часть времени проводил в своих комнатах. В равной мере уклонялся от встреч с друзьями и врагами, ни с кем не беседовал, кроме чиновников курии, которые должны были передать ему ответ папского двора. По нескольку раз в неделю он посещал кардинала Эджидио, с которым запирался для длительных бесед. Иногда к нему приходил необузданный, веселый Аретино; однажды вечером он привел с собою капеллу папских флейтистов и устроил импровизированный концерт в честь сара. И странно было, что два таких столь противоположных человека, известный насмешник и серьезный молчаливый посол нравились друг другу. Встречи их повторялись. Может быть, сначала папа сам обратил внимание Аретино на Реубени и послал его в качестве доверенного лица с поручением, но впоследствии Аретино приходил по собственному желанию. Его не всегда тянуло в веселое общество. Наоборот, он часто предпочитал склонных к грусти людей, как папа Климент или еврейский посол, ему нравилось подобно бабочке порхать вокруг них со своими шутками. Он словно трудился над разрешением загадки, как можно грустить на этой прекрасной, сочной, сладострастной земле.
Аретино привел сара к Иоанну Горицу. Римские литераторы, поэты и ученые заинтересовались им, они ожидали красочных описаний далекого еврейского царства, казавшегося чудом. Дружески приветствуемый самим Горицом – «senex Coricius», так называли его гуманисты, намекая на корицийскую пещеру на Парнасе, – Реубени принял участие в празднестве, организованном в саду. Там читали стихи, прославляли доброго немецкого покровителя всех художников, любителя античного мира. Вспоминали гостеприимные вечера в его вилле, воодушевленные веселой беседой, которые никогда не переходили в низменные сплетни, следуя правилу, которое было начертано на красивой цистерне, стоявшей в саду: «Bibe, lava, tace». Реубени среди этих образованных, веселых, остроумных людей напоминал темное облачко, двигающееся по ясному небу. Иногда, присоединяясь к какой-нибудь группе, он произносил несколько слов, но вскоре этот человек, прибытия которого ожидали с таким нетерпением, оказывался один в стороне от всех, на мраморной скамье под темным лавровым деревом. Кругом были руины капитолийского склона и форума Траяна; их бережно сохранили при разбивке сада. Камни были так же молчаливы, как он сам. Лишь иногда приходил Аретино, осведомлялся о его самочувствии и сейчас же убегал. Другие стояли в стороне и смотрели на человека, погруженного в свои грустные мысли. Было в нем что-то жуткое, не допускавшее к сближению. Он сидел, и казалось, что он каждую минуту может вскочить и в яростных словах излить свое отчаяние. Его лицо и поза свидетельствовали, что в этом человеке сознание своего достоинства и силы борются с порывом, способным разбить все оковы и перевернуть все его существо.
Никто не решался заговорить с этим одиноким человеком. Он приподымал голову, словно прислушивался к этой внутренней борьбе, а рукой держался за бороду, точно искал опоры.
По отношению к евреям он был еще более сдержан, нежели в христианском обществе. На празднествах у римлян он еще появлялся, хотя и держал себя замкнуто. Но от разговоров с евреями он почти совершенно уклонялся. Речи евреев часто выводили его из терпенья. Они говорили не то, что надо. То, что он желал бы сказать, казалось предназначенным не для них, а то, чего они хотели, не интересовало его. И тогда в его темных глазах вспыхивали желтые огоньки, целый дождь искр, а в уголках рта на мгновение вздрагивала гневная складка.
Но во всем этом отрицательном отношении к евреям не было никакой враждебности. Чувствовалась только боль, крайнее напряжение, бдительность и что-то вроде сознания огромной ответственности. Однажды в конце недели, в течение которой он снова питался только скудной пищей, ему подали бокал с подкрепляющим напитком. Он попросил воды с сахаром, сказав, что так он привык заканчивать свой пост, но его заставили выпить вина. После этого он заболел. Он очень боялся, как бы не подумали в публике, что его собственные соплеменники тяготятся им и отравили его. Опасение, что на общину падет подозрение в убийстве, волновало его больше, нежели страх за собственную жизнь. Даже во время приступа лихорадки, когда другие стучат зубами, он сохранил свою вдумчивую энергию, приказал прежде всего позвать врача христианина и дать ему исследовать вино, оставшееся в бокале, из которого он пил. Было установлено, что вино не содержит в себе ничего опасного. Он потребовал к себе нотариуса, который составил протокол обо всем происшедшем, и в заключение протокола Реубени собственноручно начертал еврейскими буквами: «Они желали этого для моего блага, потому что не знали моей природы, да будут же они благословенны, хозяин дома и старшина». Лишь после этого он подумал о себе, заказал горячую ванну и ночью несколько раз пускал себе кровь. На следующий день он поставил банки, вообще обнаружил пристрастие к самым резким способам лечения. Всякие легко действующие средства он отвергал. И к болезни он проявлял только чувства ненависти и раздражения. Все его состояние напоминало состояние борца в бою. Слышно было, как он бормотал ругательства по адресу невидимого врага. Его губы выражали отвращение и презрение. Казалось, что перед ним стоит противник, но он не признает его равным себе, а отшвыривает его в угол, издевается над ним. Иногда он напоминал сумасшедшего. Его сожители, встревоженные, стояли у постели, в которой яростно метался больной, совершенно не похожий на обычных больных. Он взглянул на них и стал утешать их.
– Я знаю, что я не умру, пока не приведу изгнанников в Иерусалим.
Боль его усилилась, зубы оскалились, он терял сознание. Когда он пришел в себя, первые его слова, произнесенные с необычной простотою, были:
– Не бойтесь, потому что я знаю наверное, – я не умру от этой болезни.
Настал вечер, больной горел в лихорадке. Иосиф Царфати – хозяин дома и врач, – исследовав его, нашел состояние весьма тревожным и считал долгом рекомендовать умирающему молитву «видцуй» – покаяние в грехах. Он сделал это с обычным обоснованием, что такая молитва «не приближает и не удаляет смерти». Но cap злобно выпрямился и хриплым голосом, который едва был слышен, но который таил в себе скрытый звук трубы, сказал:
– Нет, я не произнесу этой молитвы, потому что Бог со мной, я нужен ему для его работы, вы же – уходите, – и угрожающим жестом заставил встревоженных людей покинуть его комнату.
На следующий день, после сильного пота, опасность миновала.
Прежде всего он потребовал себе новую комнату. Та, в которой его застала болезнь, была ему противна.
Его поместили в одной из комнат, которые обычно занимала младшая сестра Царфати, Дина. В открытые окна из сада проникал аромат первых летних цветов, пальмы бросали в окна свою тень, пронизанную теплыми зелено-золотистыми лучами солнца.
Дина ухаживала за больным. Кризис миновал, но последние судороги болезни еще в течение долгих дней и даже недель терзали голову и тело нетерпеливого больного. По вечерам, когда лихорадка усиливалась, он жаловался, что змеи Лаокоона подползают к нему.
Она пыталась его утешить и заводи та речь о его деле, которое он называл «благою вестью». Сначала она это делала крайне осторожно, потом, когда ей показалось, что он не без удовольствия беседует с нею, она бурно высказала ему свою веру в него. Она в него верила с самого начала, увидела в нем спасителя народа. Ее красивое лицо густо покраснело, когда она обратилась к нему с словами таинственной книги Даниила: «Ему даны величие и царство».
Он улыбнулся.
– Значит, не доктору Мартину Лютеру?
Он знал, что в доме часто бывает старшина де Сфорно, который имел большое влияние на Иосифа Царфати.
– Может быть, Лютер выполнит великие дела для своего народа, – ответила она умно и серьезно, – а вы – для своего.
– Это хорошо сказано!
Ее ясные, простые мысли хорошо действовали на него, так же, как и ее спокойный невинный взгляд. Темно-каштановые волосы, сложенные в высокую прическу, – они у нее были очень густые, – обрамляли лицо у самых глаз, золотисто-карий блеск которых смягчался длинными густыми ресницами. Круглые щеки, розовые и в ямочках, твердой линией облегали бледно-розовые, плотно сжатые губы, открывавшиеся только во время речи.
Приободренная его похвалой, она продолжала.
– Последние папы все относились к нам хорошо, и я не вижу, почему нам следует желать крушения их власти?
Он посмотрел на нее насмешливо и в то же время нежно, как смотрят на умного ребенка, который приводит в изумление своими познаниями и стремлением походить на взрослого. А она его упрашивала:
– Скажите еще что-нибудь, учитель! Я так охотно слушаю вас.
– Наша ошибка, – сказал он задумчиво, – заключается в том, что мы ожидаем нашего спасения всегда извне – от других. Когда я недавно был в Венеции, там только и говорили, что об английском короле Генрихе. Некоторые вбили себе в голову, что он будет еврейским Мессией, если мы поможем ему расторгнуть брак и жениться на Анне Болейн. Здесь, в Риме, я вижу, что все взоры устремлены на германского монарха. Мы постоянно заняты чужими заботами, постоянно мы на положении паразитов, – если не у чужих радостей, то, по крайней мере, у чужого горя. И ничто не служит нам уроком.
– Что же следует нам делать?
Он глубоко вздохнул и уже больше не слышал ее вопросов и речей, а всецело ушел в свое горе. Она заметила, что он не обращает на нее внимания, и тихо вышла из комнаты.
X
Чтобы развеселить его, она на другой день привела с собой трех подруг. Девушки пели мадригалы в четыре голоса, потом танцевали. Музыканты на лютнях и скрипках аккомпанировали им. Дина отвесила поклон Реубени:
– Это мы делаем в вашу честь, господин, чтобы вас покинула печаль.
И снова закружились стройные девичьи руки, изгибались в танце нежные тела в такт мелодии. Голубой воздух, запах травы, шелест пальмовых листьев за открытым окном. Радостью выздоровления дышала насыщенная ароматом комната и весело приветствовала танцующих.
– Нравятся вам наши танцы? – спросила Дина.
Реубени слабо кивнул головой.
– У вас хорошие намерения, но Бог знает мои мысли и знает, что сердце мое денно и нощно принадлежит его делу.
Девушки удалились.
– Дина!
Она уже была у двери и вернулась к нему.
Он шутливо погрозил ей пальцем.
– Для какого праздника заучила ты эти песни и танцы? Уж не готовится ли твоя свадьба?
Она запротестовала.
– Так в чем же дело?
– Папа подтвердил «Capitoli» рабби Даниеля. Все этому рады. Теперь во всем Риме будет только одна община. Брат мой на следующей неделе устроит в честь рабби большой парадный обед.
Сар поморщился.
Дина подошла поближе, молитвенно сложив руки.
– У меня к вам просьба.
Он удивился ее взволнованному тону.
– Что с тобой, дитя мое?..
– Вас тоже пригласят. До сих пор вы всегда отказывались. Но на этот раз, – если вы можете, если ваше здоровье, как мы надеемся, к тому времени восстановится, – на этот раз вы не должны отказываться. Не делайте этого, прошу вас.
– Что тебя так мучает, скажи мне все, Дина.
– Меня мучает… – Она запнулась и опустила глаза. – Я одного не понимаю, совершенно не могу понять. И нет того часа, когда бы я о том не думала… Вы присутствовали на празднествах римской академии, были у господина фон-Горица, были в гостях у многих кардиналов, а у нас ни разу не были. Ни разу не почтили своим присутствием евреев. Вы нас презираете.
Она почти расплакалась.
– Вы готовы бороться за нас, но не вместе с нами. Я мучаюсь и не могу понять этого. Разве мы так презренны? Разве мы так дурны?
Ее благородное лицо пылало гордостью, и это шло к ней. Ему понравился этот гнев, вызванный чувством собственного достоинства, в котором чувствовались какие-то отзвуки недавней музыки и ритмического танца.
Он рассказал ей то, чего от него никто еще не слышал. Рекомендательные письма папы к португальскому королю были в его руках. Но португальский посланник дон Мигуэль чинил препятствия и не желал давать паспорта ему и его спутникам, ссылаясь на то, что появление еврейского князя в Лиссабоне ободрит маранов и, может быть, даже вызовет с их стороны открытый бунт. На посланника можно воздействовать только давлением со стороны папских чиновников, которым поручено это дело. Но это именно самый слабый пункт во всем деле, потому что в канцелярии лениво ведут переговоры с доном Мигуэлем, а может быть, затягивают их с коварным намерением, в угоду противоположным течениям при римской курии, и желают помешать дальнейшему путешествию Реубени. И таким образом он уже сидит тут недели без всякого движения, и дело, которое было начато так успешно, – затормозилось.
– Вот что заставляет меня посещать эти праздники. Не для того я прибыл в Рим, чтобы принимать участие в обедах и комедийных представлениях. Но мне приходится ходить туда, где собираются влиятельные люди. Я должен искать друзей там, где может быть легче всего их найти. Но тебе, девушка, я скажу… – Он приподнялся, и безумный огонь его глаз был так невыносим, что она отвернулась в сторону. – Но тебе я скажу, что работа эта не менее тяжела и высасывает не меньше крови, нежели все, что я делал до сих пор.
– О да, я знаю, – сокрушенно вздохнула она.
– Ты знаешь это, Дина, – продолжал он более кротким тоном и нежно положил руку на ее густые волосы, – все-таки ты многого еще не знаешь и никогда даже не постигнешь. Ты превратилась бы в соляной столп, если бы знала все. Но я скажу тебе только одно, – ты ведь умная и не будешь этим злоупотреблять! Пойми: как ужасно, что мне приходится отстранять от себя наиболее несчастных и измученных наших братьев, маранов, вместо того чтобы поднять их из праха и обнять их, когда они опускаются передо мною на колени. Как охотно я бы это сделал! Ведь они верны, вернее всех. Под подозрительными взорами свирепой инквизиции они, невзирая на тысячи опасностей, твердо держатся за союз с нами. Между тем ты ведь сама была свидетельницей, Дина, как я самым жестокосердым образом говорю им «нет» и добавляю: «Для вас у меня нет вести». Если они примкнут к нам, это вызовет раздражение и сопротивление христианских держав. Этого мы не должны допускать. Все наше огромное дело, освобождение евреев после пятнадцати веков унижения, подверглось бы опасности, если бы я поддался чувству, которое испытываю к этим верным собратьям, если бы поддался моему хорошему чувству! И так во всем: хорошее, близкое, то, что мне хочется делать – я делать не могу. Перед глазами должна быть далекая цель, а мимо всего прочего надо пролетать, как буря.
Он еще никогда так не говорил. Тяжко вздыхал он, раскрывая свои тайны перед девушкой, которая слушала его, затаив дыхание. Она стала на колени у кровати, опустила голову и закрыла лицо ладонями. Только от времени до времени, когда Реубени прерывал свою речь, она взглядывала на него – слезы сверкали у нее на глазах, а из его уст лились новые жалобы.
– Самое ужасное случилось в Венеции. Я должен был оттолкнуть престарелого честного человека, единственного, который надеялся на спасение. Он был беженцем, лишенным всякого положения, как и другие пришлые евреи в Венеции. А мне нужно было получить доступ к старейшинам. Мне нужны были они и их помощь. Мне приходилось возиться с этими торговцами перцем, и только когда мои старания в отношении их оказались безуспешными, – только тогда, с большим опозданием, я мог дать волю своему чувству и поблагодарить старика Эльханана за его юношеское сердце. Когда это уже не могло повредить, не могло помешать делу. То же самое теперь в Риме. Я действую не под влиянием моего доброго чувства, я повинуюсь суровым требованиям дела. Я сижу среди монсиньоров, среди апостольских астрологов и секретарей, среди всякого рода литераторов и ловлю слово, которое должно указать мне наиболее благоприятный путь. А тем временем я выслушиваю бесконечные рассуждения, скучные стихотворения, пережаренного Ливия и подогретого Горация.
…Нет, однажды все же случилось нечто, что меня порадовало. Это было у кардинала Ипполита де Медичи. Там был человек, который всегда сидел, уединившись от других, как я, и на которого никто не обращал внимания. Потом оказалось, что это не литератор, а скульптор. Их произведения хотя и высоко ценятся, но к ним самим относятся пренебрежительно, потому что они не говорят по-латыни. Так вот, этот человек в течение всего вечера внимательно наблюдал за мной, а потом пригласил пойти к нему. Я спросил, чего он, собственно, хочет. Он хмуро попросил у меня разрешения сделать в моем присутствии несколько ударов резцом на уже законченной статуе, которая находится в его ателье, потому что поза и выражение ее как-то странно напоминают ему некоторые черты, которые он подметил у меня в этот вечер. Странно потому, что он работает над этой статуей уже много лет, а между тем – таковы были его слова – только сегодня, взглянув на меня, он сумел определенным образом одухотворить свое произведение. Потом беседа наша оживилась. Он рассказал, что этот памятник – несчастье, преследующее его всю жизнь. Он задумал его так грандиозно, что памятник, хотя, быть может, и не выше его собственных сил, но во всяком случае превышает силы современной эпохи, которая, несмотря на все призывы к добродетелям древних римлян и христиан, не возвышается над средним уровнем. А может быть, – и здесь он еще больше наморщил лоб, прорезанный множеством глубоких морщин, – произведение это все-таки превышает его собственные силы, которые он переоценил в свои молодые годы, а теперь, когда ему пятьдесят лет, он видит, что он все же только дитя своего времени, а не полубог античного мира. Если бы было иначе, то он сумел бы силами полубога преодолеть низменные преграды, которые мешают завершению его труда. «Только в том виде, как я задумал этот памятник в два этажа, с сорока фигурами, изображающими все искусства и добродетели, завоеванные провинции, небо и землю, – он был бы достоин античного мира и, может быть, способен снова создать в этой жалкой стране поколение героических римлян. Но ничего этого не удается сделать. Я ненавижу свою славу, потому что она основана на недоразумении. Не будучи художником, я знаменит своими картинами. Я вижу вокруг себя только развалины моего дела. Я не хочу обижать вас, – продолжал он, – но мне кажется, что вы находитесь в таком же положении. Вас окружают почестями, но новое поколение героических евреев не восстанет, точно так же, как и римские герои, о которых я мечтал. Прежние времена не возвращаются и, что бы вы ни делали, они никогда не возвратятся». С этими словами мы подошли к его мастерской. Он зажег несколько восковых свечей, и я увидел перед собою мраморное изображение величественного мужчины. «До сих пор я думал, что он гневался только на свой народ, – сказал скульптор, – но теперь я знаю, и это должно быть видно по его глазам, что он гневается и на себя, за то, что, несмотря на всю свою силу, он недостаточно силен – точно так же, как вы и я сам».
Дина слушала с напряженным вниманием.
– А где находится это ателье? – спросила она, когда он кончил.
– На площади Петра, у коридора, ведущего к замку святого Ангела.
– Тогда это был скульптор Микеланджело Буонаротти.
Реубени смутился, когда услышал знаменитое имя.
– Я его не спрашивал и вообще в начале нашей беседы не совсем внимательно слушал, потому что как раз в этот вечер меня постигла большая неудача: один из прелатов, на которого я твердо надеялся, изменил мне, и, в результате этой мелкой борьбы, я чувствовал себя усталым до полусмерти и не вполне соображал, когда шел со стариком. А потом он стал мне все больше нравиться и под конец совсем увлек меня, хотя он, как это часто делают старики, в беседе все время заговаривал о своей болезни почек, а я терпеть не могу, когда говорят о болезнях. Но это было только так, между прочим, а потом он снова загорался, и даже несколько комическая одежда, в которой он принялся за работу, не портила его. Он оставался величественным, несмотря на бумажную шапочку, наверху которой, словно украшение шлема, была прикреплена горящая свечка. Он объяснил, что это его собственное изобретение. Свет падает всегда куда нужно, а руки свободны и могут работать молотком и долотом. С этой свечкой на голове он прыгал вокруг статуи, и свет и тени пробегали по мрамору и, казалось, растапливали его. А потом он снова подбегал ко мне, чтобы присмотреться вблизи, и снова отскакивал. Удары звенели по камню, и мне казалось, что все разлетится на кусочки. Когда, наконец, после двухчасовой работы он остановился в изнеможении, я не мог заметить сколько-нибудь существенной перемены в статуе, но он заявил, что доволен. Правда, из сорока статуй, которые должны украшать могилу, это единственная, которую он закончит. Он с безутешной грустью говорил об этом, – но в то время как другие при таких словах имеют подавленный вид, у него это выходило иначе. Что бы он ни говорил, даже самое печальное, на всем сиял какой-то свет как бы от внутреннего огня, который неугасимо горел в нем и, помимо его воли, превращал всякое поражение в победу. Чувствовалось, что даже в его изнеможении и отчаянии Бог не покидает его. Казалось, что эта связь с Всевышним нерушима, что ее не может уничтожить никакая сила, даже воля самого мастера. Слова его о том, что он устал, звучали правдиво, но в то же время они казались выражением упрямства и детского преувеличения, а рядом с этой великолепной статуей они почти что вызывали улыбку. Если даже то великое, к чему он стремится, не будет исполнено им, во всяком случае то, что он сделает, будет полно величия. Какая отрада этот человек. Настоящий герой! Это сильно ободрило меня. На следующий день я снова мог заняться своими мелкими визитами, осторожным нащупыванием среди людей с холодными сердцами.