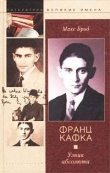Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Да, это так, – тобою он восхищается, но мне он больше доверяет. Не правда ли, старина?
XIX
На следующий день Элиагу исчез из Сантарема. Его искали, следы вели в Кампо-Майор, оттуда через границу – в Бадахоц. Но и там никто не встречал ученика Реубени.
Тем не менее cap ни минуты не сомневался, что его любимый ученик, теперь отпавший от него, отправился туда, где дело маранов напряженно ждало своего решения. Изо дня в день до Реубени доносились отчаянные вопли из тюрьмы Бадахоц, проклятья по адресу инквизитора Селайи и в особенности ненавистного Нунеса Фирме-Фе, который с неутомимою страстью ренегата стремился муками своих бывших единоверцев оправдать себя.
Под влиянием этих жалоб и опьяненный бредовыми речами Мольхо, Элиагу бросился в Бадахоц! Это могло повлечь за собой невероятные бедствия.
Речи Мольхо – они звучали так прекрасно и действительно были прекрасны. Великолепные, проникнутые искренним чувством, лишенные всякой искусственности – они звучали благородно, были выражением души, стремящейся только к своему спасению, к небу. Такие слова скорей способны были увлечь, нежели осторожный план Реубени, который боязливо держался в пределах выполнимого, применялся к условиям, говорил то о крестовом походе, то о торговой экспедиции в Калькутту и способен был принять еще сотню других обликов, наполовину подлинных, наполовину притворных, не теряя из виду своей конечной цели – освобождения Палестины и не утрачивая сверкавшего в нем внутреннего воодушевления. Но на это воодушевление нагромоздилась целая гора лжи и грехов. Экстаз Мольхо горел одинаково ярко внутри и снаружи.
То, что его теперь покинули ученики, было еще не самое худшее. Но честность и безупречные речи Мольхо не только отвращали от него учеников, а сеяли беду за пределами их круга, в Бадахоце, в Лиссабоне, и могли в последний момент каким-нибудь необдуманным поступком расстроить весь его план. Слова его сына оказывались злейшими его врагами, – это преисполняло его горечью и разочарованием.
Он отправился в Лиссабон. Провел несколько дней в лихорадочной работе. Побывал у всех высших властей, постарался изгладить дурное впечатление, которое должна была произвести дерзкая надпись, приклеенная на дверях собора. Об Элиагу, по счастью, ничего не знали, из Бадахоца тоже не было ничего тревожного. Тем не менее cap с опасением ожидал, что будет дальше.
Когда он возвращался назад и, едучи по полю, очутился у края заброшенного виноградника, он как-то особенно почувствовал тяжесть этого бремени. Солнце опустилось, сопровождавшие его расседлали лошадей, чтобы сделать короткий привал. Дикие кабаны бегали по пустырю, по увядшим листьям и сломанным виноградным лозам. Это была печальная картина, довольно обычная теперь в Португалии, прежде так тщательно возделанной, а сейчас покинутой ее обитателями, бросившимися в погоню за золотом в заокеанские страны.
«Также пустынна, нет, еще более выжжена солнцем – Святая земля, „земля радости“. Никто не спасет ее. Я гибну. Нельзя установить порядка в этом мире».
Ему захотелось уйти от слуг и подняться на вершину горы, на которой рос раньше виноград. Он снова взглянул на красное осеннее солнце, прежде чем оно исчезло за коричневыми дымчатыми облаками. Исчезнуть… как он сам стремился к этому! Зайти, совершив свой дневной труд, так же как заходит это доброе, самодовольно поблескивающее солнце. Он с грустью вспомнил о своем посещении Мольхо, когда тот лежал в постели. С какой радостью приветствовал он тогда в юноше сына и преемника! Это была ошибка! И теперь холодная дрожь охватывала его при мысли, что ему придется одному заканчивать свое дело.
– Собирайтесь в путь!
Приказ Реубени поднял на ноги его спутников, только что расположившихся отдохнуть.
Ему казалось непростительным, что юноша не оправдал его надежд. Это было самое крупное огорчение, какое когда-либо причинял ему человек. Возвращаясь домой, он гнал лошадь все быстрее, быстрее. И вместе с нею как бы пришпоривал в себе злые чувства: «Я переоценил его. И не только в этом. Я переоценил его искренность и прямоту. Что же, неужели только я обманщик? Он тоже обманывает! Ведь пришел же он ко мне с фальшивой бородой и в маске Гарсия де Норонха. Красивое имя! Вымышленное или украденное? Все равно. Имя звучное. Хитрость была хорошо придумана. Кто бы мог поверить, что добрый юноша способен на это! Такой обман не хуже и не лучше, чем мое генеалогическое дерево, восходящее до царя Давида. Нет, пожалуй, еще лучше. Ибо мне не удается изобразить такую непосредственность и прямоту, какая выражается на его лице. Это самое низкое притворство: его гладкие розовые щеки симулируют мечтательную наивность, под прикрытием которой измышляется такое коварство, что у меня на лице к прежним морщинам от этого прибавилась бы еще целая сеть новых жульнических складочек».
Подавленный такими низменными мыслями, явную несправедливость которых он болезненно сознавал, cap прибыл в Сантарем.
В полдень он подъехал к своему дворцу.
В саду горели факелы, звенели голоса. Кто разрешил ученикам устраивать это празднество?
В белых одеждах под пальмами, словно белые каббалисты из Софеда, празднующие на могиле Симона бар Иохаи «холлулу», мистическую свадьбу смерти, слияние души с Богом.
Здесь тоже танцуют. Ученики образовали круг, держатся за руки. Шаг налево, шаг направо. Цепь колышется под звуки пения и скрипок. Слуги, и среди них старый Тувия, разносят груды апельсинов, персиков, гранат и медовых пряников.
Сару, в его мрачном настроении, веселый праздник кажется издевательством.
Кто разрешил ученикам надеть белые полотняные одежды! Обычно они, как и все евреи, одеты в мрачное черное платье!
Прежде чем он успевает спросить, он замечает в толпе сияющего Мольхо. Он тоже в длинном белом одеянии, которое на нем особенно бросается в глаза, потому что до сих пор он всегда ходил в костюме португальского кавалера.
– Мы празднуем выздоровление нашего друга Мольхо, – оправдываясь, говорит какой-то робкий голос.
Реубени не обращает на него внимания. Взглядом он выхватывает из толпы Мольхо. Тот покорно подходит.
– Кто разрешил тебе носить еврейское платье?
– Я думал…
«Действительно, он ведет себя, как ученик. А я – как учитель, который отчитывает его. – Но почувствовав в себе эту власть учителя, Реубени сейчас же начинает тяготиться ею. – Удивительно, что всегда он приводит меня в раздражение, и всегда это раздражение почему-либо оказывается неосновательным, так что всей тяжестью оно обрушивается обратно на меня, и только на меня!»
Он смотрит на сына, друга, раба и учителя – ибо Мольхо объединяет для него все это, – испытующим взглядом окидывает его с ног до головы. Сколько раз он уже это делал! Ничего не видно. Мольхо почтительно выдерживает испытание. Он готов без одного слова стоять так часами. Сар в этом уверен.
Строгим тоном он продолжает:
– Я не возражал против того, чтобы мои ученики посещали тебя. Но приходить в мой сад было тебе запрещено. Мне не нужно было этого говорить. Осторожность должна была внушить тебе это. Разве ты не понимаешь, что ты этим можешь погубить всех нас!
Мольхо молча опускает голову. Он принимает порицание. «Передо мною у него нет гордости», – думает про себя Реубени – и ненависть его загорается снова. К такой безответной покорности нельзя придраться.
– Ты очень неблагоразумен, Диего Пирес. – Он называет его христианским именем, чтобы этим сильнее задеть его. – Ты подвергаешь своих друзей жестокой опасности, Диего Пирес. Неужели нужно, чтобы из-за одного пепельного голубя пошли на заклание все белые голуби? Ты отдаешься радостям своего сердца, Диего Пирес, но не спрашиваешь о том, что творится вокруг. Это по твоему совету Элиагу покинул нас и отправился к месту гибели?
Этот вопрос должен подействовать как удар кнута. Но глаза Мольхо смотрят детски-невинным взглядом. Ему даже не причиняет боли, что его называют ненавистным именем. Правда, это принижает его – но он и сам ни к чему так не стремится, как быть приниженным. И потому, что он сам сгибается, его нельзя сломать.
– Твой слуга никогда не говорил об этом с Элиагу, – тихим голосом возражает он.
Сар, собственно, и не ожидал другого ответа.
– Это еще не все, – продолжает он еще более угрожающим тоном… – Тебя ищут уже в Альмериме и в Лиссабоне. Разве ты не подумал о том, что апелляционный суд, где ты служишь, должен разыскивать тебя, так как ты отсутствуешь без разрешения уже несколько недель? Что ты придумал, чтобы привести хоть сколько-нибудь основательное оправдание? Я не могу допустить, что ты просто жил, ни о чем не думая, не заботясь о последствиях твоих поступков. Что будет, если тебя найдут здесь, в нашем саду, одетым в еврейское платье, увидят у тебя на теле бесспорный знак союза с нами, союза, в который ты самовольно проник! Тебя сожгут на костре! Но и нас тоже ожидает смерть! И наши восемь кораблей, на которых мы собираемся отправиться в Хабор, – погибли, прежде чем мы отправились в путь!
Реубени озирается кругом. Нагромоздив все эти ужасы, он хочет теперь полюбоваться своим триумфом.
– Но я не терял даром времени в Лиссабоне. Что можно было предупредить из последствий, проистекающих от глупостей, наделанных Элиагу, то я предупредил. Подумал также и о тебе. Получил отпуск для тебя у твоего начальства. Правда, теперь он уже кончается. Ты ушибся, упав с лошади, и лежал больным у одного из граждан в Сантареме.
Впечатление, которое произвели его слова, нарушается курьезным обстоятельством. Среди наступившей безмолвной тишины, пока каждый с изумлением размышляет о мудрости и о предусмотрительности учителя, раздается звон тарелок. Старый Тувия споткнулся об пень. Его поднимают, приказывают молчать, некоторые смеются.
Реубени делает вид, что ничего не замечает.
– Я советую теперь тебе, Соломон Мольхо, снять это платье и покинуть Сантарем в том же одеянии, в котором ты явился сюда. Ты вернешься ко двору твоего короля, твоя тайна останется тайной, и если ты не желаешь погубить нас, ты должен знать, что впредь тебе следует избегать нас.
Среди учеников проносится едва слышный ропот. Он больше в движениях губ, потому что сказать что-нибудь никто не решается.
Сар обращается к ним для большей убедительности:
– Ведь он ни к чему другому и не стремится как умереть. Он сам сказал, что это его высшее желание. А вы разве действительно хотите, чтобы он увлек вас в могилу!
Это фальшивый тон! Сар знает.
«Во всем, что я говорю против него, звучит фальшь. Это какое-то проклятье. И если я даже совершенно не знаю, в чем тут фальшь, другие замечают ее, и она как тень становится между ним и мною».
Сар и на сей раз видит тень на молчаливых, почти враждебных лицах учеников.
«Странно, что они сердятся на меня, тогда как я спас их от опасности, угрожавшей их жизни. А на него они, очевидно, не сердиты за то, что он подвергал их опасности. Неужели ему действительно дозволено все, а мне ничего?»
Реубени совершенно забыл, что он достиг сейчас вершины победы. Соперник изгнан – никто не решается противоречить. И, тем не менее, эта победа его не веселит. «Да, все они хотят умереть вместе с Мольхо, все! И я когда-то тоже хотел умереть с ним, с поцелуем на его прекрасных губах – тогда, когда он был, казалось, ближе к смерти, чем к жизни».
Он хочет только, чтобы Мольхо не унижался, не молил о пощаде. Он любовно пожимает ухватившуюся за него руку. И в прощании между ними союз!
И Мольхо не унижается. «Против своего желания я помог ему», – думает про себя Реубени. И восхищается покорными, грустными словами ученика:
– Я принимаю это на себя как покаяние! Пусть это заменит тридцать девять ударов плетью, которые я давно заслужил за годы, проведенные мною в заблуждении.
На всех лицах почтение и хвала смиренному.
Тувия также стоит погруженный в благоговейные думы. Теперь он уже не мешает, как раньше. Глухой полоумный старик в блаженном оцепенении созерцает происходящее, хотя и совершенно не понимает всего этого. И кажется, что высшие силы проявляют через него, их мертвое орудие, свою таинственную волю.
Всеобщий заговор в пользу Мольхо. Реубени не может этого истолковать иначе. Ему одобрительно кивают головами, в то время как он обвиняет себя в ужасном преступлении.
«Значит, люди оправдывают того, кто сам себя обвиняет? А мне, стремящемуся создать доброе дело, они мешают. Зачем я противлюсь этому? Зачем я ищу объяснений вместо того, чтобы просто зарыдать и сказать: он лучше меня?»
Но рыданиями разражается Мольхо. Он совершенно не замечает учеников, ставших на его сторону, восхищающихся им. В своем чистом невинном обожании он видит только сара.
– Но не всегда будет гневаться господин мой – он даст мне срок для покаяния – потом позволит мне вернуться.
Сару хочется, назло всем, сказать правду, которой никто не поймет. К чему скрывать ее?
– Не в раскаянии дело, Мольхо, – и я нисколько не гневаюсь на тебя. Я отсылаю тебя по соображениям осторожности. И знай, что бывает такое время, а сейчас именно такое время, когда осторожность и ум ценнее самого святого раскаяния.
XX
Мольхо непоколебим, cap озабочен. События развиваются именно так, как предвидел Реубени. Прав оказывается он в своей тревоге, а не Мольхо в его непоколебимости.
В Бадахоце монах-францисканец явился к Фирме-Фе. Его впустили во дворец епископа. Там он вытащил кинжал из-под платья и одним ударом заколол опасного доносчика. Сбежалась стража, чтобы поймать монаха, который через камин забрался на крышу и в течение часа выдерживал осаду, а тем временем группа неизвестных людей явилась в город, обезоружила немногочисленную охрану, оставшуюся в инквизиционной тюрьме, и освободила всех заключенных мужчин, женщин и детей. Затея была хорошо подготовлена. Повозки ждали, чтобы немедленно перевезти спасенных через границу. В горах португальской провинции Эстремадуры они рассеялись и разными путями добрались потом до берега. Мараны в Кампо-Майор добились своего. Единственной жертвой, оставшейся в руках врагов, был монах, который пожертвовал собою.
Его подвергли пыткам.
Несмотря на ужасные мучения, он не произнес ни слова. Даже имени его не удалось узнать. Было очевидно только, что это – еврей, переодетый монахом. Пытки были повторены несколько раз, хотя по букве инквизиционных правил это не допускалось. Церковное милосердие разрешало пытать только один раз. Выход из положения нашли в том, что вместо повторения это называли продолжением пытки, каковое могло применяться к упорствующим обвиняемым через известный промежуток времени, до предсмертных мук.
Реубени отправил двух своих учеников в Бадахоц.
Они видели заключенного. Это был Элиагу. Реубени знал это. Знал, что Элиагу никогда не предаст. Никакой связи между его двором в Сантареме и делами в Бадахоце установить не удастся.
Виселица освободила Элиагу от долгих немых мук.
И все-таки угрожала опасность! В эти дни, когда возбуждение, вызванное убийством Фирме-Фе, достигло крайнего предела, люди видели, как бывший хозяин Мольхо, Альдика, несколько раз тайком пробирался к алькаду.
Здесь оказалось слабое место в каменной стене.
Очевидно, этот человек, знавший многое и которому не остался неизвестным также и побег Элиагу, был очень перепуган следствием, которое велось в Бадахоце. Об ужасах его передавали из уст в уста. Элиагу, подвергнутый пыткам, мужественно выдержал их; Альдика, которому пытки только угрожали, не устоял.
Как укрыватель, он приравнивался к соучастникам. Только донос мог спасти его.
Алькад явился к Реубени, чтобы арестовать его.
Но его защищала королевская печать на охранной грамоте.
До каких пор? Альдика мог представить неопровержимое доказательство. Оно было на теле у Мольхо, королевского секретаря. Таким образом, благодаря Мольхо, такой двусмысленный субъект, как Альдика, оказался в роли укрывателя, и тот же самый Мольхо был виновником опасного доказательства этого укрывательства.
«Так я и знал: всему злому я с успехом оказывал сопротивление, – но чистое воодушевление чистого человека погубило меня».
Однако cap не желает делать ему упреков. Ни словом не упоминает о том, что он во всем оказался прав, в том числе и в отношении Альдики. Беседа, для которой он вызывает его, преследует иную цель. Спасти то, что еще можно отстоять в их плане. Опасное доказательство должно покинуть страну, должно исчезнуть. Тогда Реубени, может быть, еще сумеет спокойно защищать свою позицию перед королем и снова пустить в ход все средства для того, чтобы достичь своей цели. Но в глубине души он уже не верит в это чудо. Он только не хочет сознаться перед собою самим, что исключительно забота о жизни Мольхо заставляет его предпринять эту ночную поездку.
Они встречаются на пути между Лиссабоном и Сантаремом в деревушке Сальватерра – в опустевшем винограднике, который однажды был свидетелем отчаяния Реубени.
– Я не думал, – говорит cap своему ученику, – что я еще раз встречусь с тобой. И меньше всего думал, что мы встретимся таким образом.
Все фактические обстоятельства быстро изложены. Изумлен Мольхо предательством Альдики, убедился он теперь, что тайная синагога не была еще достаточной порукой? На все он отвечает только одной фразой, проникнутой трепетным уважением к тайнам и к справедливости того, кто правит миром.
Сару в этот момент он кажется несколько глуповатым, и он припоминает, что уже не раз у него слагалось такое мнение.
Но его недовольство исчезает, как только он слышит приятный, сильный голос Мольхо: «Я знал, учитель, что вы позовете меня в эту ночь. Ваша душа посетила меня прошлой ночью. Старец приготовил меня к великому поручению, которое вы мне дадите».
Эти слова не могут не раздражать сара.
– Да, я действительно дам тебе великое поручение. Ты должен немедленно покинуть родину и меня, уйти за море в царство султана, в Салоники или Адрианополь или к каббалистам в Софед, куда-нибудь подальше, где нет преследований.
– Господин осчастливил меня, – ликует Мольхо.
Реубени отпрянул.
– Я навсегда отсылаю тебя от себя.
– Чтобы возвестить истину господина моего в странах и на островах. Я удостоился великой чести.
Мольхо неуязвим, а у сара на груди целая гора лжи, которая днем и ночью спирает ему дыхание. И сару становится жалко юношу, который в своей невинности и неопытности так безгранично верит ему.
– Дитя мое, дитя, какую истину собираешься ты провозгласить, когда во мне самом нет ничего, кроме лжи?
И пока они часами ходят по разрушенному винограднику, он рассказывает ему все.
– Я не принц из Хабора, я родом из Чехии, мой отец писал свитки Торы. Меня зовут Давид Лемель, а не Реубени.
Он разворачивает перед ним всю свою позорную юность, вплоть до того момента, когда он принял решение сделать такой позор невозможным навсегда для своего народа. Рассказывает, как это решение погнало его к южному морю и в самые отдаленные страны на поиски утерянных племен Израиля и их свободного царства. Он ничего не утаивает теперь. В Риме, в беседе с Диною и Макиавелли, в нужный момент появился запор, затворявший двери разоблачений, но на этот раз перед Мольхо двери растворяются все шире и шире, и широким потоком вырывается все, даже то воспоминание, в котором он неохотно и с болью признается самому себе, которое является глубочайшим фундаментом его миссии и в то же время заставляет сомневаться в этой миссии. Да, он действительно был в царстве Хабор. Он нашел его, проник через оазис, который тянется по каменистой Аравийской пустыне, в строго охраняемые врата, в область, населенную свободными вооруженными евреями. Они действительно живут там, триста тысяч, колена Реубен, Гад и половина колена Манассии, бедуинское племя, говорящее по-еврейски. И правит ими царь Иосиф и семьдесят старейшин. Брат короля, герой Реубени, о котором рассказывал Герзон, рыжий сторож на башне в Праге, тоже существует в действительности. Только этот cap Реубени теперь уже старик и давно передал командование над армией своим сыновьям. Но его слово имеет большой вес, и Давиду пришлось испытать это на себе. Ибо как раз этот гордый cap Реубени был его решительным противником и приказал даже арестовать его и подвергнуть телесному наказанию. Он убил бы его, если бы за него не вступились старейшины. От него исходило предложение, которое было принято всеми и, наконец, было провозглашено как решение царя и совета, предложение, глубоко разочаровавшее Давида и положившее конец всем его планам, по крайней мере временно. Реубени, подлинный Реубени заявил, что евреи в Хаборе являются свободным народом, как все прочие народы, а выродившиеся, безоружные, попавшие в рабство евреи в западных странах не могут считаться их братьями и даже родственниками. Такой родни им пришлось бы стыдиться перед всеми другими племенами.
– Вот каков я и какова моя миссия, Мольхо. Правда, в этой счастливой стране развевается белый шелковый флаг с буквами М. К. Б. И., но флаг, который ты видел у меня, есть только подделка.
Теперь он все скажет. Раз уж сказано самое существенное, нет смысла умалчивать о мелких хитростях, при помощи которых поддерживалась великая ложь, главный обман. С некоторой гордостью, гордостью фокусника, который, сойдя с подмостков, объясняет свои чудодейственные штучки в тесном кругу привилегированных зрителей, он дает Мольхо заглянуть в то, что до сих пор составляло его ревниво оберегаемую тайну. Резче, чем когда-либо, сверкают дьявольские желтые огоньки в его глазах. С восторгом опустившегося человека он выставляет напоказ свой позор.
– Ты послушай, почему я всегда говорил только на священном языке, всегда брал с собою переводчика, который переводил всю беседу. Уже тогда, когда я высадился в Венеции, я понимал и говорил по-латыни и по-итальянски. Еще мальчиком я читал римских поэтов. Ну, так как же ты думаешь, для чего мне понадобился еврейский язык?
– Для того, чтобы внушить князьям и королям почтение к еврейскому языку, учитель мой.
Сар ошеломлен.
– Может быть, и так. Конечно, можно и так взглянуть на дело. Но ты не думаешь, что это делалось главным образом из хитрости? Так знай же: я заставлял говорить переводчиков только для того, чтобы лучше обдумать и быть защищенным против неожиданных вопросов. И вначале это было весьма необходимо, прежде чем я вошел в роль сына царя и посла. Папа, который очень умен, на первом же приеме прямо сказал мне, что посольство мое, может быть, преувеличено, а может быть, и совершенно вымышлено. Это был опасный момент! Без переводчика я бы не устоял. И еще одно, но не пугайся, хотя это и безобразно: так как думали, что я понимаю только по-еврейски, то в моем присутствии часто говорили о секретных вещах, которые мне потом были весьма на пользу.
Мольхо вздрогнул.
«Ну, наконец, я добился, чего мне надо, – подумал Реубени. – Теперь я сумею уже окончательно поставить ему голову на место». Он испытывает жестокую радость, что вторгся в призрачный мир своего друга и может разрушить этот мир. Радость его не умаляется от того, что вместе с тем он разрушает и самого себя, – пожалуй, даже увеличивается от этого.
– Ты знаешь, я часто пощусь. И говорили, что старейшины в Хаборе тоже постятся, пока я не вернусь к ним. Старейшины, которые и знать меня не хотят. Какая нелепость! Я пощусь, чтобы укротить мою пылкую злую кровь. И поэтому я однажды подверг себя истязаниям в Риме, а не из раскаяния и не для того, чтобы искупить злое деяние.
– Учитель, учитель! – громко восклицает Мольхо как бы только для того, чтобы разогнать призраки. Жалобно звучит его возглас среди виноградников.
По дороге им повстречалась полуразрушенная сторожка. Они уселись на развалившихся бревнах у тихо журчащего ручейка. Полный месяц выступил из-за облаков, ослепляет белым известковым светом, который он разлил вокруг.
Реубени вздыхает с некоторым чувством облегчения.
– Этим еще не оправдана отвратительная ложь, в которой я живу. Ты только подумай: я обманул доброго папу, благочестивого и расположенного к нам кардинала Витербо, обманул всех, кто мне доверял. Если это здание рушится, оно похоронит под своими развалинами не только меня, но и весь народ!.. Вот на что я пошел, – допустимо ли так рисковать? Поверь мне, часто я чувствую, что слабею. Иногда по ночам меня душит страх…
– Нет, учитель восстанет, как лев. Смелый – имя его.
Смелость, смелость – когда донеслось до него это волшебное слово? Тогда, когда он ехал в лодке по городскому рву. И с тех пор – все снова и снова: доступ ко всем тайнам его жизни – всегда только смелость. Смелость отворяет запертые двери, страх закрывает даже те, которые отперты. А теперь этот юноша высказывает ту же самую истину – и Реубени поражен, как умно и рассудительно разбирается он в совершенно чуждом ему положении.
Ответы Мольхо были разумны. Он принимал всецело как факт, что миссия Реубени вымышлена, самовольно им присвоена. Он говорил только осторожнее, чем всегда, – было заметно, что он чувствует себя не вполне уверенным. Но он ориентировался с изумительной быстротой. Правда, он не вполне соглашался, отыскивал противоречия в словах Реубени, – но эти противоречия касались деталей. Основное же он, казалось, безусловно понимал и – больше того – одобрял. Это одобрение исполнило сара неописуемой гордостью и чувством удовлетворения. Такое чувство испытывает верующий христианин, когда священник отпускает ему все грехи.
Светает. Веет легкий ветерок. Трава распространяет кругом свой аромат. Как и тогда, в римской Кампаньи, после ночи, проведенной с Макиавелли. Только тогда он не высказался до конца. Сегодня он сделал это. И Реубени чувствует, как с него спала тяжелая ноша.
Теперь он заканчивает. Заявляет еще в заключение, что, быть может, было бы преувеличением назвать весь его план ложью, – потому что он заключает в себе и много верного. Он совершенно честно хочет обучить европейских евреев владеть оружием, за помощь, которую он просит у государств, он собирается, таким образом, щедро заплатить. Что же касается вспомогательной армии с Востока, – то он полагает, что и она в нужный момент будет готова помочь.
– Это самое замечательное в моем плане, – восторженно говорит он – теперь он снова верит в себя, – что он начинает ложью и кончает правдой. Восемь португальских кораблей с еврейскими воинами появляются в Красном море. И тогда нашим вооруженным братьям в Хаборе уже нельзя будет презирать нас как людей, не владеющих оружием. Исчезнет эта противоестественная отчужденность между свободными евреями и нами. Мы объединимся, и я только заранее сказал за них то слово, которое добровольно скажут они, когда убедятся в нашей храбрости и нашей нетронутой силе. Таким образом я воистину был их послом. Задним числом они признают меня. И армию в пятьдесят тысяч человек, которую я выдумал, я своей выдумкой сотворил из ничего, а теперь она окажется тут как тут и в соединении с экипажем наших кораблей будет еще сильнее. И, кто знает, может быть, мой противник, герой Реубени подаст мне руку в знак примирения и скажет: «Ты совершил то, что я желал и против чего я боролся только потому, что никогда не надеялся увидеть это».
Последние его слова Мольхо уже не слушал. С первыми лучами утреннего солнца он опустился на колени как бы в молитве без слов. Теперь он пробормотал:
– Пусть благословит меня учитель.
Все еще учитель! После таких разоблачений это звучит насмешкой, и Давид хочет запретить ему называть себя этим именем. Но слова, которые произносит вслед за тем Мольхо, приводят его в трепет. Они – страстный символ веры.
– Сегодня была самая тяжелая ночь в моей жизни. Вы пришли испытать меня, учитель. Благо мне, что я не поддался искушению…
– О чем ты говоришь? Какое искушение?
– Так же ясно, как то, что за горами восходит солнце, так же ясно я знаю, что слова ваши были только притворством. Но сердце мое не колебалось и верит в вас, в помазанника-Мессию, сара Давида Реубени, который послан Богом из царства Хабор, чтобы спасти нас от грехов наших. И только теперь, после этого испытания, учитель, я считаю себя достойным быть глашатаем ваших истин. Теперь вы не откажете мне в вашем благословении.
Реубени плачет. Он не в состоянии взглянуть юноше в лицо. Отвернувшись, он кладет руку на его голову.
– Ступай, сын мой, – шепчет он, словно кто-нибудь может их услышать среди этой безграничной тишины и святотатственно опорочить эту приводящую его в трепет тайну, в которой слились: позор, радость, разочарование и любовь. – С тобой не может случиться ничего дурного, Соломон Мольхо, ибо все, что соприкоснется с тобою, становится добром. Я благословляю тебя благословением, которое исходит от тебя самого. Ступай, сын мой, вера твоя помогла тебе.
Он идет туда, где его поджидает слуга с лошадью. Восходящее солнце кажется ему щитом, отражающим лучезарную добродетель Мольхо. Этим отражением рассеиваются все туманы и освещается мир.