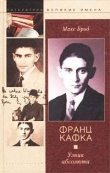Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
XXIV
Не было имени более славного, чем имя Соломона Мольхо. Многие его восхваляли, никто не решался порицать.
Каждую субботу Мольхо проповедывал в синагоге в Риме. «Он говорил иногда таинственно, иногда открыто о том, что изложено в устном и письменном учении, – повествует современник. – Говорил неслыханные вещи; каждый стих, который его просили объяснить, истолковывал на сорок девять разных ладов. На слова „благословен будет Господь денно и нощно“ он однажды произнес проповедь, длившуюся целый день, излагая все новые и новые толкования. Изумление росло среди христиан и евреев; отовсюду стекались ученые и простолюдины, для того чтобы внимать мудрости Мольхо, и он рассылал пастырские послания по всем странам». В хронике Иосифа Гакогена мы читаем: «Многие испытывали его загадочными вопросами. Но для него ничего не было тайной».
Почитание, которым окружали Мольхо, достигло крайних пределов. А когда еще исполнились все его предсказания, то удивление выросло до размеров, граничивших с ужасом.
Осенью 1530 года Тибр вышел из берегов и затопил всю римскую равнину. Волны поднялись на четыре фута выше уровня прежних наводнений. Триста человек стали жертвой воды. Папа, своевременно предупрежденный Мольхо, переехал в Остию. Появились и кометы, как он предсказывал, и наводнение случилось в северной стране, во Фландрии. А в начале 1531 года Лиссабон постигло предсказанное ему заранее землетрясение.
Теперь уже никто не сомневался, что Мольхо одарен таинственными силами.
Усталому папе, в его бессилии, может быть, даже льстило, что, назло всем его врагам, у него при дворе находился посланник неба или, по крайней мере, замечательный чародей. Он предоставил ему помещение в самом Ватикане – честь, которой никогда не удостаивался Реубени.
Реубени скрывался, никем не узнанный, в своей пещере.
…………………………………………
Однажды занавеска отодвигается и, издавая нечленораздельные звуки, вбегает Тувия. Он с испугом указывает на улицу, откуда он только что пришел. Кто-то бежит за ним следом. Сар только ночью выходит на улицу, но Тувия ходит собирать милостыню – тут его и узнали.
Обычный будничный стук в сапожной мастерской прерывается. Нет больше защиты. Тишина. В жалкое нищенское обиталище Реубени входит Мольхо.
Сар, стыдясь своей нужды, прячется за занавески, жмется к стене.
Он не поднимает глаз на лицо Мольхо, видит только простое, но чистое белое платье вошедшего, от которого исходит особый чистый запах, свойственный людям, живущим в достатке.
Реубени закутан в лохмотья. В его ступенчатой келье скверно пахнет от остатков жалкого обеда, которые он пинком ноги сбрасывает с лестницы.
Мольхо без всяких церемоний садится на ступени с выветренными римскими надписями. Нет, он спускается еще ниже, становится на колени перед Реубени.
Теперь cap глядит ему в глаза. Лицо побледнело, аскетизм наложил на него свою печать; но оно было все еще гладкое, словно восковое, свежее и прекрасное. Шелковистые вьющиеся волосы переходят теперь в каштановую бороду.
И, точно так же, как тогда, когда Мольхо назывался еще Диего Пирес и неожиданно появился у Реубени, он и теперь немедленно приступает к своему рассказу. Он говорит о путешествии, которое совершил по поручению своего господина, и совсем не замечает, что перед ним стоит не господин, а жалкого вида совершенно обтрепанный человек.
И странно. Он как будто одновременно замечает это и не замечает. Говорит о том, как учитель скрывается в недостойном облике, в котором Мессия должен пребывать среди этого грешного поколения, – а вслед за этим радостно рассказывает о школе каббалиста Иосифа Талтазика в Салониках, где целые сонмища чистых юношей-учеников подготовлялись к грядущему пришествию Мессии, – и его светлые карие глаза расширяются в выражении детской радости, когда он упоминает «об учениках льва» в Святой земле в Софеде, об их чудесах, непорочности и познаниях.
– Все больше становится круг призванных к служению. Уже близится время, когда господин мой сумеет замкнуть круг и выйти на его середину.
Жалкий вид, в котором он застал сара, по-видимому вполне соответствует тому образу, который он себе создал. По крайней мере, он не проявляет и признаков изумления и тем паче озлобления.
– Значит, ты побывал в Салониках?
– Да.
– И в Софеде?
– Конечно.
– И в Андрианополе?
– Как приказал мне учитель.
Из тьмы той ночи в виноградниках Сальватерры перед саром всплывают названия этих трех городов – Салоники, Адрианополь, Софед. Он наудачу назвал тогда три отдаленных города только для примера, чтобы Мольхо как можно подальше убрался с мест, где действовала инквизиция. А ученик принял это в буквальном смысле и целые годы подчинял свою жизнь закону этой произвольной выдумки.
Реубени смущен. Он сразу даже не может дать себе отчета, какие последствия создаются для него из того, что Мольхо среди своего блеска нисколько не возгордился и что, в сущности, и весь этот блеск приписывает только своему учителю, который послал его. Он в благочестивом экстазе считает себя не более как его орудием.
Реубени благодарен. Как дар, принимает он готовность Мольхо служить ему. Что подарок приносится бессознательно, без намерения дарить что-либо, – это только повышает его ценность.
Он растроганно берет Мольхо за руку.
Им овладевает радость свидания с другом.
– Мольхо, дорогой мой, сын мой, – как ты потрудился! Сколько ты, наверное, натерпелся!
Мольхо с восхищением рассказывает об юноше, с которым он познакомился в Адрианополе и который отправился потом вместе с ним в Софед, в Святую землю. Его зовут Иосиф Каро, и он возымел невероятную мысль написать полную сводку всех еврейских религиозных законов, где должны быть разрешены все противоречия, встречающиеся в источниках. Этот колоссальный труд будет называться – «Шулхан Арух» (накрытый стол). Для его составления потребуется, конечно, усердная работа всей жизни. Но когда эта работа будет сделана, тогда станут невозможными всякие секты, и единство Израиля будет обеспечено даже в изгнании. Ошибки в Божьих делах будут устранены, и здание истинной веры будет прочно обосновано.
До сих пор молодой Каро занимался только подготовительной работой. Он чуть было уже не опустил рук перед грандиозностью этого труда, когда Мольхо принес ему весть о cape Реубени и этим зажег в нем мужество. Теперь ради помазанника он работает с обновленными силами и строжайшей дисциплиной души и тела подготовляет себя к священному труду.
Мольхо с увлечением говорил о правилах, установленных Каро для своей жизни, правилах, которым он неуклонно следовал.
«Как далеко все это от меня, – думал про себя Давид, – и неужели все это вдохновлено мною, благодаря мне должно явиться на свет?»
Во всех речах Мольхо он постоянно чувствовал, что их разделяло. Он сравнивал путешествия, которые проделал Мольхо, со своими собственными скитаниями с тех пор как он покинул Тавриду. Тут и там было много труда и крайнего напряжения сил. Но к страданиям Мольхо примешивал какое-то сладостное вожделение, он с радостью отдавался своей миссии, испытывая опьянение и увлечение, легкое дыхание посланничества Божьего.
«Во мне ничего такого нет! Я ожесточенно стремился к цели, которой подчинял каждый свой шаг, – отсюда и неудачи, и муки, и горе».
Он глубоко заглянул в искрящиеся радостью глаза ученика: у него не может быть неудач. Разве у него есть какая-нибудь цель?
Он попытался поймать его на этом и тут же спросил:
– Чего ты хочешь? К чему все это? Куда ведут все твои проповеди, твои предсказания, твои разговоры с папой? Чем должно это кончиться? Если этого ты не знаешь, то, по крайней мере, знаешь, какого конца ты желаешь для себя и какой исход приятен твоему сердцу.
Мольхо, несмотря на все свои триумфы, не разучился краснеть, как краснел при первом свидании с саром.
– Я только посланец и уготовлю путь господину.
– А я не пойду тем путем, который ты мне уготовал, – резко отмежевался Реубени.
На минуту он подумал, что, может быть, следует использовать для себя влияние Мольхо у папы. Но и это поставило бы его в какую-то зависимость, а он желал бы быть совершенно не связанным не поддающимися учету выходками Мольхо.
– Пока никому не говори, что ты встретил меня здесь, – сурово приказал он.
Мольхо никогда не спрашивал о причинах. По его смущенному лицу можно было заметить, что он считал себя еще недостойным проникнуть в сокровенные тайны плана, по которому должно совершиться спасение.
Реубени проводил его через сапожную мастерскую на улицу. Он стоял при дневном освещении: маленький, опустившийся, пожелтевший рядом с прекрасным, сильным, свита которого, окруженная большой толпой, поджидала его у лавки.
Но сильный и прекрасный склонил свою голову перед старым и слабым.
– Когда ты вздумаешь прийти ко мне в следующий раз, ты должен прийти один, – сердито сказал Реубени и хотел уже укрыться снова в своей трущобе, но тут он заметил знамя, которое нес один из свиты.
– Это твое знамя?
– Слуга твой приказал его сделать по образцу того знамени, которое ты привез из Хабора.
– Дай взглянуть на него.
При виде этого знамени, скопированного с его собственного, он отчетливо сознал свое безусловное одиночество. Это сокрушало его и в то же время утешало.
XXV
Он давно уже имел намерение получить обратно грамоту, в которой король португальский Иоанн признал его послом царства Хабор и которая хотя и указывала на безрезультатность переговоров, в то же время свидетельствовала о серьезности их. Этот документ остался в деле в авиньонском суде. Без этого удостоверения Реубени не хотел являться к папе, так как предполагал, что португальский двор изобразит его деятельность в неблагоприятном свете. Напрасно обращался Реубени к купцам, отправлявшимся в Южную Францию, с просьбой раздобыть ему этот документ, восстанавливающий его репутацию. Купцы вступили в переговоры с еврейской общиной в Авиньоне, но там о cape осталась плохая память. Он причинил слишком много расходов, и этого не могли ему забыть. Община, правда, исполнила заповедь, повелевающую «выкупать пленников», но считалось, что этим сделано уже все, что полагается. Ни у кого не было охоты соваться в это дело из-за какой-то судебной бумаги.
Оставался еще один выход – подделать документ. Реубени знал стиль кабинетов, к тому же он хорошо помнил прощальное письмо короля Иоанна, которому он придавал большое значение.
У одного старьевщика на Кампо-ди-Флора он нашел кусок хорошего чистого пергамента, который превосходно годился для его цели: словно поддразнивая его, пергамент свисал в виде флажка с верхней доски палатки торговца.
«Это все, что тебе нужно, – шуршал он ему на ухо. – Печать могла и оторваться во время продолжительного путешествия»… Но на гроши, которые собирал в виде милостыни Тувия, нельзя было осилить покупку прекрасного пергаментного флажка.
Сар неоднократно с любовью посматривал на него, проходя мимо. Однажды, среди рыночной суматохи, Реубени стянул его и быстро спрятал за пазуху.
От Мольхо, который часто заходил к нему, он прятал свою работу. Как беззаботно и широковещательно говорил Мольхо! Уже одна способность со спокойной совестью произносить такие возвышенные слова свидетельствовала о душевном равновесии, которым он обладал.
Как только Мольхо уходил от него, он вытаскивал пергамент и с суеверною осторожностью принимался писать.
«Значит, все-таки, как Герзон в башне – с его картинками? О, еще позорнее! Я пишу на краденом пергаменте поддельный документ о вымышленном посольстве». С ужасом он замечает, как ложь громоздилась на ложь, как каждая запутывала его еще больше в сети новых измышлений и как эти измышления с каждым разом становились все более мелочными и жалкими. Грех побеждал.
Сомнения охватывали его, как в дни детства.
Но тут наступили события, которые решили все.
Мольхо, которому до тех пор не чинили никаких препятствий, был вызван в инквизиционный суд. Как христианин и вероотступник он подлежал компетенции священного судилища. Грамота папы, предоставлявшая ему свободу проповеди и гарантировавшая полную безопасность, не имела силы перед этим судом, который признавал над собой только Божественный закон веры. Со времени буллы Урбана IV «Ad extirpanda» все распоряжения, стеснявшие деятельность инквизиции, считались наперед недействительными. Полное беспощадное истребление ереси признавалось неоспоримым высшим началом, конечной целью всех церковных и светских учреждений.
Следовало ли приписать случаю, что Мольхо все время мог невозбранно действовать и подвергся нападкам только теперь, когда он завязал, хотя и поверхностно, сношения с Реубени? Реубени в своем мрачном настроении склонен был думать, что это не случайный каприз судьбы, а проклятье, которое лежит на нем и которое сокрушает не только его собственные начинания, но и все, что входит в соприкосновение с ним.
Опустошенный город был окутан мраком; все последнее столетие погружалось в мрак, и Реубени, близкий к безумию, спрашивал себя, не произошли ли все эти ужасы только из-за него, из-за его греха, его преступного намерения достичь избавления при помощи лжи? А теперь его верный, ясный как утренняя заря, друг платился за то, что на мгновение снизошел к нему, безнадежно отверженному.
Спасти, спасти друга! Не допустить, по крайней мере, чтобы этот любимый и в то же время ненавидимый юноша, которому он завидовал, но которого все же обожал, погиб вместе с ним. Спасти, умолять, умолять о помиловании! Но кого же умолять, если еврей очутился в нужде и бедствии?
Есть только один защитник, потому что от себя cap ничего сделать не может с тех пор, как все пути к сильным людям в Риме закрыты тройною завесой нищеты, одиночества и безымянности.
Есть только один человек, которому известны и доступны эти пути. Правда, для Реубени нет хуже унижения, чем обратиться именно к этому человеку, к знаменитому переводчику Аверроэса, к своему старому противнику по Венеции – Мантино.
Мантино живет в аристократическом квартале, далеко от еврейского гетто. Надо пойти к нему! Лишь на мгновение cap сознает, какой позор. Спасти, спасти жизнь Мольхо – это все, что его сейчас еще манит. Все остальные мысли угасли в его голове. Под впечатлением надвинувшейся непосредственной опасности он даже забыл о том, что собирался выждать в своем убежище подходящий момент для выступления.
Реубени не пускают: у великого ученого определенные часы для приема, тогда он доступен для всех. Но так как дело не терпит отлагательства, то Реубени, пренебрегая всякой осторожностью, вынужден назвать перепуганному слуге свое имя.
Перед ним тогда открывается дверь в библиотеку.
За огромным письменным столом в черной тоге с широкими рукавами сидит, скрестив руки, Мантино.
Он должен помочь против инквизиции? Да он сам сидит как инквизитор, в торжественной позе судьи и жреца. Ни слова привета, ни жеста, только упорный непроницаемый взгляд маленьких воспаленных глаз.
Сар торжественно обращается к нему:
– Якоб бен Самуэль Мантино.
На высоком лбу противника появляется недовольная морщина: он не любит, когда его называют полным еврейским именем. Реубени невольно с первых же слов испортил ему настроение. Он сразу это замечает и решает говорить в дальнейшем только в его духе, а не так, как ему велит сердце. Когда приходится терпеть столько унижений, какое значение имеет еще одно лишнее! Теперь не время для опасных слов.
– Я пришел к вам в качестве просителя, Мантино. Не для того, чтобы возобновить прежнюю борьбу. В той борьбе я признаю себя окончательно побежденным. Но здесь речь будет не обо мне. Я прошу вашей помощи для проповедника Мольхо. Вы влиятельны. Если вы захотите, вы сумеете при помощи кого-нибудь из епископов и кардиналов, у которых вы часто бываете, спасти Мольхо от костра, а без вашей помощи его, наверное, пошлют на костер. Вы великодушны, вы сделаете это. Мольхо, правда, мой друг, но я не допускаю, чтобы вы отказали невинному в вашей защите только потому, что вы захотите погубить его из-за меня…
Только теперь Мантино прерывает его. До сих пор он не мешал ему говорить точно так же, как иногда благотворитель позволяет нищим попрошайничать, нагромождать долго и пространно одну просьбу на другую, причем с каждой фразой все ощутительнее становится размер нужды и размер ожидаемой милостыни. Можно оскорбить человека, прервав его речь, но можно дать ему говорить и сделать это в еще более оскорбительной форме. Только теперь Мантино начинает возражать. При входе Реубени он сначала вскочил с места и потом снова уселся. Теперь он говорит спокойно, без насмешки, правда, со спокойствием, которое оскорбительнее самого злого издевательства.
– Погубить вас? Признаться, я думал, что вы давно похоронены или успокоились в какой-нибудь тюрьме. Оказывается, вы все еще бродите призраком по земле. Правда, теперь уже никто не интересуется вами и вашими сказками, как это я предвидел с самого начала. Все это совершилось даже скорее, чем я думал. А теперь вы действительно полагаете, что у меня может явиться желание «погубить» безобидного бродягу? Нет, вы сами устранили себя. Это дело конченное. Теперь нужно только истребить последние ростки насажденных вами бредней.
Реубени опечален. В том образе, который набрасывает Мантино в своей ненависти, Реубени вынужден признать некоторые подлинные черты. Может быть, они даже не те, на которые указывает его противник. Быть может, он лишь мимоходом отмечает то, что ему, сару, кажется самой важной и главной причиной его неудач.
Реубени подходит ближе, его так манит взглянуть на себя глазами своего противника и попутно его охватывает какое-то смутное чувство, что, быть может, таким образом можно прийти к какому-нибудь соглашению со своим вечным противником.
– Бредни? Но ведь я всегда стремился быть трезвым. О чем вы говорите, что вы разумеете под этими бреднями?
Мантино презрительным жестом велит ему отойти назад. Надежда сара рушится. Его пугает непримиримость возбужденной им ненависти. Со времени заседания еврейского совета в Венеции, когда он собирался выбросить Мантино из окна, этот оскорбленный человек преследует его с почти сверхъестественным упорством.
– Один раз я вышел из себя. Но не считают, сколько раз я умел владеть собою в самые трудные минуты. Другие могут позволять себе всякие неблагоразумные выходки, только мне – ни в чем нет пощады…
Он говорит это ему. Просит прощения. Ведь жизнь Мольхо поставлена на карту. И снова он доказывает, что все, что он делал, он делал не в бреду, а с самым трезвым умом.
Смех Мантино трещит как горящие в камине дрова.
– Вы – и трезвость! Вот прочтите и еще раз вполне трезво скажите мне, что вы находите здесь трезвого?
Он передает Реубени книжку, в которой записаны отрывки из речей Мольхо. Реубени вынужден внутренне признать, что Мольхо вполне мог позволить себе все эти фанатические нападки на триединого Бога, на обряд крещения и Богородицу. Но в какой мере он причастен к этой духовной горячке, которая ему самому кажется бессмысленной? Его путь был иной, совершенно новый для евреев, не духовный, а светский, холодный, как факты. Он пытается разъяснить это, но Мантино немедленно прерывает его. Ему не нужно ничего объяснять, он сам все понимает. И Реубени действительно должен признать, что его логический ум очень остро схватывает фактическое положение, так что прекрасными словами с ним ничего не поделаешь.
– Я знаю, Мольхо из вас обоих менее опасен. Этот безумец сам отдает себя в руки палача. Стоит только перевести на латинский язык все эти нелепые бредни, которые кто-то записал во время его проповедей, и передать их в руки promotor haereticae pravitatis – и тогда ему конец.
Реубени вспоминает об опасности, угрожающей его другу, и она кажется ему еще ужаснее, чем прежде.
– Значит, так и было? – спрашивает он, содрогаясь от ужаса.
– Надо полагать.
Он соображает, можно ли как-нибудь защищаться против такого свидетельского показания. Но ему ничего не приходит в голову, и он только снова повторяет свою просьбу. Другого пути он не видит.
– Не дайте ему погибнуть, Мантино. Он покинет Рим. Я сам настою на этом. А вам он ничего дурного не сделал.
– Ничего мне не сделал? Да разве обо мне идет речь? Речь идет о благе всего еврейства.
Реубени изумленно смотрит на него. Таких речей он от него не ожидал.
Человек, все честолюбие которого, казалось, направлено на то, чтобы его не смешивали с остальной массой еврейства, серьезно говорит, – а тут сразу видно, что он говорит без всякого притворства, – об общем деле. Новая возможность сблизиться с ним!
– Так, значит, вы действительно убеждены, что вы защищаете еврейство против Мольхо и меня…
Мантино не дает ему договорить.
(У Давида мелькает мысль: «В сущности, он так же хочет всех заговорить и не дать высказаться другому, как Голодный Учитель, и Мейер Дуб, и Арон Просниц, и другие евреи в Праге».)
– Да, – кричит ему в ответ Мантино, – я защищал евреев от великой опасности. Вы, Мольхо и другие, подобные вам, вы губите виноградник. Если бы вас пустили, если бы благоразумные люди не затыкали вам рта, не уничтожали бы вас, как вы этого заслуживаете, то евреи уже давно перестали бы существовать. Другие народы давно истребили бы нас, если бы мы сами, из поколения в поколение, не истребляли таких мечтателей, как вы.
– Значит, вы это делаете для других народов?
– Да, для народов, среди которых мы должны жить и которые могут нас раздавить, если хотят, вот так… – Он мнет лист бумаги и пренебрежительно швыряет его в угол.
– Невысокого вы мнения о нас, – возражает Реубени. При этом он испытывает некоторую симпатию к Мантино. Человек этот ошибается, но он не равнодушен, он настойчиво борется за свои убеждения.
Сар подошел к нему еще ближе, без приглашения уселся на стул у письменного стола и начал осматривать стены, уставленные до потолка учеными произведениями на разных языках.
Недюжинный ум в этом сильном, живом человеке, которого, как он слыхал, назначают посланником в Дамаск. Как и в Венеции, он является в Риме предметом гордости еврейской общины, которая наградила его титулом гаона – князя изгнания. И этот испанский еврей, который в Венеции принял совершенно венецианский облик, нажил в Риме настоящий жирок прелата, и теперь в своем монашеском одеянии, во всех своих манерах, в том, как он после кратковременных вспышек снова возвращается к прежней сдержанности, даже выражением лица напоминает римского клирика. Мешает только толстая нижняя губа с бородавкой.
– Вы невысокого мнения о нас, – рассеянно повторяет Реубени и только несколько минут спустя замечает, что Мантино развертывает перед ним пышную картину будущего: если евреи послушаются его, станут невидимками, растворятся среди народов, то благодаря своим способностям они вскоре займут первые места и сосредоточат в своих руках всю власть.
Реубени вздыхает.
– И это, по-вашему, называется защитой евреев?
Мантино подошел к книжным полкам, чтобы извлечь из какого-то древнего римского автора подтверждение своей мысли. Благодаря этому Реубени успевает кое-что сказать ему.
– Благодаря нашим способностям? Правда, мы суетливый народ, и поэтому мы все быстро проделываем в уме. Но жизнь не поспевает за нами. Мы обгоняем природу. Мы, карлики с исполинскими шагами, перепрыгиваем через медленное, спокойное развитие. Но это, в сущности, наш недостаток, а отнюдь не достоинство. Мы всюду строим слишком быстро, строим не только собственными силами, но впопыхах берем еще чужие камни. Мы быстро бываем готовы, но здание не держится. Народ слишком блестящ. А там, где слишком много блеска, – там, в сущности, обман. Поэтому нас и ненавидят, что мы так блестим и блестим ложным блеском.
Мантино слышал только последние слова.
– И пускай нас ненавидят! Мы все-таки сильнее других, – и он возвращается с томиком Ювенала и пространно доказывает, что, во-первых, не существует никаких евреев, потому что они уже давно смешались с другими нациями, – затем доказывает, что евреи слишком обращают на себя внимание, что они не должны выделяться, а должны слиться с другими народами, что они сами по себе не обладают достаточным здоровьем и силой и нуждаются в притоке чужой крови, – но в то же время он находит, что евреи устойчивые, более здоровые, умные, добрые и во всех отношениях лучшие люди, выше всех других народов – и поэтому призваны господствовать над ними.
Реубени охватывает ужас. Этот ученый, который так ясно понимает все, что лежит вне его самого, совсем не замечает, что он одновременно защищает три мнения, которые совершенно уничтожают одно другое. Безнадежно! О какой судороге чувства, пускай это только самое блаженное чувство слабости, свидетельствует такое заблуждение, за которым нет никакого живого и осмысленного, но тем более мощного желания: совершенно уничтожить себя и всю свою породу?
Мантино говорит спокойно – теперь он снова декламирует Ювенала, он элегантный гуманист, как и другие ученые нового Рима, которые возрождают древний Рим в складках своих сенаторских лиц. Быть может, он декламирует классические стихи только для того, чтобы доказать, что он совершенно похож на других, что между ним и римлянами нет никакой разницы. И у него на лице морщины древнего Рима.
Он требует для себя во всем полного равенства с остальными, а следовательно и в отношении прошлого. Единственная разница может быть только в том, что он, пожалуй, знает все еще лучше, чем другие, и вскоре он будет поучать относительно этого общего прошлого, будет не только гуманистом, но и самым замечательным, самым первым гуманистом.
И Реубени хочет помешать всему этому, хочет задержать это движение в сторону счастливого будущего?
«Удивительно, что он еще терпит меня в своей комнате, – недоумевает Реубени. – Значит, все-таки есть какая-то связь, объединяющая меня с тобой и заставляющая нас видеть в другом, хотя и в противнике, нерушимую опору для себя?»
Это придает ему смелости. Мантино должен заступиться за Мольхо… Иначе не может быть. Весь вопрос только в том, как это сделать и когда. Только об этом он и спрашивает тоном, в котором теперь звучит некоторая интимность.
Когда? Мантино взглядывает на него как на вредное животное, которое во что бы то ни стало нужно истребить. Взгляд охотника, который убивает со спокойной совестью… Да, это вражда не на жизнь, а на смерть!
Естественную связь, действительно, никогда не удастся уничтожить между евреями.
Но это такая же связь, какая существует между охотником и дичью, между убийцей и жертвой, которые связаны друг с другом, но объединяются не раньше, как в момент уничтожения. У сара пробуждается подозрение, которое он до сих пор отталкивал от себя, насильно задерживал:
– Бандиты в Колизее были твои люди?
Мантино отвечает только кивком головы, серьезно, почти благоговейно, в сознании правильности своих намерений, которые он лишь случайно не осуществил до конца, но от которых он никогда не отречется.
Он словно опьянен честностью и правильностью своих мнений.
Не только за себя лично отказался он от самостоятельной жизни еврейского народа. Он действовал и от имени других. От имени всех евреев. Он не может оставаться равнодушным, если кто-нибудь другой еще верит в эту самостоятельность. С такими преступниками он должен бороться, он должен истреблять их!
Реубени понимает это, – и даже здесь он готов найти некоторое величие. Но он в ужасе отскакивает назад, когда Мантино с искаженным от злобы лицом показывает ему книжку, в которой записаны проповеди Мольхо.
– Я сам, – задыхаясь, хриплым голосом кричит Мантино, забыв всякую искусственную сдержанность и размахивая руками. – Я сам – не кто-нибудь другой, – сам ходил туда – каждую субботу – записывал – чтобы навсегда прекратить, уничтожить зло в корне! И чтобы теперь для этого богохульника, которого я сам!..
– Молчите, молчите!
Мантино широко растопыривает пальцы.
– Я сам донес на него инквизиции как на богохульника.
Реубени, плача от стыда, добирается до двери. Колени дрожат у него. «Мой соплеменник и брат, к которому я спешил на помощь из Хабора»…
Словно в тумане он видит, как Мантино подходит к шкафу и поспешно опорожняет бокал с вином. Жалко трясущаяся верхняя губа и этот испуганно болезненный жест, с которым толстый человек хватается левой рукой за грудь у сердца, словно его что-то кольнуло, – эта картина кажется сару символом того сопротивления, которое внутренне больной народный организм оказывал его плану.
Он возвращается в свою трущобу, достает пергамент, долго неподвижным взором смотрит на буквы. «И на этом пергаменте я хотел воздвигнуть храм!..»
Летят клочья.
«Кто же, в сущности, был безумец – Мантино, Мольхо или я?»
На этот раз суд был прост: Мольхо все признал. Возвращение в иудейство, отказ от раскаяния, – при таких условиях приговор не вызывал никаких сомнений.
И тем не менее случилось нечто совершенно неожиданное, нечто такое, чему трудно было бы поверить, если бы это не было подтверждено вполне тождественными между собою сообщениями современников, а также письмом Мольхо к мудрецам в Салониках – письмом, которое много раз перепечатывалось и дошло до нас.
Казнь совершилась, костер горел.
Но когда судьи отправились в Ватикан, чтобы сообщить папе о том, что его любимец казнен, из внутренних покоев к ним навстречу вышел Мольхо, прекрасный и невредимый. Как перед адским наваждением, они разбежались, увидев этого призрачного двойника.
В течение многих дней никто в Риме не мог сказать, умер ли Мольхо или жив. По этому поводу ходили самые невероятные россказни.
Со слов посвященных рассказывали, что в вечер накануне казни в инквизиционную тюрьму к Мольхо явился офицер швейцарской гвардии и помог ему бежать. Этого офицера послал сам папа, но план не удался бы в такой мере, если бы час спустя в пустую камеру Мольхо не зашел другой человек…
О том, как удалось бежать Мольхо, и впоследствии не узнали ничего определенного. Несомненно было только, что вместо него по ошибке взяли другого и потащили на место казни. Несчастный, который пострадал за него, не мог объяснить ошибки, потому что он был нем.
Это был слуга Реубени, старый глухонемой Тувия, которому в силу случайного сцепления обстоятельств пришлось умереть на костре.
Целые дни и ночи Реубени и Тувия бродили около тюрьмы, всячески стараясь проникнуть к Мольхо. Наконец, слуге это удалось. На его несчастье.
Ужасная судьба, постигшая его единственного верного спутника, сильнее надломила сара, чем ненависть соплеменника, которую он так остро почувствовал в беседе с Мантино.
Это довершило крушение.
Воля его была исчерпана до конца. Им овладело какое-то странное спокойствие. Грусть по добром старике, охранявшем его в детстве, отгонявшем от него дерзких христианских мальчишек, когда он вместе с матерью выходил из гетто.