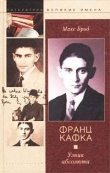Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Моника сделала знак Давиду, чтобы он следовал за ней. Он спустился по лестнице и пришел в трактир, где вскоре началось шумное пиршество. Моника подливала ландскнехту, позвала музыканта, который умел наигрывать плясовые мотивы. Один из ландскнехтов, уже старик с огромной седой бородой, бил в такт в барабан. Позвали еще обеих дочерей хозяина, и Давид, никогда не видевший ничего подобного, краснея глядел, как парни бесстыдно хватали девушек за груди. Правда, он понимал, что Моника участвует во всем этом поневоле, и что она затеяла весь этот кавардак только для того, чтобы незаметно потом убежать с ним, но ему было очень больно глядеть, как легко и без всякого сопротивления она приспособилась к этой чуждой ему обстановке!
Она танцевала с Гансом Зиндельфингером, танцевала, быть может, больше, чем требовалось для выполнения ее плана. Она танцевала с жаром и увлечением. И, по-видимому, уже забыла, что еще несколько часов тому назад стояла у открытой могилы, опуская в землю мертвое тело. Как вспыхивали ее глаза, когда красивый стройный мужчина прижимал ее к себе! Теперь она танцевала с ним гордую «падуану», – как тогда перед Давидом в своей девичьей комнатке. И как тогда, она на мгновенье прижималась щекою к щеке мужчины, только ландскнехт не стоял неподвижно, как завороженный, подобно Давиду, а следовал за нею, когда она уклонялась от него, и их шаги так искусно шли в такт, словно они всегда танцевали вместе.
Под влиянием винных паров ландскнехт снова вернулся к своему убеждению, что Давид – еврей, и, крепко обнимая Монику, запел песенку:
«Помоги нам, Боже, одолеть евреев. – Отнять у них залоги и собрать ландскнехтам всякого добра».
Это была песня его собственной выдумки и очень понравилась ему. Он часто повторял ее, поглядывая на Давида. Потом ему вдруг пришла в голову новая выдумка. Давид должен принести еврейскую присягу, что он действительно мадьяр, а это его жена.
Он должен поклясться, стоя в одной рубашке на свежей свиной шкуре, по еврейскому праву «швабского зерцала», как это заведено в Чехии. Так приказывает он, Зиндельфингер. Тем временем Моника старательно подливала ему вино в бокал.
Наконец, пора уже бежать.
Моника делает знак. Ландскнехт еле бормочет, смотрит тупыми глазами. Барабанщик храпит, опустив седую голову на барабан.
Теперь уже нетрудно уйти от них.
XXVII
Они шли целыми днями и даже ночью Им все казалось, что их настигает погоня.
Давид часто расспрашивал об Эрфурте, но большинство из тех, к кому он обращался, ничего не знали об этом городе. А об новой жизни, которая там началась, и подавно никто не слышал. Имя Гутена, о восстании которого в гетто проникли такие надежные вести, было чуждо для всех. Казалось, все это свободное государство словно провалилось сквозь землю, с тех пор как они покинули Прагу.
Раньше Моника безусловно верила словам Давида. Теперь она все чаще приставала к нему, когда же они, наконец, будут у цели? Она поговаривала также о том, что деньги у них на исходе.
– Нужно было больше украсть, мой милый, богатая матушка от этого не разорилась бы.
Она говорила и кое-что другое, что его раздражало. Он пробовал ей читать нравоучения вроде того, как в тот вечер, когда был петушиный бой. Тогда она приняла их совершенно спокойно и даже с раскаянием, а теперь гордо закидывала голову, и Давид иногда говорил ей с грустью:
– С тех пор как ты танцевала с ландскнехтом, ты меня больше не любишь.
Но об этом она и слышать не хотела.
– Оставь меня в покое с этим вертопрахом!
А если он продолжал в таком же тоне, она совсем умолкала.
– Неужели ты можешь забыть поцелуй верности на каменном мосту, в то утро? – с мольбой обращался он к ней.
Но и у него совесть не была чиста перед ней. Куда он вел ее через этот мост? Разве он сам не научил ее неверности? В течение всех этих дней, когда его жизнь, казалось, приходила в порядок, он почти не вспоминал позорного повода их бегства. Теперь с новыми сомнениями вернулось и старое отвратительное. В душевной муке он прибег к средству, к которому прибегал его отец для того, чтобы вымолить у судьбы перемену к лучшему. Он постился. Восемь дней он ел и пил только раз в день – вечером и в течение всего остального времени не брал ничего в рот. Сначала он постился два-три дня подряд и уже чувствовал, как сердце у него успокаивалось. Он не искал так страстно объятий Моники, которая уклонялась ночью от ласк. Он овладел своими чувствами, был снова силен. Мог спокойно и разумно говорить с Моникой. Он образумился, убеждал себя, что Моника явно оказала ему предпочтение перед ландскнехтом, иначе она могла бы покинуть его, – а между тем она, наоборот, приложила все старания к тому, чтобы бежать вместе с ним. Он возлагал большие надежды на свое прибытие в Эрфурт, в славную республику, в которую он верил сильнее, чем когда-либо. Любовь Моники снова укрепится, и вся его жизнь станет яснее и лучше.
В это время в одной деревне на Эльбе их застигло наводнение.
Эльба недаром носит это имя, она – злая Альба, призрак. К вечеру вода залила только береговую улицу, на которой был расположен заезжий двор. На рынке позади заезжего двора ребятишки весело плескались в маленьких лужах, образовавшихся на деревенской улице. Все это имело невинный вид, казалось игрой. Но ночью пошел сильный дождь, и река страшно вздулась. Как желто-бурое море, Эльба заполнила всю долину до самых гор. Заезжий двор очутился среди воды. В погребах, в комнатах нижнего этажа струились мрачные медленные воды. В них не чувствовалось движения, они подавляли своей массой, пробивали стены и лениво протекали дальше, словно во сне, не сознавая, что делают. Бывает и такой дьявол, который в своем благодушии столь же ужасен, как коварные демоны, которые хоть тем хороши, что благодаря своей живости походят на людей.
Давно пора было уже очистить дом. Хозяева привели Давида и Монику к чердачному окну, выходящему на рынок.
Рынок был превращен в озеро.
Там, где еще вчера дети бродили босыми ногами по мостовой и вода им доходила только по щиколотку, теперь, на утреннем рассвете, плавали большие лодки и забирали людей, спасавшихся из своих жилищ.
Такая лодка остановилась и перед заезжим домом, как раз под самым окном. В нее нужно было спуститься по длинной лестнице.
Сначала спустился хозяин. Лестница при помощи веревок была крепко привязана к подоконнику. Хозяин влез в открытое окно, которое было так мало, что он должен был согнуться, стоя на подоконнике. В такой позе он повернулся спиной к улице, лицом к двери, и стал спускаться, поставив ногу на первую ступеньку, затем исчез из окна и быстро и ловко спустился по лестнице.
Давид подошел к окну. У него закружилась голова. Лодка казалось ему где-то далеко, а лестница была прикреплена только к окну и свободно свисала вдоль стены. К тому же она была составлена из двух лестниц и поэтому казалась еще более ненадежной.
– Я не сумею этого сделать, – сказал он, побледнев.
– Но почему же не сумеешь? Посмотри, как ловко вылезла хозяйка, – пошутила Моника.
И действительно, пожилая женщина быстро вылезла за мужем.
Теперь очередь была за ними, но так как Давид медлил, то сначала слуга и служанка показали, как надо вылезать из окна и спускаться по лестнице. Самое трудное было повернуться в окне. Дальше все шло хорошо.
Моника подбадривала его.
– Разве ты никогда не лазил по деревьям?
Он со вздохом ответил:
– Нет.
– Так попробуй.
Но он отказался. Ему было очень страшно, он сумел перенести все опасности в пути, не испугался ландскнехтов, вырвал у них окровавленного петуха, не позволил, чтобы Герзона хоронил священник, сумел устроить погребение в чужой деревне, а теперь его пугало пространство, ничем не заполненное пространство.
Он подошел к окну. Голова у него закружилась, руки и ноги отказались служить. Голова у него была смелая, а тело не повиновалось.
До сих пор Моника не придавала значения его боязливости, только теперь она заметила, в каком скверном положении они очутились. Она расплакалась.
– Ты можешь слезть одна, – сказал Давид, – меня оставь здесь.
Но она не соглашалась. Стояла, пылая от возбуждения и стыда.
Провали ужасные четверть часа.
Давид попытался еще раз подойти к окну, затем оставил это. Никогда он еще не чувствовал себя таким беспомощным. Он сел и сидел неподвижно, словно отдав себя на волю судьбы.
Между тем на улицах, расположенных в более высоких частях деревни и выходивших на площадь, собралось много народу. Люди благодушно поглядывали, как спасались на лодках застигнутые наводнением.
Вскоре общее внимание было обращено на окно, за которым выжидали Моника и Давид, последние пленники воды.
Вдруг с одной улицы отплыла лодочка. Она была уже широких грузовых лодок, которые разъезжали по площади, обратившейся в озеро.
– Нас спасают! – воскликнула Моника.
Лодка, действительно, остановилась у дверей заезжего дома, которые наполовину были затоплены. Затем въехала в комнату нижнего этажа. Смелому гребцу пришлось сильно нагнуться и втянуть весла, так как иначе они бы сломались. Держась руками за стену, он осторожно продвигал свою лодку до внутренней лестницы. Слышно было, как лодка стукнулась о ступени.
Давид и Моника спустились по лестнице к самой лодке.
Они вошли в нее и узнали гребца. Это был ландскнехт Ганс Зиндельфингер.
Немало времени ушло, пока он вывез их из темной комнаты. Лодка легко могла опрокинуться. Сидевшие в ней не говорили ни слова. Но Давид почти не заметил, в какой опасности они находились, не сознавал, сколько отважного и смелого было в том зрелище, которое они являли собою, выезжая из двора заезжего дома. Отвага была на стороне их спасителя, он же представлял собою смешную фигуру.
Но он сознавал в это время только одно: что потерял навсегда Монику.
Правда, сначала могло казаться, что это не так.
Они сидели втроем в кабачке на склоне горы. Моника нежно целовала его в глаза и губы. На ландскнехта она даже не глядела и только наспех поблагодарила его. Она говорила только с Давидом, обвиняла себя, что чуть не явилась виновницей его смерти.
– Я знаю, что ты храбрый, ты только не привык лазить, ты воспитан иначе, чем я. – Она закрыла глаза и вздрогнула. – Я представляю себе, что было бы, если бы ты упал с лестницы и разбился о лодку. Как я могла требовать этого от тебя. Я ужасно подлая.
– Куда вы теперь думаете направиться? – спрашивал Давид ландскнехта. Утешения Моники были для него мучительны.
– Я слыхал, что тевтонский орден набирает войска против Польши. Ну, а если я вздумаю остаться на службе у императора, то могу направиться в Геннегау в войска Шауенбургера. Для благочестивого ландскнехта работа всегда найдется, потому что мир никогда не успокоится. И жену прокормить можем! – добавил он, хватая Монику за руку.
Она высвободила ее и поцеловала Давида в лоб, но ему показалось, что при этом она кокетничает и нежничает с ним только для того, чтобы показать чужому, как она хорошо умеет целовать.
– А слыхали вы о новом ученом свободном государстве в Эрфурте? – продолжал он расспрашивать, не желая показать своего грустного настроения.
Ландскнехт не удостоил его ответом, лишь мотнул слегка головой. Он разговаривал только с Моникой. Внимание, которое Моника уделяла не ему, а Давиду, не возмещало в достаточной мере этого пренебрежения и не давало возможности Давиду принять участие в общем разговоре. Давид мрачно смотрел на залитую водой долину. Все было окрашено в серый и грязно-коричневый цвета. Солнца не было видно, шел дождь и дул холодный ветер. Деревья производили такое впечатление, словно их сейчас задушит кашеобразная жутко медлительная водяная масса. Рушились дома; Давиду это напоминало разрушение Иерусалима. И внезапно ему стало ясно, почему рассказ о нем помещен в том самом отделе Талмуда, где говорится о разводе и расхождении любящих. Гибель храма – в обоих случаях. Расставание с Моникой равносильно новому разрушению святыни.
– Супруг мой, – ласкалась она к нему, – как хорошо, что мы благополучно избавились от опасности.
Он сделал над собой усилие и сказал:
– Может быть, вы пойдете вместе с нами – ведь по крайней мере до Дрездена нам по дороге.
Моника решительно запротестовала.
– Ну, что ты затеял! У них совсем другие дела.
Зиндельфингер ничего не говорил. Он мрачно молчал наподобие того, как иногда молчала Моника. Только позвал хозяина и велел снова дать вина. Моника не была угрюмой, как это бывало после ссоры с Давидом, а, наоборот, весело болтала.
– Хорошее это будет дело, если мы пойдем бродяжить втроем. Нет, пускай это делает кто хочет, а я не хочу.
Давид почувствовал себя еще более униженным. Для него это была последняя попытка спасти хотя бы остаток уходившей от него красоты.
– Ведь со стариком Герзоном мы тоже были неравной компанией, и все-таки ты не побоялась принять моего друга Агасфера в наш общий союз. Так и теперь я думал – можно пригласить…
Моника рассмеялась:
– Моего друга?
– Меня! – воскликнул Зиндельфингер.
Она насмешливо посмотрела на него.
– Вас, мужчин, нужно дурачить.
Ландскнехт сверкал глазами.
– Нет, не тебя! – и она ласково прильнула к Давиду. – Ты ведь у меня умненький.
Никогда еще он до такой степени не ощущал всей жестокости жизни, как во время этой грустной беседы, в печальной обстановке залитой наводнением долины. «Меня не щадят. Решение не заставит себя ждать. А что для меня оно означает гибель, это никого не интересует!» Впервые со времени побега его потянуло к матери, к ее ласке.
Моника была в хорошем настроении. Она весело показала на стоящий внизу заезжий дом. По лестнице на него взбирались ребятишки. Они лазали, как белки, влезали в окно и вылезали оттуда с разными домашними вещами – стульями, скамейками, кухонными мисками, и, весело балансируя, еще с лестницы передавали их жителям, которые с благодарностью принимали свое имущество. Смех и крик доносились до кабачка. Люди, очевидно, не так серьезно относились к постигшему их бедствию, как Давид, сидевший с мрачным взором, далекий от всей этой жизни и от своей веселой жены, которая старалась его приободрить.
XXVIII
Он проснулся среди ночи.
Ложе рядом было пусто.
Ему сразу стало ясно. Она последовала за более сильным мужчиной. Более сильный побеждает. Другого исхода он и не ожидал.
– Сочтены, сочтены, взвешены и найдены слишком легкими!
Рука глухонемого слуги дрожа пишет на стене огромные буквы и исчезает вместе с ними.
До сих пор был сон, а теперь это действительность! Жестокая, невыносимая действительность. Давид, пошатываясь, поднялся с кровати. Кругом пустота. Все кончено… В груди одна боль, беспредельная боль, пресекающая дыхание. Где у него кинжал? Она дала кинжал вместе с этой пестрой одеждой. Теперь все это сразу утратило всякое значение, даже хуже – стало враждебным. Все, что было пережито с нею и ради нее, утратило смысл. Перед ним стояла вся его прошлая жизнь, враждебно обернувшись к нему.
Он набросил на себя платье и вышел в сад. Может быть, он еще помешает ей. «Пускай я слабее, но я буду бороться. Мои страдания более жгучи – это тоже сила».
Ему не пришлось бежать далеко. На первом же повороте за изгородью он увидел при свете луны, как они медленно шли впереди. Ему пришлось быстро остановиться, чтобы не наскочить на них. Значит, они совсем не собирались бежать! Они чувствовали себя настолько в безопасности, что прогуливались здесь, почти перед его окном, перед его супружеской спальней. При виде этого зрелища он бессильно раскрыл руку. Кинжал упал.
Тихий звон. Моника обернулась. Нет, она ничего не заметила. Слегка высвободилась из объятий ландскнехта, наклонилась в сторону, чтобы сорвать цветок.
Давиду казалось, что она говорит: «Вот это жгучая крапива, а это глухая крапива».
Как часто бродили они вот точно так же рядышком по двору кузницы, у живой изгороди вдоль городской стены, около ее дома.
Она дала цветок ландскнехту. Давиду не хотелось ничего видеть, но он все-таки видел, как ландскнехт вместо того, чтобы взять цветок, грубо обнял ее, и Моника – ах, как это жестоко! – прижалась к нему своим стройным телом, словно хотела спрятаться где-то в широких складках его плаща. Теперь действительно Венера была у Марса.
Парочка удалилась. Давид бросился на сырую землю, запустил в нее руки. Так когда-то рылись в земле пальцы Моники. Все кончено. Впереди могила, забвение, ничего нет кругом! Но мучительные образы обступают его. Сколько их! Он опускал руку в свою собственную могилу, а видел только Монику и ее белую ручку за работой в саду. Как она соблазнила его. Перед ним проносится прошлое: Моника – и коварное спокойствие вражеского праздника. Улицы залиты дождем, аллеи полны укрывшихся от дождя людей в праздничной одежде – запертые двери кузницы – двор под серым небом, ветер колышет зеленые побеги молодых деревьев – в доме Моники пылающий очаг, у которого она ласково, дружески снимает с него плащ – целует его до тех пор, пока он не начинает отвечать на ее нежные поцелуи – своими первыми мужскими поцелуями! А потом все эти поездки на лодке к ней, и труп в погребе, и пожар, и побег – до того чудесного момента в саду заезжего дома, где она разложила белье на лужайке и сидела около спящего Герзона как настоящая хозяйка, глава семьи, его святая жена. «Да живет красота Иафета в шатрах Сима!» Но что, если красота Иафета не желает жить в шатрах Сима, если она коварно убегает? Разве тогда не падает все в преисподнюю, как волшебные сады Армиды? И не исчезает ли тогда заодно и родина, которая была покинута ради Армиды? Не исчезает ли Прага, мудрый отец и мать, престарелая мать – не исчезают ли они именно теперь окончательно?
Такова действительность. Тогда он стал одинок, совершенно одинок.
На дороге, которая идет через горы по направлению к югу, видна оборванная согбенная фигура. Бежать, бежать, не останавливаться, не выжидать. Это бегство, на которое весь лес в горах откликается насмешкой и проклятьем. Холодный месяц освещает дорогу, политую дождем. А там, где звезды освещают дорогу, там путь на север, в Эрфурт. О нем он не хочет больше слышать. Свободная республика закрыта для слабого, обманутого и чужого. Рухнуло искусное сооружение, по поводу которого много говорилось о спокойном ожидании, об отсутствии страха и остатке отеческой строгости нравов. Эта речь отзвучала среди бурной безжалостной ночи. Деревья сбрасывают увядшие цветы на дорогу, в грязь. Конец надежде, ничего не остается как где-нибудь безумно погибнуть, но только подальше, подальше от мест, где манило счастье!
Так убегает Давид. Он не знает, что дорога ведет к южному морю, к берегу, откуда корабли плывут в Святую землю и в Аравию.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В год «Рапад», то есть в 5284 год после сотворения мира, в 1524 год христианского летоисчисления, 1 января в Венеции у Рива де-Скиявонне бросил якорь большой парусник «Нубия», прибывший из Александрии. Парусник принадлежал известной аристократической семье Контарини и привез для приумножения богатства родного города перец, мускат и другие драгоценные восточные пряности. В то время как корабль разгружался, с него спустили гребной баркас, в который сели люди, возбуждавшие своим видом внимание даже в Венеции, привыкшей к чужеземцам.
– В дом капитана на Кампиело Поццо! – крикнули матросам с борта галеры.
В баркасе на кожаной скамейке уселся человек в белом бурнусе с огромным тюрбаном на голове. Перед ним на дно, устланное ковром, опустились, скрестив ноги, двое слуг, тоже в арабском одеянии.
Чужеземцев можно было бы принять за посольство турецкого государя, и тогда это было бы обычным явлением в жизни республики, которая постоянно имела дела с османами и дружеские и неприятельские, то заключая с ними союзы, то воюя с ними. Но странное знамя, которое держал один из слуг, не допускало такого толкования. На этом знамени из белого шелка не было полумесяца, а были вытканы золотом четыре буквы на неизвестном языке. Иностранное знамя не склонилось перед флагами, которые были вывешены на пьяццете; кроме флага республики Сан-Марко, там гордо реяли огромные полотнища флагов трех королевств – Кандии, Мореи и Кипра. И чужое знамя свободно и братски развевалось им навстречу.
Барка въехала в большой канал, миновала мраморные дворцы, украшенные позолотой, и целый лес пестрых пристаней, украшенных гербами, где колыхались суда, нагруженные вином и оливковым маслом. Ярко-красные весла военной галеры чуть не задели чужеземных гостей за головы, подобно длинным зубам прожорливого чудовища. Затем маленькая лодка затерялась среди множества разнообразных судов и вынырнула только вблизи моста Риальто, свернула в более спокойный фарватер Рио-де-Санфоло, узенький боковой канал, наконец, снова пересекла Большой Канал и причалила недалеко от церкви Сан-Маркуоло в Канареджио, в самом широком боковом рукаве канала.
– Вот там, напротив – будет гетто, – услужливо показал один из матросов человеку в тюрбане, высаживавшемуся на берег.
На худощавом загорелом лице не дрогнула ни одна черточка. Иностранец вышел на берег, не поднимая глаз. Только когда он стоял, можно было заметить, какого он маленького роста. Когда он сидел, он со своей грузной, широкоплечей фигурой, резко очерченной головой и огромной бородой казался великаном. Движением пальцев, не поднимая руки, он подозвал слугу и что-то шепнул ему, оставаясь совершенно неподвижным.
– Господин желает, чтобы его проводили в дом вашего капитана мессера Сципионе.
Вокруг группы уже собралась толпа праздношатающихся людей. Женщины, дети, нищие с любопытством осматривали странный наряд приезжих. Несколько евреев, которых можно было узнать по их желтым шляпам, поглядывали издали. Один из слуг врезался в толпу, чтобы проложить дорогу, другой нес за своим хозяином знамя с золотой надписью. Матрос пошел с ними, чтобы показать дорогу. Им пришлось пройти всего несколько шагов, и они очутились у двери указанного им дома. Матрос открыл ее и впустил иностранца. Его спутники провозились еще около часа, оттесняя от дверей напиравшую толпу и отвечая на разные расспросы.