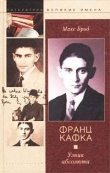Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
XXIV
«Мессия – сводник». Он старается осмыслить свой позор, но позор слишком глубок, чтобы охватить его до конца. Он вперяет усталый взор в пространство. «Сводник! Предал самое дорогое, что у него было».
Он сидит на тумбе, у портала замка, как нищий. Еврейская одежда обращает на него внимание, и прохожие издеваются над ним. Ведь было же сказано, что Мессия будет сидеть на тибрском мосту в Риме, среди нищих, у дворца папы. Но этого не было в пророчестве, что он будет смотреть на окна дворца и думать, за каким окном обнимает теперь бургграф его невесту.
В полдень он поднимается. Он не думал, что Моника останется так долго. Подавленный, плетется он домой.
В комнате у отца совещание. Они все еще совещаются. Или это новое совещание? Все равно – результат один и тот же. Чего они, собственно, добиваются? Разве они не знают, что он отдал для них самое дорогое? Для чего же они еще совещаются? Члены совета кажутся ему призраками. Ведь они проспали день, проспали самое важное, что случилось за это время, и как смешон маленький старшина с его властолюбием, с его важностью. Даже отец кажется Давиду немного смешным. «Его зовут Самсон, как библейского героя, а к этому еще Лемель. Самсон и овечка, совсем как я. Герой, робкий, как овца».
Рассказывают о посещении лейб-медика Ангелика. Он был испуган и, очевидно, весьма неприятно поражен, когда к нему явилась депутация от евреев. Он сказал: «Видите ли, именно потому, что я еврей, я не могу злоупотребить своим положением. Будут обвинять меня, и не без основания, в пристрастии».
Давиду хочется вмешаться и сказать: «Нет, я не так думаю. Отделять свою судьбу от судьбы общины было бы позорным бегством. Вы останетесь моими братьями. То, что я крикнул с моста, обращаясь к вашим домам, не было отречением. Если я от вас уйду, то только для того, чтобы искать ваш прообраз, неиспорченный благородный облик, на котором легла пыль столетий. Моя ли вина в том, что для того, чтобы найти это благородство и свободу, я должен уйти от вас, из ваших стен, в христианский город, где светит более счастливое солнце, где трава и деревья растут не только на кладбище, где природа свободно дарит плоды жизни. Где бы я ни искал, я всегда искал только красоту Израиля, низвергнутую с неба девятого ава, не навсегда низвергнутую, не для всех поколений». И вдруг Давид замечает, что он раскрыл рот, что он действительно говорит.
Заседание ведется еще беспорядочнее, нежели два дня тому назад. Тогда указ об изгнании еще не был оглашен. Теперь уже прошли целые сутки предоставленного восьмидневного срока, а положение нисколько не изменилось к лучшему. Боязливое ожидание, возбуждение достигли невыносимых пределов. Почти все постились, все не спали. У Давида в висках стучит также бессонная ночь и лишает его ясности мысли. Потому он говорит путанно, перескакивая от одного к другому.
– Я шел путем греха! – вскрикивает он, как это делают при молитве.
«Отец наш, царь наш, мы согрешили перед тобой», – отвечают ему некоторые из собрания и бьют себя кулаками в грудь. Вокруг Давида образуется небольшая группа. Он предсказывает спасение. Спасение – благодаря его греху. Никто его не понимает. Старшина настораживается. С своего высокого сиденья он обращается к Давиду и предлагает ему объяснить всем, на чем основывается его предсказание. Положение теперь такое, что нельзя пренебрегать ничем, даже самой невероятной возможностью спасения. Мясник Бунцель, не состоящий членом совета, но присутствующий сегодня на заседании вместе с некоторыми другими членами общины, – он просто насильно ворвался, так как основы порядка поколебались, – Бунцель, этот грубый человек, только что предложил вооружить молодых людей и в день изгнания защищать ворота. Лучше все зажечь, чем добровольно сдаться! «Хорошая надежда!» – восклицает кто-то из собрания.
«Надежда!» – при этом слове Давид вздрагивает. И он говорит, что у него тоже нет надежды. Наоборот, он все еще надеется, что план Моники не удастся. «Кто такая Моника?» – кричат ему. И он рассказывает о христианке, рассказывает, как посещал ее каждую ночь. Отец все равно это знает, так пускай знают и другие. В голове у него становится все туманней. Он говорит и о Герзоне, о том, как путем хитрости добыл у него ключ от ворот. «Это было началом зла. Нет, не началом. Начало так далеко, что я не могу даже найти его. Но все же это было особенно дурным поступком – обманывать ничего не подозревающего старика. Судите сами!» «Из такого зла произрастет добро? избави нас Бог. Лучше погибнуть честно и добродетельно, нежели быть обязанными своим избавлением Сатане». От него начинают отворачиваться. Он едва это замечает, продолжает говорить. Покаяние в грехе перед всей общиной, перед рабби, перед старшиной, перед отцом, перед другом детства… «Здесь все вы, кто меня знает. Так судите меня! Так все было»… И он рассказывает о том, что было в ночь пожара, о разговоре с Герзоном, который рассказал о ложных видениях, о беседе с отцом, отказавшим сыну в сердечной его просьбе, только сказал, что «дальний родственник» и больше ничего… «Все это привело меня к Монике, единственной, которая была добра ко мне, так что мне легко было потребовать от нее самое ужасное. „Я все равно пойду к бургграфу“, – были ее слова, и я сам проводил ее, отвел и уложил в его постель, взял его старческие пальцы в свои и приложил их, как холодную жабу, к ее пылающей груди».
Все снова насторожились, спрашивают его, когда должно случиться то, о чем он говорит в лихорадочном бреду. Но у него уже ничего нельзя больше выпытать. Он еще бормочет некоторое время и потом падает в обморочном состоянии.
И вслед за этим, или несколько часов спустя, он этого не знает, его будят фанфары, шум, радостные восклицания. Все хлопочут около него, тащат его к окну; внизу стоит герольд в голубом шелковом платье, с гербами бургграфа Розмиталя.
«Королевский приказ отменен. Евреи могут оставаться и находятся под особым покровительством короля и бургграфа».
Стыд и позор! Давид в своем пробуждении ничего другого не ощущает. Но его сводят вниз по лестнице, его окружает бесчисленная толпа, ему целуют руки, стараются дотронуться до его платья. Он не в состоянии освободиться от толпы, то исчезает среди нее, то его поднимают над нею. Ему прокладывают дорогу среди ликующих масс народа. Рядом с ним идет старшина, с другой стороны – рабби Марголиот. Это продолжается долго, очень долго. Они провожают его до дома. Он чувствует крепкий поцелуй матери. Отец как будто отворачивается, но он целует руку отца, и тот позволяет. Потом вокруг него становится совсем тесно. Сотни голов и тел перед его глазами. Но затем толпа рассеивается. Как перед королем, перед ним освобождают место. «Эсфирь, я брат твой, а ты сестра моя». Разве никто не поет ему эти стихи? Разве никто не знает, как все это позорно? Никто не понимает, как из сердца у него вырываются последние корни древнего благочестия, как его предают демонам Лилит? Нет, его еще ведут в синагогу. Благодарят Бога за чудо. Благодарят «Позволяющего воспрянуть усталому и окованному освободиться от оков». Но тут происходит нечто такое, что Давид одобряет и понимает. В синагогу врывается жена Липмана Спира, она вбегает в мужское помещение, размахивая топором, хочет убить Давида. Давид готов покойно принять удар, он нагибается, как животное, предназначенное на заклание. Другие бросаются на безумную женщину… Несчастная, смерть дочери лишила ее рассудка. «О, нет, она знает, – рыдает Давид, – она знает, что я виновен, что адским искусством я изменил начертание прямого пути господня. Она знает, чувствует это на себе, она хочет убить во мне сатану. Ведь из-за моего поступка мученическая смерть ее ребенка стала ненужной».
Люди суетятся вокруг него, поднимают его. Его вызывают третьим к чтению Торы – высший почет, какой возможен при богослужении. И чествованиям нет конца. Парадный обед в доме рабби, речи виднейших членов совета, которые называют его хранителем Израиля, пророком нашего времени, праведником из числа скрытых тридцати шести праведников, ради которых Бог сохраняет мир. Вся община не находит себе места от радости. О том позоре, который вызвал это ликование, никто уже не думает. А ведь он очень ясно говорил об этом. Разве не заметили или хотят забыть? Или… неужели удачный исход оправдывает все. Как бы то ни было, дурное побуждение победило. Дурное, а не хорошее побуждение спасло общину.
Наконец, Давиду удается незаметно исчезнуть. Уже полночь. Давиду стыдно явиться к Монике, сказать ей хоть слово о том, что случилось. Но в этом и нет надобности. Вместо того, чтобы заниматься бесполезными мыслями, Моника все приготовила. Ему, разумеется, невозможно бежать в еврейском платье, которое каждому бросается в глаза. Она снимает с него желтый колпак, под которым свисают пейсы. Ножницы и бритва снимают черные локоны и нестриженую бороду. Кокетливый берет украшает его сразу помолодевшее лицо. Плащ, без еврейской заплаты, он принес с собою. Но в нем слишком много складок, он слишком тяжел, как и всякое платье, которое носит еврей, даже если оно сделано по христианскому покрою. Даже в стенах гетто, где можно ходить без особых знаков отличия, евреи предпочитают черные очень плотные материи. Вместо этого Давид впервые одевает легкий, спереди открытый плащ из красного и синего сукна. Моника одевает его, весело хлопает в ладоши, она всецело занята переодеванием своего милого, и ей некогда подумать о чем-нибудь другом.
Только незадолго до того как отправиться в путь, упаковывая свои драгоценности, она догадывается спросить его, взял ли он с собой денег. Без денег, конечно, они далеко не уедут, даже если продадут ее драгоценности.
Об этом он совсем не подумал.
Она смеется:
– Ты ведь так хорошо умеешь открывать замки, мой милый.
Он снова вернулся в отчий дом, с которым, казалось, уже навсегда распрощался. В потемках он прокрадывается к ящику, где мать держит деньги. «Так для этого она работала и копила всю жизнь, чтобы собственный сын ограбил ее. Не на алтарь Всевышнего принесут меня в жертву, – думает он про себя, – воров полагается вешать и колесовать».
Глубокий вздох раздается среди ночи. Снится что-нибудь матери? Вздыхает она во сне?
Давид взломал ящик, теперь он останавливается, прислушивается. Снова вздох. Он пробирается по лестнице к ней, проходит мимо комнаты отца. Тишина. В это время отец уже не занимается, он спит. Но если бы даже он и не спал, там все равно была бы тишина. Там всегда тишина. Через дверь отца ничто не проникает. Но мать, мать зовет его, зовет его со вздохом. Он открывает слегка приотворенную дверь в ее спальню. Мать лежит на постели. Бледный месяц озаряет на подушке ее спящее лицо. Какое оно маленькое-маленькое, как лицо Моники, когда она лежит на подушке. Но какое оно измученное жизнью, изборожденное морщинами от забот.
Он подходит ближе к постели. Теперь она даже не вздыхает.
И вдруг его осеняет мысль: «А что если она умирает… Если не сейчас, то это случится через пять, через десять лет. Она так стара».
– Мать так стара, – вполголоса говорит он.
Он хочет подойти совсем близко к постели, приласкать, поцеловать ее. Сказать хоть слово на прощанье. Он никогда ее не увидит, свою старую мать, даже когда она будет лежать на смертном одре, он ее не увидит. Он подошел совсем близко, чувствует запах ее старых волос. В это время широкий рукав его плаща запутался в одном из украшений спинки кровати. Только теперь Давид опомнился. Ведь мать не узнает собственного сына. Она увидит перед собой человека без бороды, в пестрой одежде! До смерти испугается чужого.
Он чужой в отчем доме. Выбора больше нет.
XXV
Путь их вел вниз по течению реки Молдавы. В точности Давид не знал, где находится свободный город Эрфурт. Он знал только, что путь ведет сначала по течению Молдавы, а потом по течению Эльбы, за пределы Чехии, которую им следовало как можно скорее покинуть. Но еще прежде чем они добрались до границы, пражская община снова напомнила ему о себе.
Когда после трех дней пути они однажды утром смотрели в окно постоялого двора, в котором заночевали, они увидели печальное зрелище. Преследуемая лающими собаками, ковыляла какая-то высокая фигура. Плащ был надвинут капюшоном на голову, так что закрывал лицо, и человек двигался на ощупь, словно слепой. И было как-то жутко, что он, несмотря на это, шел очень быстро и довольно уверенно отгонял собак своей длинной палкой. Но не всегда успешно, – об этом свидетельствовал разорванный плащ, клочья которого болтались по земле.
Давид побежал из дому вслед за путешественником, загородил ему дорогу и узнал Герзона.
– Вас выгнали?
Давид не усмотрел в этом ничего невероятного. В общине, как только она избавилась от опасности, наверно, снова возобновились старые распри, и досталось тому, кто был слабее всех. Якоб Кралик, Гиршль, все, кто были недовольны, что восторжествовал престарелый старшина Элия Мунка, что снова его партия, к которой принадлежало и семейство Лемелей, спасла город, – все эти недовольные люди, очевидно, объединились, чтобы нанести удар жертве, которой оказался бедный привратник, добродушный Герзон, беззащитный в своем тихом отупении. Какая благородная месть! Действительно ли это было так? Но Герзон не отвечал и вообще не понимал, что произошло. Может быть, он и добровольно покинул город, отправившись на поиски Давида. В глазах его сверкала радость, что он встретил своего любимца, он был почти готов стать перед Давидом на колени, как тогда, на галерее башни. Пока Давид продолжал свои расспросы, подошла Моника.
– Да оставь его, ведь он совсем изголодался. Разве ты не видишь?
Они провели его в сад при постоялом дворе и дали ему молока. Затем он заснул на скамейке перед домом.
Моника принесла из своей спальни подушку и подложила ему под голову. Для того, чтобы защитить его от яркого солнца, она протянула платочек между двумя ветвями, которые покачивались над скамейкой. Затем она воспользовалась этой первой остановкой (до сих пор они все время были в пути), чтобы помыть кое-какое белье в протекающей неподалеку речке и высушить его на лугу. Давид сидел рядом с Герзоном на скамейке и отгонял от него мух. В этот час тихого покоя буря последних дней доносилась лишь как отдаленный отзвук. Солнце золотило листву, деревья тихо колыхались. Давид беспрестанно оглядывался на свою прилежную жену, он был горд и счастлив, ведь он видел в этом тихом саду при постоялом дворе что-то вроде семейного очага, скромного начала собственного хозяйства. Потом пришла Моника, и, обнявшись, они смотрели на спящего старца. Лицо у него осунулось.
О чем думает Моника? Может быть, о своем отце, которого она покинула в кузнице и который тоже был стариком? Вдруг у нее показались слезы на глазах. Странно, Моника так же мало говорила ему о своих родителях, как и Давид о своих.
«Мать так стара», – вдруг прозвучало у него в ушах, словно он сам сказал эти слова.
Герзон зашевелился во сне и закряхтел.
Моника сейчас же подошла к нему и поправила подушку.
Это придало смелости Давиду высказать то, о чем он уже думал в течение некоторого времени. Правда, он боялся, что Моника будет ощущать это как некоторую тяжесть, как умаление только что добытой свободы.
– Нам не следует оставлять его здесь, возьмем его с собою.
Моника посмотрела на него с изумленным, чистым, искренним взглядом:
– Да ведь это само собой разумеется.
Он был ей так признателен, он долго молча пожимал ее руку, а когда она ушла за бельем, он почтительно смотрел вслед ее стройной белой фигуре, увенчанной белокурыми волосами. Она казалась ему божеством простого, естественного чувства… И теперь он почувствовал музыку в пении птиц. Это было не пустое чирикание воробьев в городе. Здесь, в ближайшем лесочке птицы пели нежно, с разнообразными переливами, они пели о весне, о радостях жизни, которые становятся доступны, если человек живет правильно, повинуясь закону природы. И подобно голосам птиц изменилась также и Моника. С тех пор как они покинули город, она стала благороднее, отзывчивее, и он сам стал иным. Он чувствовал это. Торопливые и жадные ласки в те ночи, когда они принадлежали друг другу, сменились чувством глубокой внутренней дружбы и человеческого доверия.
Разве это было так плохо, что он, увлеченный своей любовью, забыл о матери? Сейчас ему почему-то казалось, что мать здесь, около него. Она не сердится. Ее голос сливается с благородным хором поющих птиц.
Моника знала свойства лечебных трав.
Она сварила питье старику, которое его подбодрило. Уже после обеда они втроем могли отправиться в путь.
В этой странной компании они шли по холмам и долинам. Высокий старик посредине, справа и слева счастливые возлюбленные, поддерживающие его за руки, но больше с целью оказать ему внимание, чем для действительной помощи. Потому что он не нуждался в этом, шел бодро и иногда опережал их. Он был хорошим пешеходом, и Давид вспомнил скитания Ашера Лемлейна от венецианского моря до Чехии. Старик привык бродяжничать. Воображению Моники это представлялось иначе. Когда старик однажды опередил их на подъеме в гору и стоял на изгибе дороги и смотрел между елями в лес, громко вздыхая, как он привык это делать, а заходящее солнце озаряло его рыжие волосы и развевающиеся лохмотья плаща, Моника вдруг закричала с выражением детского испуга в лице:
– Смотри, смотри – вечный жид!
Как хорошо было с ее стороны, что она не боялась этого страшного Агасфера. Для нее он был Агасфером ее Давида, и этого было достаточно, чтобы она полюбила его и старалась услужить ему. Давид не знал, как выразить ей свою растроганность и преданность.
Впрочем, вскоре выяснилось, что старик Герзон совсем не был им в тягость, а, наоборот, оказал им неожиданную помощь. До сих пор на парочку часто смотрели косо. Что они не были супругами – это видно было сразу. Их молодость и некоторая пугливость в манерах часто заставляла хозяев отказывать им в ночлеге. Да и разница между ними слишком бросалась в глаза. Стройная белокурая девушка была на голову выше черноволосого юноши, в котором, несмотря на пестрый плащ, можно было признать еврея или, по крайней мере, иностранца. Присутствие Герзона делало эту компанию более заслуживающей доверия. Они казались братом и сестрой, а старик мог быть их отцом. Это преимущество сказалось в первый вечер их путешествия. Без всяких разговоров их пустили в первую попавшуюся гостиницу.
XXVI
На следующий день Герзона лихорадило. Тем не менее он сам настойчивее всех требовал, чтобы они шли дальше. Куда? Это ему, по-видимому, было все равно.
В пути он часто опережал их на значительное расстояние, хотя иногда совсем задыхался. Моника старательно боролась с его кашлем при помощи своих лекарств. Но силы Герзона явно падали, подобно тому как рассудок его давно уже утратил связь с земными делами.
– Разве это не печально? – говорил иногда Давид.
Моника это не понимала. Люди жили и умирали. Что было в этом печального? Покуда старый Герзон был жив, она ухаживала за ним. Но за этим не чувствовалось, что смерть его сколько-нибудь потрясет ее, – не только потому, что она недавно познакомилась с привратником, но и потому, что смерть вообще, по-видимому, совершенно не трогала ее.
– Если бы мы уже были в Дрездене, – равнодушно говорила она, – мы могли бы поместить его в больницу, и он бы там спокойно умер.
– Спокойно умер! Но я желаю, чтобы он жил!
– Да он все равно долго не проживет. Разве ты не видишь, что он сам хочет умереть?
– Я не допущу этого. Мы должны найти врача, надо постараться…
– Этим ты только мешаешь ему умереть. Почему ты не хочешь, чтобы он спокойно умер? Ведь он ни о чем другом не говорит, как о близком конце.
– Он имеет в виду совсем другое, – конец всех страданий.
– Концом всех страданий может быть только смерть.
«Где она это слышала? В церкви, что ли?» – подумал он. Все равно, это вырвалось с полным убеждением из ее цветущих уст – и он удивлялся, что она, умевшая жить так весело и непринужденно, в то же время в другом уголке своего сердца считала все радости жизни настолько ничтожными, что, казалось, готова была принять смерть с такой же легкостью, как и жизнь.
Давиду доставляло особое удовольствие считать себя неправым и возвышать в своих глазах Монику. Но и для этого был известный предел!
В углу харчевни, за вином и игрою в кости, сидели пестро одетые люди.
«Эй, подымайтесь, ландскнехты лихие, – не дадим мы Гуттена в обиду».
Песнь, которую они рычали, была ему знакома. Так вот каковы в действительности были эти ландскнехты, песню которых он сам любил петь! Правда, он пел ее иначе. И иначе представлял себе вооруженных защитников свободы. Он громко рассмеялся, когда сообразил это: «В сущности, я представлял их себе молодыми учеными, раввинами, с ружьями и алебардами».
Это, конечно, была его вина. Но когда он услышал, какие речи вели эти парни между собой и как они разговаривали с деревенским старостой, который их угощал, то у него пропала всякая охота смеяться. Один из них, красивый белокурый парень с блестящими глазами, особенно выделялся и без конца рассказывал о подожженных замках, простреленных головах, опустошенных полях и награбленных драгоценностях. Ландскнехты, их было четверо, принадлежали к стрелковому отряду Иерга фон Фрунзберга, защищали Верону против Священной Лиги и теперь возвращались домой, потому что король заключил с сеньорией Венеции девятимесячное перемирие. Их отряд был распущен, но их мало огорчало это обстоятельство, так как все равно они уже целый год не получали жалованья. Поэтому они привыкли добывать себе деньги и продовольствие своими средствами. Деревня, куда они приходили, принадлежала им. «Берегись, крестьянин, я иду!» – был их барабанный сигнал. Староста, по-видимому, знал это, потому что старался мирным соглашением с этими четырьмя парнями предупредить разгром деревни.
– Давай выкуп, дьявол! – кричал блондин, уже почти пьяный, и, схвативши за шиворот старосту, приподнял его со скамейки.
Испуганный крестьянин обещал все, что от него требовали. Чтобы развлечь опасных гостей и отпраздновать заключенный договор, он велел принести двух петухов, которые с растопыренными перьями набросились друг на друга. Петушиный бой понравился парням. Присевши на карточки, они следили за ним, и когда один из петухов отступал замученный, они подбадривали его хлопаньем в ладоши, поливали его вином из своих бокалов.
Давид побледнел. Моника тоже хлопала в ладоши и не сводила глаз с этого ужасного зрелища.
Он не мог этого вынести.
– Я покупаю этого петуха! – крикнул он, бросился на середину комнаты и схватил птицу.
Если бы стрелки не были совершенно ошеломлены этой выходкой, ему пришлось бы жестоко поплатиться. Но еще прежде чем пьяные что-нибудь сообразили, он бросил хозяину столько талеров, сколько успел выхватить из кармана, и, схватив Монику за руку, а другой держа петуха, выбежал в дверь.
В этот раз, впервые, он выбранил ее:
– Как ты могла смотреть на это и находить удовольствие в таком кровопролитии?
Моника опустила голову и робко солгала, что она совсем не смотрела. Теперь она сразу стала обыкновенной женщиной.
Ему было жалко ее. Она лежала вытянувшись в кровати и плакала. Он гладил ее по голове и говорил:
– Ничего, Моника, – Только, знаешь, я тут кое-что понял и за это я благодарен тебе.
Она не слушала и не возражала ему. Уставши с дороги, она заснула. Не было никакого смысла говорить с ней об этих вещах. Но мысли его, став на этот путь, устремились дальше.
– Строгость нравов, – бормотал он, – священная строгость нравов – великое достояние предков – я не хочу лишиться тебя. Может быть, я слишком поносил тебя, когда по своей вине задыхался в гетто! Но здесь, на вольном воздухе у открытого окна я чувствую, сколько в тебе хорошего и мудрого, священная, серьезная еврейская строгость нравов. Только не следует насаждать тебя прежде, чем человек успел почувствовать, что такое жизнь, прежде, чем он вкусил радость бытия. В этом ошибка моего народа: он постится, прежде чем поел. Но если бы он ел по-настоящему – и тогда, когда тело уже насыщено кровью и соками и когда еда угрожает превратиться в бессмысленное обжорство, – если бы здесь, на пороге здорового и нездорового он проявлял свою строгость нравов, тогда он действительно стал бы народом священников, свободным народом. А мы постимся как больные. Мы еще не начали насыщаться и уже отказываемся от пищи. Мы слишком нетерпеливый народ, и мы торопимся насадить нашу строгость нравов, почерпнутую из книг, а не из полноты жизни.
Он нежно смотрел на спящую Монику. В окно доносилась из трактира глупая оргия, а здесь все было тихо и невинно.
«Я не отвергаю предложенную пищу, я завоевал свое счастье, свою жену. – Не без греха. – Потому что иначе, может быть, и нельзя. Нельзя совсем без греха. Но я не хочу идти дальше. Не хочу больше неправды и обмана! Пусть теперь покажет себя унаследованная от предков строгость нравов».
Показавшаяся из-за облаков луна осветила ему стройное тело спящей нимфы. Узкая рука, с которой соскользнул рукав, лежала на белокурой головке. Его охватило чувство блаженства.
«Не лишиться этого и остаться все-таки хорошим. Какой узкий путь, какая жуткая опасность справа и слева».
Но ему казалось, что он нашел этот узкий единственный путь.
Его уверенность исчезла, когда они на следующий день вошли в комнату Герзона. Герзон ночью умер.
В открытое окно залетела птичка и сидела на подоконнике у самого изголовья кровати и радостно чирикала навстречу солнцу рядом с недавно умершим, страстная душа которого, казалось, устремлялась к небу в волнах этой песни.
Моника громко молилась – Давид еще никогда не слышал, как она молится. Она казалась ему более чуждой, чем когда-либо.
– Агасфер успокоился, – тихо и благоговейно сказала она.
Это заставило его прийти в себя.
– Где мы его похороним?
– Надо позвать священника.
Мессия Ашер Лемлейн – на христианском кладбище! Эта мысль показалась ему издевательством над мечтателем, который обещал, что все церкви в один миг рушатся в полночь, знаменуя пришествие Мессии.
Он постарался объяснить ей, как умел. Но что же делать! Только теперь он сообразил, что за все время после своего бегства из Праги он ни разу не встретил еврея. Кругом на большом расстоянии нигде, кроме Праги, не было еврейских общин. Он был один, затерявшийся среди сотен тысяч чужих и врагов – один с трупом.
Но никогда не унывающая Моника нашла выход. Вырыть могилу в лесу! Лес принадлежит всем! Давид согласился с нею. Было только одно затруднение, – незаметно достать из сарая в саду хозяина кирку и лопату. Моника и это сумела сделать. Теперь осталось только найти не слишком отдаленное, но в то же время укромное местечко. Нужно было, чтобы их не застигли за этим опасным делом.
Они проработали с утра до вечера на тенистом холме в лесу, откуда видна была Эльба. Холм этот напоминал башню Герзона на берегу родной реки. Затем они выждали наступления ночи и, когда стало совсем темно, вытащили труп из комнаты, закутали его в плащ и снесли к могиле. Посох Герзона они воткнули в могилу вместо памятника.
В эту же ночь они хотели покинуть постоялый двор, где их странное поведение, несмотря на все меры предосторожности, могло обратить на себя внимание.
Они связывали свои вещи, как вдруг дверь в комнату распахнулась. При свете факелов стояли четверо ландскнехтов, а за ними испуганный хозяин и какой-то еще более испуганный крестьянин.
– Ни с места! – крикнул молодой белокурый парень, который, по-видимому, был у них вожаком. – Клянусь своим именем Ганса Зиндельфингера, – прежде чем вы выйдете отсюда, вы должны мне отдать петуха, которого вы вчера отняли у нас во время игры.
В этом требовании легко было отказать, потому что Моника отдала подыхающего петуха в харчевню. Хозяин подтвердил это, следовательно, и не было основания задерживать больше путешественников. Но вскоре оказалось, что ландскнехт собирался отомстить за то, что ему помешали вчера в его развлечении, и желал во что бы то ни стало придраться к ним.
– Вас было трое, а теперь двое! Где старик, который был с вами? Вот этот человек, – он указал на дрожащего крестьянина, – говорит, что он видел, как вы уносили его из дому и закопали в лесу без христианского погребения.
– Врет он, – быстро ответила Моника. – Старик совсем не с нами пришел. Но если он остался еще должен хозяину, то мы, из христианской любви и для того, чтобы вы нас оставили в покое, готовы все заплатить. А вообще нас это совсем не касается.
«Как смело защищает она нас и как ловко она выкручивается», – подумал Давид и хотел прийти ей на помощь, но стрелок заорал на него:
– Молчи, еврей!
Давид отошел в угол.
Недовольный, что у него выскользнула добыча из рук, ландскнехт смотрел по очереди на них обоих. Вдруг улыбка осветила его загоревшее лицо. Теперь он напал на самую удачную выдумку. Подбоченясь, он с преувеличенным изумлением наклонился в их сторону.
– Дьявол вас возьми, каким образом вы очутились вместе?
Молчание.
Он повернулся к хозяину.
– Известно вам, хозяин, если кто схватит еврея без желтого кружочка на платье, то он имеет право отнять у него половину всего имущества, которое при нем окажется. А другая половина принадлежит властям.
Хозяин поспешил подтвердить.
– И полагается подвергнуть его пытке и с пристрастием допросить, чтобы он указал, где у него спрятаны и зарыты сокровища.
Теперь заинтересовались и трое остальных ландскнехтов, которые до сих пор держались в стороне. Почуяв добычу, они подошли ближе. Один взял Монику за подбородок:
– Да еще есть императорский указ – если еврей заведет шашни с христианкой, то его надо сжечь в бочке с дегтем.
– Чего им надо? – возразила Моника, как бы обращаясь к Давиду совершенно равнодушным тоном. – Мой муж Владислав Першиц, с которым я сочеталась законным браком в королевском городе Офене, венгерский гражданин и так же мало общего имеет с евреями, как и вы, господин ландскнехт. А я, – при этом она приподняла юбки и показала изящную ножку, – госпожа Моника, танцовщица, и направляюсь в Дрезден к королевско-саксонскому двору, где буду на вас жаловаться, если вы меня сейчас же не освободите.
Свои решительные слова она подкрепила кокетливым взором, сделала несколько па и этим заставила Зиндельфингера молчаливо отступить, но тотчас же у него явилось желание поразвлечься иначе. Он обнял Монику за талию и сказал:
– Если вы танцовщица, то я прошу вас и вашего мужа уж во всяком случае не покидать нас. Вы должны сегодня ночью танцевать с нами, госпожа Моника.