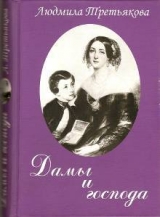
Текст книги "Дамы и господа"
Автор книги: Людмила Третьякова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Из писем Авроры ясно, что Павел продолжал упорствовать в нежелании видеть сына. Страшные мысли приходили ему в голову: зачем жить, если Мари больше нет? Не желая впадать в непрощаемый грех самоубийства, он тем не менее не отказался от мысли умереть и начал морить себя голодом.
Атмосфера веселого, праздничного Сан-Донато была пропитана печалью. Слуги из местных, горько плакавшие на похоронах «прекрасной княгини Марии», стали поговаривать, что и впрямь грозный святитель Донато дает знать обитателям дворца, что не будет им здесь ни покоя, ни радости…
С огромными трудностями, не раз встречая отказ, Авроре глубокой осенью все же удалось уговорить Павла уехать в Париж. Родные и друзья, близко принявшие к сердцу семейное несчастье, тем не менее, были не в восторге от ее идеи. Все в один голос говорили, что в том состоянии, в котором находился Павел, он легко сделается добычей всякого рода соблазнов, станет заливать горе вином, свяжется с «утешительницами», жадными до его денег. Прошлая скандальная слава молодого миллионера оказалась столь живучей, что, несмотря на известие о семейных горестях, от него ожидали продолжения прежних беспутств.
…В Париже Аврора Карловна с сыном и внуком обосновались на улице Пасси, состоявшей из череды небольших элегантных особняков.
Траур по усопшей давал Демидовым возможность не посещать общественных мест с их увеселениями и театров. Правда, к ним то и дело приезжали давние знакомые.
Одной из первых появилась княгиня Бетси, помянула Мари, приложила к глазам платочек и принялась взахлеб рассказывать парижские новости.
Павла навещали его давний друг граф Илларион Воронцов-Дашков и князь Александр Барятинский. Оба были на их с Мари свадьбе. Теперь это обстоятельство причиняло Павлу дополнительную боль: вот они все – здоровые, оживленные, благополучные, а где же Мари?
Что за судьба у них, Демидовых, в самом деле? – думала Аврора. Она – вдова, он – тридцатилетний вдовец… Неужто это правда: «Благо богатства влечет за собой неот– вержимое искупление»?
* * *
Мать изыскивала любые предлоги, лишь бы не оставлять Павла в доме одного. Случилось так, что ей нужно было отвезти деньги в крошечный лазарет на самой окраине Парижа, который содержал какой-то старый доктор-доброхот, лечивший исключительно неимущих. Аврора случайно познакомилась с ним в одну из первых поездок в Париж и всегда помогала деньгами: привозила сама или передавала с оказией. В этот раз она попросила сына сопровождать ее.
Их экипаж, выехав из фешенебельных районов Парижа, медленно двигался вдоль узких улочек с обшарпанными домами, а потом и вовсе остановился. Кучер-француз с кем-то громко переругивался. Затем, открыв дверь экипажа, он стал извиняться и попросил господ выйти – какая-то застрявшая колымага перегородила путь. Придется экипаж подавать назад, чтобы объехать ее.
Аврора, подобрав подол платья, и Павел, ступая на каблуках, чтобы не запачкаться смердящей жижей, покрывавшей булыжники мостовой, поднялись на ступеньки ближайшего строения и стали ждать. Кучер кликнул на подмогу трех оборванцев, которые, разинув рот, наблюдали, как разъедутся экипаж с повозкой, и вся компания принялась за дело.
В этот момент, на четвереньках пересекая улицу, к Демидовым с противоположной стороны приблизилось уродливое существо, тельце которого крест-накрест было повязано клетчатым платком.
Раздался крик:
– Роза, Роза, вернись! Ты слышишь меня?
Стало ясно, что это девочка лет четырех. Голова ее была в пшеничного цвета завитках. Она подползла к Демидовым и протянула к Авроре руку в мокрой перчатке, пытаясь дотронуться до пышной оборки ее платья.
К девочке со всех ног спешила грузная старуха.
– Не тронь, не тронь, говорю тебе! – кричала она. – Ах, негодяйка! Сейчас я тебе задам.
Схватив малышку, как котенка, за шиворот, она оттащила ее в сторону.
– Ну-ка, Роза, иди на свое место. Простите, сударыня, за этой егозой не уследишь.
Девочка послушалась. Опираясь на руки и подтягивая за собой завернутые то ли в грубую ткань, то ли в куски кожи обрубки ног, она быстро переместилась на указанное место, ловко взобралась на табурет, уселась и помахала оттуда рукой.
– Что у нее с ногами? – спросила Аврора старуху, которая явно была готова поболтать с редкими в этих краях господами.
– У нее, сударыня, можно сказать, и вовсе ног нет. А вместо них так, не поймешь что – вроде двух рыбьих хвостов. Такою уж родилась. К матери-то ее, моей племяннице, лишь только приехали мы из Бретани, какой-то ловкач подкатил, охмурил дуру деревенскую, туда-сюда, а она уже брюхатая. Испугалась! У нас с этим в Бретани строго. Она от позору-то и глотнула какой-то гадости. Да недотравилась! Опять не повезло девке: и жива осталась, и дите безногое родила. Что уж теперь делать. У нас, добрые господа, в Бретани так считают: когда Богоматери удается вымолить у Бога прощение грешнику, на земле вырастает цветок. Чем тяжелее грех, тем цветок красивее.
Мужские грехи превращаются в цветы большие, без запаха, а женские – в душистые, нежные. Розы, сказывают, – отпущенные грехи любви. Вот мы и свою стрекозу Розой назвали. Не смотрите, что калека, девчонка забавная, веселая… Только каково ей будет-то? Сейчас вот племянница мне приплачивает, чтоб я за ней смотрела да чтоб ее какой повозкой не раздавило.
– А где же ее мать?
– По людям ходит. Кому что надо, то и делает. Баба она сильная, работящая. Белье берет, по ночам стирает. Да только знаете, какой народ нынче – кто недодаст, кто и вовсе не заплатит.
В это время к ним подбежал запыхавшийся кучер:
– Прошу прощения, все в порядке, можно ехать.
Экипаж уже скрылся из виду, а старуха все стояла, словно пораженная громом, вертя в красных распухших пальцах кредитки, сунутые ей важным господином в цилиндре. Потом, боязливо оглянувшись, спрятала их под накинутый на плечи платок и поспешила к Розе.
…Человек видит то, что хочет видеть: за блеском сытой парижской жизни Павел разглядел обездоленных, отверженных людей.
Уловив настроение сына, Аврора рассказала ему, как она со своими единомышленниками создала у себя на родине в Финляндии Дом милосердия, где содержала на личные деньги бедных вдов, сирот, беспомощных старух.
Выслушав мать, Павел загорелся идеей создать приют для обездоленных женщин, где они могли бы не только иметь кров и еду, но и зарабатывать деньги. Найдя подходящее помещение в парижском предместье, Демидов закупил оборудование для швейных и художественных мастерских. Их продукция, добротная и недорогая, находила быстрый сбыт и приносила женщинам пусть небольшие, но деньги, а вместе с ними надежду. Кроме того, для них была разработана и образовательная программа, в которой особое внимание уделялось религиозным вопросам.
Это предприятие, задуманное и очень удачно воплощенное Демидовым в жизнь, вызвало резонанс в Париже. Газеты подробно писали о Доме милосердия, созданном и существующем на деньги русского миллионера, и призывали своих собственных богачей продолжить эту благородную акцию. Впервые, наверное, имя Демидова упоминалось не в колонке скандальной хроники.
Совершенно ясно: Париж увидел иного Демидова – не беспечного бонвивана, а человека милосердного, отзывчивого. Страдание очищало, лечило душу, заставляло задумываться об истинном смысле жизни.
Теперь Павел чувствовал потребность в благостной тишине храма, в беседе со своим духовником. Острые приступы душевной боли, доводившие его до исступления, остались позади. Горечь утраты перестала денно и нощно терзать его, однако не исчезла вовсе, а притаилась в глубине души, не давая забыть Мари.
…Домом милосердия отнюдь не исчерпывалась помощь Демидова обездоленным: он щедро жертвовал на сиротские приюты, раздавал стипендии неимущим студентам. Известие о его парижской благотворительности дошла и до Петербурга, причем не совсем обычным образом. Императрица Франции Евгения лично написала Александру II письмо, выражая восхищение его подданным, столь энергичным и щедрым в делах милосердия.
Александр II, который не забыл треволнений прекрасной Авроры по поводу безрассудств ее сына, был весьма доволен таким оборотом дела. Слышал он, конечно, и о трагедии Демидовых. Через брата Авроры Карловны он дал им знать, что Павлу Павловичу пора всерьез заняться своей карьерой. Последовал вызов в Санкт-Петербург.
Ходили, правда, слухи, что предложение Демидову продолжить службу у себя на родине было вызвано старанием обезопасить демидовское богатство от посягательств католической церкви.
Подобные попытки имели давнюю историю. Когда умерла Мария Элимовна, во дворце возле обезумевшего от горя Павла Павловича тотчас появились люди в черных сутанах. Понимая, что человека, погруженного в отчаяние и жаждущего любого утешительного слова, можно брать голыми руками, они, вероятно, не сомневались в успехе.
Впрочем, на этой стезе у них действительно имелись победы – не все могли противостоять изощренному давлению.
Известно, например, что в большом аристократическом семействе Бутурлиных, которые жили во Флоренции и дружили с Демидовыми, в католическую веру были обращены хозяйка дома, ее дети, домочадцы – все, кроме старого графа. Умирая, он велел послать за православным священником.
…«Обработка» увезенного тогда матерью из Сан-Донато Павла Павловича продолжилась и в Париже. Причем агитация в пользу католицизма велась столь напористо, что об этом толковали даже в Петербурге. Здесь уже знали, чем обычно заканчиваются подобные истории: принявшие католичество люди словно под гипнозом делали разорительные, непомерные вклады в пользу папской церкви, притязания которой доходили и до российской собственности новообращенных.
Отцы-католики знали, о чем хлопотали: демидовское богатство не исчерпывалось девятью крупнейшими уральскими заводами, золотыми приисками, громадными счетами в банках, оно включало в себя недвижимость в России и Европе, обширные угодья в Средней России, Крыму, пароходы, фабрики и прочее, прочее, прочее…
Однако, хотя «флорентийская» ветвь Демидовых на десятилетия, а порой и на всю жизнь оседала в католических странах, все они крепко держались веры предков.
…Летним утром 1869 года к русской церкви в Париже на улице Дарю, освященной восемь лет назад во имя Святого Александра Невского, подъехал экипаж. Из него вышли Аврора Карловна с Павлом и русская нянюшка, державшая на руках спящего Элима.
Отец взял из ее рук сына, и все вместе они вошли в храм. Здесь было пусто: служба уже закончилась. Батюшка, встретивший семейство Демидовых, осенил их крестом.
Началась поминальная служба по скончавшейся прошлым летом Марии Элимовне Демидовой.
«И сотвори ей вечную память…» Густой голос священника потревожил ребенка, спавшего на руках Павла Павловича. Мальчик потянулся, выгнул тельце, однако не заплакал, а внимательно посмотрел на отца темными глазками.
Элиму исполнился год…
* * *
По прибытии в Россию мать и сын Демидовы расстались. Аврора Карловна, которая уже не мыслила жизни без внука, не задерживаясь в столице, отправилась с Элимом к себе в Трескенде. А Павел Павлович получил назначение в Подольское губернское управление и стал служить в Каменец-Подольске в чине коллежского асессора. Надо думать, его юридическое образование нашло себе применение на новом месте: провинция всегда отличалась множеством запутанных, годами тянущихся тяжб и вопросов, к которым никто не знал, как подступиться. Очень скоро Демидов был произведен в надворные советники, это свидетельствует о том, что он проявил себя на этой должности человеком толковым и дельным.
Следующий 1870 год стал для Павла Павловича особым. Скончавшийся в Париже Анатолий Николаевич Демидов перед самой своей смертью обратился к королю Италии Виктору-Эммануилу с просьбой передать племяннику титул князя Сан-Донато, что и было исполнено. Когда по кончине дядюшки вскрыли его завещание, то оказалось, что свою долю в прибылях от уральской империи Демидовых, недвижимость в России, Франции и Италии – в том числе и знаменитое Сан-Донато – он оставлял в полное владение тому же Павлу Павловичу.
Если упомянуть о том, что Аврора Карловна передала сыну особняк на Большой Морской и большую часть причитавшейся ей огромной ренты от горных заводов и приисков, то следует признать, что Павел Павлович стал самым богатым человеком из всей династии уральских миллионеров, начиная с первых Демидовых – «птенцов гнезда Петрова».
8
Осенью 1870 года Павел Павлович получил назначение на службу в Киев, где несколько месяцев спустя его избрали городским головою.
А весной следующего года он женился. Об этом событии известно очень немного. Супругой князя Демидова-Сан-Донато стала княжна Елена Петровна Трубецкая. Ей было восемнадцать лет. Брюнетка с мелкими чертами лица, изображенная на портрете начальной поры ее замужества, словно заявляет: «Я не такая, как все». В ней жила уверенность, что венчание с богатейшим человеком России – не нечаянная милость небес, а событие, вполне достойное ее красоты, ума, знатности.
Будущее представлялось ей сказкой. То обстоятельство, что она выходила за вдовца, ни малейшим образом не смущало ее душу – очень уж краток, а потому, как ей казалось, не столь уж и важен в биографии человека во всех отношениях необыкновенного был тот брак с Мещерской. Некая «проба пера»! А вот теперь с нею, прелестной юной красавицей, и начнется для знаменитого Демидова настоящая жизнь.
…Королеве Франции Маргарите Валуа, благодаря Дюма более известной как «королева Марго», приписывают такую фразу: «Никогда не говорите, что браки свершаются на небесах. Боги не могут быть настолько несправедливы».
Трудно представить, каким был действительный умысел Провидения, отдавшего Елену человеку, душа которого за три года вдовства оставалась полной воспоминаниями об умершей Мари. Зачем Демидов женился? Поддался ли он доводам рассудка, а может быть, и влиянию матери, страстно желавшей, чтобы пережитая сыном трагедия с появлением новой жены отошла в прошлое? Как она хотела видеть Павла устроенным, обзаведшимся семейным домом, детьми! Этот материнский расклад понятен, как понятно и желание самого Павла покончить с одиночеством, лишь бередившим его рану.
Увы! «Кто огонь выжигает огнем, обычно остается на пепелище…» Хотя поначалу жизнь молодоженов складывалась вполне благополучно. Елена исправно рожала детей, которых называли «фамильными» именами: Никита (первенец, умерший в двухлетнем возрасте), Аврора, Анатолий, Мария, Павел, Елена.
…Карьера Демидова складывалась удачно. На посту городского головы ему удалось много сделать для Киева и его жителей. Тому подтверждение и орден Святого Владимира, и пожизненное звание почетного гражданина Киева. Однако, несмотря на избрание его головою на следующий срок, он подал в отставку и уехал с Еленой и детьми в Сан– Донато.
Странно выглядела эта тяга к воспоминаниям о быстро промелькнувшем счастье, лишь обострявшая боль утраты. Демидов словно сознательно стремился в ловушку прошлого, где то ли в залах дворца, то ли в аллеях парка было предопределено незримо встретиться двум женщинам: одной – полной жизненных сил, другой – бесплотной тени.
Павлу Павловичу с его нервным, крайне впечатлительным характером, не следовало подвергать себя такому испытанию! Но дело было сделано…
* * *
Демидовы приехали в очень трудное для Флоренции время: неурожайный год поставил крестьян и малоимущих горожан на грань голода.
Павел Павлович закупил зерно, которое баржами доставляли к городу. Создал целую сеть столовых, где кормили всех, кто туда приходил. Помощь была настолько быстрой и действенной, что угрожающую ситуацию удалось переломить.
В благодарность за это флорентийские власти выбили медаль, на которой рядом красовались два профиля: Демидова и его прекрасной супруги.
…В городе вновь закипела жизнь, и в особняках знати балы и праздники следовали один за другим. Приглашенные во дворец Сан-Донато, особенно дамы, всегда старались как следует разглядеть необыкновенные украшения хозяйки дома – это были раритеты не только огромной художественной, но и исторической ценности. Усыпанная бриллиантами молодая Демидова, княгиня Сан-Донато, потрясала и нарядами, которые дюжинами шились по ее меркам в Париже. Горделиво-изящным манерам этой чистокровной русской аристократки с шестисотлетней родословной пытались подражать. В свои молодые годы видевшая все столицы мира, Елена воспринимала тихую Флоренцию как провинциальную глухомань и снисходительно выслушивала цветистые комплименты здешних кавалеров. Муж явно был не ревнив – это ее немного задевало.
Впрочем, она не имела ни малейших оснований жаловаться на него. В противоположность многим богатым людям, терзающим близких за лишнюю истраченную копейку, Павел Павлович никогда не интересовался, сколько тратит жена на свои прихоти. Не глядя, он подписывал ее огромные счета. Муж был очень мил с ней и детьми, старался доставить им развлечения и вообще являл собой образчик человека снисходительного к слабостям других и абсолютно невзыскательного.
Правда, иногда Павел Павлович становился невыносим. Он делался молчалив, раздражителен и, словно желая избавить окружающих от своего общества, закрывался в кабинете или исчезал из дома, прося его не искать. Но через некоторое время он появлялся вновь, еще более любезный, словно извиняющийся за причиненное беспокойство.
Наслышанная о семейных странностях Демидовых, резких перепадах настроений, во что ее осторожно посвящала свекровь и до и после их свадьбы с Павлом, Елена научилась не обращать внимания на эти неприятности – достоинства, обнаруженные ею в муже, многократно их искупали.
Со временем она почувствовала, что все сильнее привязывается к мужу. Ей тяжело давались разлуки, а Павлу словно не сиделось возле нее. Он часто уезжал: то охотиться куда-нибудь в дальние края, то к матери в Финляндию. Тогда Елена скучала, и в голову закрадывалась мысль, что он не дорожит ее обществом. Да и в письмах, которые она получала, ей хотелось бы видеть больше страсти, уверений в любви. Но гордость заставляла ее обходиться без упреков.
«Причинить боль по-настоящему может только муж, – писала одна мудрая англичанка, – потому что нет никого ближе; ни от кого ваше повседневное состояние не зависит так, как от него…
Если у вас несколько любовников, ни один из них не сможет причинить вам существенной боли. Если один, это возможно, но все же не так мучительно, как если бы это был муж…»
…Однажды, гуляя по сан-донатовскому парку, Елена проходила мимо павильона, где хранились старые вещи. Заметив неплотно прикрытую дверь, она распахнула ее и замерла на пороге: Павел Павлович стоял на коленях, уткнувшись в одно из платьев Мари, перенесенных сюда из большого дома. Его спина сотрясалась от рыданий. Он судорожно мял в руках оборки, прижимая к лицу мягкую шелковую ткань. Зрелище было ужасное.
Не помня себя, Елена бросилась по аллее к дому. Толкнув зеркальную дверь спальни, она рухнула в кресло и попыталась собраться с мыслями. Ей стали понятны приступы звериной тоски мужа. Он страдал. Он ничего не забыл. Он любил – но не ее, живую, полную молодых сил, рожающую ему детей, а ту, от которой осталась груда старых тряпок да лишь однажды виденный Еленой мальчик Элим. Муж никогда не говорил с ней о старшем сыне.
Смириться с этим было невозможно. Елена думала, как жить дальше. В одном она не сомневалась: из Сан-Донато, где обитает призрак Мари, не отпускающий от себя ее Павла, надо уезжать.
Не сразу удался этот план. Трудно даже представить, какими путями Елене удалось склонить мужа к мысли расстаться с Сан-Донато. Но какие-то доводы жены, и весьма убедительные, все же заставили Демидова решиться на поступок, которому даже близкие ему люди не находили никакого объяснения.
И вот в 1880 году в газетах появилось сообщение о том, что Демидов решил распродать сан-донатовские коллекции.
На «balare dei milioni», на балу миллионеров, как флорентийцы называли жизнь демидовского семейства, произошли невероятные, не имеющие аналогов ни в России, ни в Европе продажи с аукциона. Сокровища ваяния и живописи, в особенности восхитительные картины Греза, закрывавшие стены большой комнаты, бронза, драгоценная мебель, камины и двери из малахита и ляпис-лазури были отправлены на публичные торги. Даже редкостные оранжерейные растения, свезенные сюда чуть ли не со всего света, ожидали своих покупателей.
Такая же участь постигла и знаменитую по количеству мемориальных ценностей, непревзойденную наполеоновскую коллекцию, собранную Анатолием Николаевичем Демидовым. В частности, там был зуб великого императора.
Персидские ковры из дворцов восточных владык, рояль розового дерева, серебро английских королей, собрание старинных гравюр, карт, манускриптов и античные коллекции – все, накопленное за полтора столетия, исчезало словно дым.
Вести о «разгроме», как писали в газетах, «великолепного княжества» достигли России и вызвали много разговоров среди коллекционеров.
Один из них, М.П.Боткин, писал П.МТретьякову: «На днях ездил во Флоренцию поглядеть на продажу Демидова… У него особая, но хорошая коллекция голландских картин, вероятно, пойдет очень дорого. Между прочим, видел три портрета Боровиковского… Я поручил торговаться… думаю, вряд ли достанется, он, вероятно, их оставит за собой…»
Действительно, многие вещи, особо любимые Демидовым, продаже не подлежали. Часть коллекций перевезли в Пратолино, часть отправили морем в Петербург, на что потребовалось, как писали, «несколько больших кораблей».
В первую очередь Павел Павлович постарался сохранить семейные реликвии. Это были изображения Демидовых на холсте и в мраморе, награды, документы, памятные вещи предков, иконы, коллекции уральских самоцветов, раритеты из дома Романовых.
Знаменитое палаццо, переполненное сокровищами, пустело на глазах. Дворец можно было уподобить красавцу здоровяку, внезапно пораженному смертельным недугом, худеющему на глазах и покорно ждущему неотвратимого.
Соотечественники Демидова и очевидцы гибели сокровищницы писали с душевной болью: «Шесть недель под музыку трех оркестров разорялось Сан-Донато, преимущественно в пользу французских и итальянских аферистов».
«Финансовый результат торгов оказался ничтожным, – свидетельствовали они. – Затраты по аукциону, публикация иллюстрированных каталогов, описание зданий и садов, поглотили миллионы».
Легендарная распродажа напоминала о себе и спустя почти четверть века: в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, по словам очевидца, «еще предлагали любителям сан-донатовские вещи».
Настал час и самого дворца с постройками на территории парка. Все было продано за
30 000 рублей. Современников поразила необычайная дешевизна сделки. Это и сегодня выглядит странно, если принять во внимание, что только на просьбы о пособиях частным лицам Демидовым ежегодно ассигновывалось до 40 000 рублей.
Забегая вперед, скажем: купил Сан-Донато, как писали, «небогатый человек Глебов-Стрешнев, просто как дачу на лето».
Кстати, известно, что Сан-Донато не пошло впрок «небогатому человеку». Писали: «…соотечественник Демидова в нем болел и страшно мучился».
* * *
В размышлениях над драмой, разыгравшейся в этом райском уголке, люди доходили до мысли о вмешательстве высших сил, карающих Демидовых за их святотатство – отторжения земли у древнего монастыря.
«Счастье безмятежное и под тем дальним, ясно-лазурным небом ничьей долей не бывает; но слезы, которые текли в сиявших золотом и живописью стенах феерического Сан– Донато, были так горьки, что память о страданиях чужеземных господ еще до сих пор не изгладилась у веселой и легкомысленной итальянской их прислуги», – писал паломник, через два с лишним десятилетия пришедший посмотреть на тот клочок земли, где когда-то счастливо слились воедино сказочное богатство, художественный гений, неуемная роскошь и молодые надежды…
Когда старый садовник Бенчини, при котором сажали в Сан-Донато гималайские кедры, возвращался мыслью в то счастливое время, как свидетельствовали благодарные слушатели, «красноречию и умилению его не было пределов.
Рассказывал он с пламенным восторгом о трех красавицах, сан-донатовских княгинях (об Авроре Карловне и двух ее невестках. – Л.Т.), особенно вспоминал „La bellezza dun flore“ (прекрасный цветок. – Л.Т.) – княгиню Марию и ее примирительное влияние на вспыльчивого, не всегда благоразумного князя Павла, обещавшее столько счастливых дней всем обывателям дворца; он вспоминал, как постоянно украшал комнаты княгинь цветами и как все его и надежды, и мечты рухнули, когда настал ужасный час продажи Сан-Донато!»
Что-то невероятное, недоступное человеческому разумению было в уничтожении Демидовым главной жемчужины своей короны. Здесь каждая пядь земли хранила следы шагов его предков, а каждая вещь – тепло их рук. Здесь пережил он короткое, а оттого казавшееся особенно лучезарным счастье с той единственной женщиной, забыть которую не мог и не хотел. Здесь увидел свет залог этой любви – Элим…
Так как же это могло произойти? Очень немногие, лишь единицы, возможно, знали об истинной подоплеке случившегося, о страданиях уязвленного женского сердца и его способности мстить вопреки собственному разуму, сознавая всю безнадежность содеянного…
Большинству же любопытствующих, приходивших посмотреть на осиротелые стены Сан-Донато, рассказывали легенду, весьма известную в этих местах.
«Призраки неутолимых болезней, неутешных сожалений толпятся в хоромах, над которыми грозный святитель Донато парит с высоты великолепной фрески Джотто в бывшей церкви аббатства. Смотрит он строго и мрачно…
В тонких и привлекательных чертах его лица будто выражается укоризна за святотатство, совершенное над вековым его владением, и суеверному наблюдателю кажется, что изгнанная мощь тосканского святого мстит северным пришельцам, вторгшимся в его обитель».
* * *
Однако Демидовы привыкли жить под благословенным небом Италии. Не иметь здесь пристанища было для них невозможно. Покинув Сан-Донато, Павел Павлович купил у наследников герцога Тосканского имение Пратолино в десяти верстах от Флоренции, обширное и очень запущенное. Для приведения его в порядок требовались колоссальные средства. Урал хрипел и надрывался, стараясь бесперебойно снабжать хозяина нужными суммами. А их требовалось все больше и больше. Пратолино походило на бездонную бочку.
Как писали, «деньги сыпались на затейливые переделки; за баснословные цены строился и тут же перестраивался подъезд, воздвигалась гигантских размеров лестница; для ускорения работа шла ночью».
Надо сказать, что Демидову так и не удалось здесь осуществить все свои поистине наполеоновские планы.
Развернув грандиозные работы по реконструкции дома и перепланировке парка, Демидов ушел в них с головой. Все делалось словно в горячке, изматывающей людей и его самого. Казалось, такой сверхзагруженностью он пытался заполнить какую-то брешь, в которую утекали его духовные и жизненные силы.
Флорентийская знать не без издевок наблюдала этот ажиотаж, влекший за собой, разумеется, и ненужную трату средств, и очевидные строительные просчеты. Например, когда главные помещения были закончены и хозяин поспешил пригласить гостей, то оказалось, что ступени парадной лестницы, обошедшейся в целое состояние, сделали настолько узкими, что на них почти невозможно было ступать. Кто-то из приглашенных зло подшутил над хозяином, поднявшись по ним ползком.
…Александр Иванович Герцен однажды заметил: «Семейные несчастья оттого так глубоко подтачивают, что они подкрадываются в тиши и что борьба с ними почти невозможна; в них победа бывает худшее. Они вообще походят на яды, о присутствии которых узнаешь тогда, когда больно обличается их действие, то есть когда человек уже отравлен».
Все надежды Елены Петровны, что, покончив с ненавистным Сан-Донато, она уберет преграду, мешавшую ее сближению с мужем, оказались напрасны. И дело теперь было не только в Павле Павловиче с его памятью о Мари – Елена Петровна сама не находила в себе сил забыть и простить его рыдания над платьем покойной супруги. И получилось: не стало Сан-Донато, но и покоя, радости в душе не было.
К тому же она не могла не заметить, что Павел Павлович, раньше худо-бедно пытавшийся создать впечатление благополучия в доме, сильно изменился. Теперь улыбка появлялась на его лице, лишь когда он общался с детьми. Раздраженный, угрюмый, Демидов терзал жену новой манерой не разговаривать с ней по нескольку дней, а то и недель. К Пратолино он заметно охладел. Энергичная и хозяйственная Елена Петровна вынуждена была многое доводить до ума сама.
Муж часто уезжал в Киев, где у них был прекрасный особняк, или к матери и сыну в Трескенде. Когда Элиму исполнилось двенадцать лет, он отвез его в дорогой пансион в Швейцарии.
Отдохнуть от тяжелой домашней обстановки стремилась и Елена Петровна. Всякий раз, когда Павел Павлович провожал ее и детей в Киев или в Петербург, ей казалось, что у него вырывается вздох облегчения.
Это было ужасно! В тридцать лет оказаться в положении соломенной вдовы. И все-таки Елена Петровна еще лелеяла надежду наладить с мужем теплые отношения. Она писала письма, не жалея ласковых слов, спрашивала о его здоровье, рассказывала о домашних делах. В ответах же, получаемых ею, было много разных подробностей, расспросов о детях – и ни капли живого чувства к ней.
Елена Петровна плакала ночи напролет, металась по комнатам. Ей пришла в голову мысль попросить помощи у высших сил. Она зачастила в церковь, надеясь найти утешение в беседах со своим духовником.
…Сан-Донато было для Демидова неизмеримо большим, чем просто поместьем. Сколько времени прошло, а он продолжал тяжело переживать эту потерю. С ним случилось что-то вроде апоплексического удара. Человек отменного здоровья, он вдруг сдал, обмяк, постарел. А ведь ему было– то всего немного за сорок! Но жизнь не приносила радости. Его мучило ощущение, что все идет вкривь и вкось, без смысла и цели.
С такими невеселыми мыслями Павел Павлович ехал обычно к матери, единственному человеку, от которого у него не было тайн и на чью помощь он всегда мог рассчитывать. Бог мой! Ведь ей уже исполнилось семьдесят пять, но она была все так же бодра, энергична, рядом с ней неразрешимые, казалось, проблемы превращались в мелкие, не более того, неприятности.
Аврора Карловна настраивала сына на оптимистический лад: пока человек жив, он может начать новую жизнь, искупить свои грехи и ошибки – Бог каждому посылает такую возможность. Надо только прозреть, ничего не бояться, побольше спрашивать с себя и научиться прощать. Ее счастье было в том, что ей удалось сохранить светлый взгляд на мир и на окружающих, хотя нередко приходилось сталкиваться с черной неблагодарностью.








