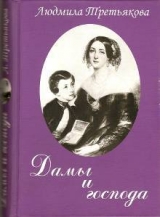
Текст книги "Дамы и господа"
Автор книги: Людмила Третьякова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
10
В начале нашего повествования мы встретились с молодым корнетом Кавалергардского полка Шереметевым. На склоне лет Сергей Дмитриевич не мог пожаловаться на судьбу. Его карьера по всем статьям удалась: он был и членом Государственного совета – высшего органа власти в России, и обер-егермейстером двора, и кавалером множества орденов, как русских, так и иностранных.
Повезло ему и в семейной жизни. В свете его жену Екатерину Павловну, урожденную княжну Вяземскую, называли не иначе как «идеальная женщина». Семеро детей – пять сыновей и две дочери – выросли в знаменитом шереметевском особняке, отгороженном от Фонтанки кружевной чугунной оградой с иконой и крестом, прикрепленными к ней.
Редко кто из прохожих не останавливался здесь, зачарованно разглядывая дворец и представляя, какая жизнь идет в этом хранилище сокровищ графского семейства, где время словно остановилось в восемнадцатом веке – «золотом веке» русского дворянства. Казалось, что за высокими окнами все еще скользит призрачная фигура недолгой хозяйки дворца – Прасковьи Ивановны Жемчуговой-Шереметевой, героини самой знаменитой в России любовной истории и бабушки нынешнего хозяина.
На склоне лет Сергей Дмитриевич, никогда не любивший великосветской жизни, все чаще уединялся в своем кабинете, где хранились громадное книжное собрание и коллекция редкостных документов, связанных с прошлым России и ее выдающимися личностями.
Действительность разочаровывала его, прошлая жизнь казалась глубже, значительнее. Он взялся за перо и очень редко выезжал из дома, предпочитая написать лист-другой какого-либо исторического изыскания, нежели убивать время в пустопорожних разговорах.
В тот небольшой круг людей, обществом которых он дорожил, входила и давно овдовевшая княгиня Барятинская. Ему всегда была не по сердцу ее англомания, пристрастие к мишуре светских салонов, и все же он ездил к ней иногда скоротать вечерок, а если это почему-то долго не получалось, начинал волноваться и с удвоенной силой стремился повидать старую знакомую.
Бетси оставалась верна своим давним пристрастиям. Для нее во всей русской гвардии существовал только один полк. Время шло, но «княгиня Елизавета Александровна видела в Кавалергардском полку свою семью, гордилась всеми его успехами и болела от его неудач».
Понятно, что ни одна беседа «матери-командирши» и графа не обходилась без этой излюбленной темы. Желая быть в курсе всего, княгиня интересовалась и нынешними занятиями Шереметева.
– Когда же вы почитаете мне что-нибудь из ваших сочинений, граф? Идут разговоры, что вы превратились в форменного писателя. Прошу заранее зачислить меня в число ваших поклонниц.
– Увы! Общество сильно изменилось. Я чувствую себя чужим среди множества новых лиц. Что мне до них и что им до меня, до моих писаний? Прежде, княгиня, как будто веселее было.
– Ах, граф, такие разговоры – обычная примета людей стареющих.
– Может быть. Но несомненно, что прежде общество было изящнее. Я никогда не одобрял заведенную покойным государем моду: мундиры на военных некрасивы, сапожищи и шаровары не идут к балу. Очаровательных дам почти нет. Девицы довольно бесцветны… За столами с картами все та же пошлость и подлость, нет настоящего интереса даже к нынешним делам. Только денежные места, акции, биржи, зависть к загранице – у них свободы, либерализм! Кавалергарды превратились в придворных кавалеров. Никто не пройдется, как бывало, в мазурке. Забывают наши предания. Правду говорил поэт Вяземский: «И то, что пепел нам священный, для них – одна немая пыль…» Так что считайте – для себя пишу!
– Не огорчайтесь, читатели и у вас будут, ведь к прошлому обращаешься только тогда, когда жизнь перестает казаться бесконечной. А к этому неизбежно приходит каждый.
– Откровенно говоря, и я уповаю на это. А потому записываю даже то недавнее, чему сам был свидетель. На пример, о государе Александре Третьем, почтившем меня своей дружбой, о его ранней смерти, о верной подруге его жизни, Марии Федоровне. Может, кому-нибудь мои герои и сгодятся. Кстати, вдовствующая императрица зовет меня к себе в Ливадию. Так что днями еду…
– Раз так, счастливый путь, Сергей Дмитриевич. И мой низкий поклон Марии Федоровне. Прелестная, редкая женщина, образец во всем. И такая примерная супружеская жизнь!
Опершись на руку гостя, Бетси тяжело поднялась с кресла и сказала:
– Прошу вас в зал, граф. Пройдемся, уж если не в мазурке, то просто по паркету…
Прогулка по залу стала их ритуалом, и Шереметев ждал этих минут, не отдавая себе отчета почему. Они медленно шли под руку. Помещение, где теперь редко поднимались плотные гардины, казалось уходящим в бесконечность. В какой-то момент Шереметев переставал слышать непрестанно журчавший голос своей дамы. Иное, далекое от того, о чем рассуждала она, овладевало им: в дальнем конце зала, где сгущались сумерки, ему ясно представлялся образ молчаливой княжны, которую некогда впервые увидел здесь. Это вызывало в нем острое, непередаваемое чувство, названия которому он не знал, да и не хотел знать.
…По «Мемуарам» Шереметева можно судить, что Павла Павловича Демидова он недолюбливал. Печальную историю Мари Мещерской, которая в юности заняла в его сердце особое место и осталась там навсегда, он изложил так:
«Она… глубоко несчастлива. До меня дошла позднее такая выходка ее мужа: уже беременная поехала она в театр, кажется, в Вене, когда муж ее внезапно выстрелил из пистолета в ее ложе, в виде шутки, чтобы ее напугать. Она пожила недолго и, родив сына, умерла. Что делалось с великим князем Александром, трудно передать…»
Видимо, в правдивости этих сведений – а они и впрямь чудовищны – Шереметев, при всей неприязни к Демидову, сомневался и сам. Во всяком случае, в окончательном варианте «Мемуаров» он их исключил.
* * *
Александр III прожил со своей супругой Марией Федоровной 28 лет в мире и согласии. Кто бы мог предположить, что этот откровенно навязанный обоим брак окажется столь крепким и счастливым? Когда подумаешь, сколько союзов, заключенных по самой горячей любви, не проходят испытания временем, этот факт воспринимается как чудо. Ведь прожив столько лет на глазах общества, которое все видит и подмечает, супруги не дали ни малейшего повода усомниться в прочности их отношений.
Немалый совместный путь, пройденный рука об руку, опровергал все известные истины, раскрывающие секреты супружеского долголетия. В первую очередь это касается характеров царя и царицы – кажется, невозможно было найти столь несхожих меж собой людей.
Известно, что как раз отнюдь не самые заметные, а второстепенные особенности и привычки являются камнем преткновения.
Александру, смолоду ненавидевшему светскую суету, досталась супруга, не мыслившая без нее жизни. Мария Федоровна обожала любого рода развлечения, танцы в особенности, а также путешествия, новые знакомства. Она знала всех и обо всем, умела поддерживать множество связей. Без звуков музыки, людского говора жизнь теряла для нее свое очарование.
Для Александра сущим наказанием было большое общество, необходимость слушать и говорить на неинтересующие его темы.
А эти родственники – бич Божий, по поводу которых он громко заявлял с надеждой, что кто-нибудь из них его услышит: «Как же они мне надоели!»
Он предпочитал посидеть с удочкой у какого-нибудь сонного озерца, ценил каждую минуту подобного блаженства. В ответ на сообщение адъютанта, что возле его кабинета теряет терпение целая толпа послов, Александр произнес свою знаменитую фразу: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».
Он был крайне неприхотлив в обиходе, в личных запросах, в одежде. Несчастный камердинер ставил десятую заплату на его рейтузы, отчаявшись доказать, что их пора попросту выбросить. Не было лучшего способа испортить царю настроение, как вместо старых, сношенных сапог подложить новые – обычно они летели в окно.
И при этом во всей Российской империи не нашлось бы большей щеголихи, причем с великолепным вкусом и разборчивой в вопросах моды, чем Мария Федоровна. Она всегда была одета нарядно, но без эпатажа. Туалеты украшали ее, не обнаруживая ни малейшего желания выглядеть не по возрасту, что обычно вызывает снисходительную усмешку.
Рядом со своим мужем, с годами сильно раздавшимся и никогда не следившим за модой, Мария Федоровна смотрелась весьма молодо. Разница между супругами была заметной. При всей сердечности царицы, ей никогда не изменяли безукоризненное воспитание, такт и выдержка. Характер же ее супруга был чисто русским, «без малейшей примеси… крепкое словцо было присуще его натуре, и это опять русская черта». У него «была потребность отвести душу и ругнуть иной раз сплеча, не изменяя своему добродушию. Иногда за столом и при свидетелях говорил он, не стесняясь, прямо набело».
«Когда уж очень неловко становилось от его слов, – вспоминал Шереметев, – она (императрица. – Л .Т.), полушутя, бывало обращалась ко мне и говорила: „Ничего не слышно, не правда ли, мы ничего не слышали?“ А в сущности, нисколько этого не стеснялась и всегда сочувствовала ему. И это было особенно в ней привлекательно».
Царь был ревностным поклонником Чайковского: ходил не только на премьеры, но и на репетиции. Жена всегда сопровождала его. Любил Александр и живопись, правда, предпочитал работы русских художников, покупал даже слабые вещи, дабы поддержать. Они горячо обсуждали увиденное и услышанное. На одном из вернисажей наблюдавший за ними А.Н.Бенуа был пленен простой, искренней манерой их общения. Царь буквально за руку таскал свою хрупкую супругу от картины к картине. Потом, отлучась в сторону, она звала его, что-то показывала, горячо объясняла, и супруг, великан по сравнению с ней, улыбаясь, согласно кивал головой.
«Для всех было очевидно, – писали о них, – что оба еще полны тех же нежных чувств, которыми они возгорелись четверть века назад».
У царя с царицей было пятеро детей, которые по мере своего взросления задавали, как это бывает, такие головоломки, что государь-отец иной раз, словно ребенок, обижался на них и жаловался находящейся в отъезде жене, рассуждая о нелегкой родительской доле:
«С маленькими детьми гораздо лучше, и они, и я довольны, и нам отлично вместе… когда дети подрастают и начинают скучать дома, невесело родителям, да что же делать? Так оно в натуре человеческой… Ксения (семнадцатилетняя дочь. – Л.Т.) меня вполне игнорирует, я для нее совершенно лишний… я ей не нужен, только утром поздороваемся, а вечером „Спокойной ночи“ – вот и все! Умоляю тебя, ей ничего об этом не говорить, будет еще хуже, так как будет ненатурально… С нетерпением жду твоего возвращения, так грустно, скучно и пусто без тебя…»
Об одном из сыновей с горечью пишет: «К моему рождению я не получил ни одной строчки от него…»
Мария Федоровна тут же отвечала мужу, стараясь его успокоить, объяснить поведение детей. Любовью и заботой о его душевном самочувствии пронизано каждое слово:
«Весь день я думаю о тебе с грустью и настоящей тоской. Мне тебя страшно не хватает. А мысль о том, что ты сейчас так одинок и печален… буквально всю меня переворачивает. Я не могу тебе этого описать.
Однако должна тебе сказать, что все, что ты пишешь в отношении детей, – несправедливо. Как ты только можешь допустить мысль, что ты для них ничто! И что они тебя не любят! Это почти сумасшествие, мой дорогой. Я так огорчилась из-за тебя, что даже плакала… Как только тебе такое могло прийти в голову? Ты действительно несправедлив! Конечно же я им об этом ничего не скажу. У них волосы встанут дыбом от отчаяния. Но в нужное время я им дам понять это с моей стороны…»
Семья Александра III была на редкость дружной и счастливой. Его дети выросли в обстановке спокойствия, теплоты и любви. Сколько раз, став взрослыми и ступив на крестный путь, который прошли до конца, они вспоминали своего отца и жизнь возле него, казавшуюся исчезнувшим раем.
День 17 октября 1888 года Мария Федоровна называла «воскрешением из мертвых». Возле станции Борки императорский поезд потерпел крушение. «Все падало и трещало, как в Судный день: погиб 21 человек, 35 получили серьезные ранения». Спасение царской семьи приписывали чуду: среди разбитых вагонов «самый ужасный», как вспоминали, был именно их. Обезумевший крик Марии Федоровны «Дети, где дети?» запомнился на всю жизнь тем, кто слышал его.
Подставив свою спину, Александр держал крышу разбитого в щепки вагона, держал сколько было сил, все те бесконечные минуты, пока жена и дети выкарабкивались из-под обломков.
Он всегда был способным на жертву и верным друзьям, семье, памяти, убеждениям, и эта сущность характера государя спасла его семью.
Но платить за столь мужественный поступок пришлось дорогой ценой. Через несколько лет резко обострилась болезнь почек. Врачи считали ее следствием невероятного напряжения, которое испытал организм государя в тот роковой день. Сорокадевятилетний богатырь таял на глазах.
…20 октября 1894 года Шереметеву сообщили, что государю «совсем плохо», и Сергей Дмитриевич выехал в Ливадию.
В комнату, где умирал государь, никого не пускали. Кроме него там находились только врачи и Мария Федоровна. Часы пробили два часа дня. Через несколько мгновений двери комнаты распахнулись, и все услышали: «II est mort» – «Он мертв». Разрешили войти.
Вот что записал Шереметев:
«В мыслях промелькнуло: что я увижу? Но увидел то, чего, конечно же, помыслить не мог… Увидел и остолбенел. Спиною к открытым дверям, в креслах, сидел государь. Голова его слегка наклонилась влево, и другая голова, наклоненная вправо, касалась его, и эти две головы замерли неподвижно, как изваяние. То была императрица. У меня промелькнуло: они оба живы или оба умерли?
…Мы все невольно подходили к нему на коленях. Когда я приблизился к нему и увидал две соединенные головы, неподвижные, как мрамор, я поцеловал его руку, но поднять глаз на эти головы был не в силах».
* * *
Шереметев прибыл в Ливадию в ту самую пору, когда эта благословенная земля покрыта нежно-сиреневой сетью цветущей глицинии. Ее гибкие стебли добрались до оград, скамеек, каменных построек и даже до кипарисов, из темной зелени которых свешивались душистые кисти мелких, с нежнейшим запахом соцветий.
Долго Мария Федоровна водила гостя по заветным уголкам парка, по стародавней привычке называла его «мой дорогой граф» и рассказывала, что сын-император с невесткой задумали строить большой каменный дворец и проект, сделанный крымским архитектором Красновым, кажется, уже готов.
Конечно, старый деревянный дворец, где она жила со своим супругом, мал для разросшегося семейства и не слишком, по понятиям невестки Александры Федоровны, комфортабелен.
– Ах, мой дорогой граф, laisser faire, laisser passer – пусть идет, как идет, я все равно останусь на старом месте… Правда, там многое требуется обновить. Время, оно даже к вещам беспощадно. Я хотела, чтобы вы взглянули и посоветовали, как быть.
Они поворотили к дому и первым делом прошли в знакомую Шереметеву комнату. Мария Федоровна сказала, что кресло, в котором умер государь, совершенно обветшало и рассохлось. Ей посоветовали вынести его, а то место, где оно стояло, пометить особым образом – врезать в паркет знак из светлого кленового дерева, в виде креста. Эта мысль понравилась Шереметеву, о чем он и сказал Марии Федоровне.
В кабинете государя обои местами лопнули, шторы сильно выцвели, паркет скрипел.
Шереметев посмотрел в угол, где стоял письменный стол государя, заставленный разными предметами. Перехватив его взгляд, Мария Федоровна сказала: «Может быть, хотите что-нибудь на память?» Он подошел и взял маленькую бронзовую статуэтку, изображавшую любимую собаку Александра по кличке Камчатка, которая погибла в Борках.
Переведя взгляд чуть выше, Шереметев увидел женский портрет в овальной раме под стеклом, висевший на крученом потрепанном шнуре.
Портрет ему был знаком. Сергей Дмитриевич и прежде догадывался, что это Мещерская, однако никогда не осмеливался спросить о том государя напрямую. Понимал он и почему портрет повесили так низко. Из-за косо падающего света он оставался незаметным постороннему взгляду, зато хорошо был виден сидящему за столом.
Как ни хотелось Шереметеву рассмотреть портрет получше, чего раньше никогда не удавалось, он благоразумно решил не привлекать к нему внимание Марии Федоровны. Отступив в сторону, хвалил гравюры, висевшие на стене, за их качество и редкость.
– Ну, кажется, мы осмотрели все, – наконец сказала хозяйка. – Завтра же дам распоряжение управляющему, что и как следует сделать. Первым делом – вынести лишнее…
Они уже направились к выходу, как вдруг Мария Федоровна спросила:
– А не знаете ли, Сергей Дмитриевич, кто та дама? – И движением головы указала на портрет в овальной раме.
Шереметев обернулся. Лицо Мари за блестевшим стеклом уже было неразличимо. Помолчав немного, он ответил:
– Нет, ваше величество, не припомню…
II
Барыня
Это была завзятая неудачница – неудачница во всем, в чем только возможно ею быть, и во всякое время жизни. Ей не удалось увидеть своего сына в расцвете его необыкновенной славы. Это искупило бы все. Он был ее любимцем, ее надеждой – Иван Сергеевич Тургенев.
* * *
Варя Лутовинова родилась за два месяца до кончины своего отца. Ее мать не очень-то горевала, оставшись вдовой. Все осложнял лишь появившийся на свет ребенок. Он напоминал о постылом пьянице-супруге и мешал устроить новую жизнь.
Но все-таки сыскался некто Сомов, вдовец с двумя дочерьми, уже девицами, крошечной деревенькой и теми же привычками, что и первый муж Вариной матери. Во хмелю он становился особенно раздраженным, придирчивым и попрекал жену ее «приданым» – девчонкой, которую худо-бедно следовало кормить и одевать.
Опасаясь, что из-за дочери новое супружество даст трещину, мать вымещала на ней свою досаду. «Если вообще для ребенка горько сиротство, то сиротство при живой матери еще горше, и Вареньке пришлось выпить эту чашу до дна», – писали о маленькой барышне Лутовиновой.
Есть жизненные обиды, которые время не лечит. Спустя десятилетия для Варвары Петровны давняя боль не потеряла своей остроты. «Быть сиротою без отца и матери тяжело, – вспоминала она, – но быть сиротою при родной матери ужасно. А я это испытала, меня мать ненавидела… Я была одна в мире».
Стоит вдуматься в эти слова.
«Я слышала некоторые подробности, но рука отказывается повторять все ужасы, которым подвергалась она, – писала мемуаристка, доподлинно знавшая грустную историю юности Варвары Петровны. – Сомов ее ненавидел, заставлял в детстве подчиняться своим капризам и капризам своих дочерей, бил ее, всячески унижал и после обильного употребления „ерофеича“ и мятной сладкой водки на Варваре Петровне срывал свой буйный хмель».
Варе исполнилось шестнадцать лет. Появилась новая опасность: взгляды, которые на нее стал бросать отчим, рождали в ней страх. Поделиться своими тревогами с матерью она не смела. Сомов же все чаще грозил «самым унизительным наказанием за несогласие на позор».
Единственным человеком, которому Варя могла довериться, была нянюшка Наталья Васильевна. С нею на всякий случай был обговорен план побега, если Сомов не угомонится со своими домогательствами.
Развязка свершилась быстрее, чем ожидалось. Однажды ночью, открыв глаза от света, падавшего на лицо, Варя увидела склонившегося над ней отчима со свечой в руке. В тот же момент пламя погасло, и незваный гость всей тяжестью тела навалился на нее.
Как она вывернулась, как бросилась по лестнице, как схватила тулуп и валенки, брошенные ей разбуженной шумом нянюшки, она не помнила. Стала приходить в себя, лишь когда изрядно пробежала по заснеженной дороге прочь от родного дома.
До имения дядюшки, Ивана Ивановича Лутовинова, родного брата ее покойного отца, предстояло пройти не один десяток верст. Как Варя уцелела в ту зимнюю ночь, одному Богу известно.
Неожиданное появление в доме племянницы вовсе не привело дядюшку в восторг. Но задетый тем, что лутовиновская кровь терпит подобное надругательство, он позволил Варе остаться у него.
Мать девушки затребовала было дочь обратно, однако получила суровую отповедь от Ивана Ивановича и сочла за лучшее ретироваться, смекнув, что дело-то для ее жизни с Сомовым обернулось наилучшим образом.
* * *
Помещика Лутовинова соседи недолюбливали по причине его крайней нелюбезности и слухов о больших притеснениях, чинимых над своими людьми.
Жестокость, изуверские наказания действительно были у него в ходу. Даже спустя много лет после смерти барина лутовиновские крепостные утверждали, что призрак усопшего бродит по округе, и испытывали страх, пожалуй, не меньший, чем при его жизни.
Иван Иванович был крайне, до болезненности скуп. Из нежелания тратиться на жену и детей, он, вероятно, и остался холост. Главной усладой его жизни являлись деньги.
Хозяин он был преотличный, с большой для себя выгодой держал конный завод, ни одна сажень больших угодий не пустовала, каждая копейка шла ребром, а крепостные работали до измора.
Живя почти отшельником в своем Спасском-Лутовинове, Иван Иванович не тяготился одиночеством, из развлечений предпочитал псовую охоту, однако особое удовольствие ему приносили те мгновения, когда, вооружась толстой палкой, он спускался в подвал и, тыча в мешки, доверху набитые звонкой монетой, слышал в ответ ни с чем не сравнимый звук. Такая манипуляция имела и чисто практическое значение – Лутовинову для полного душевного спокойствия необходима была уверенность, что никто на его денежки не покусился.
…Имение, где теперь обосновалась Варя, было по-настоящему барское, обширное. «Широкие, длинные аллеи из исполинских лип и берез вели с разных сторон к господской усадьбе, во главе которой возвышался старинный большой дом о трех или четырех этажах, деревянный, на каменном фундаменте. Архитектор, строивший его, мало заботился, как видно, о его красоте и правильности, а имел только в виду, чтоб он был повыше, пошире и подлиннее; если что и придавало наружному виду его некоторый характер, то это галереи, украшенные колоннами, которые шли полукругом, по обеим сторонам дома и оканчивались флигелями», – так описывали старый лутовиновский дом, где пережила долгие невзгоды и короткие мгновения поманившего счастья Варя Лутовинова, и где появился на свет великий писатель – ее сын. Участь этого здания решил пожар, уничтоживший его до основания. Когда возвели новый дом, от прошлого остался обширный и роскошный сад, густые, темные аллеи которого шли уступами к прудам.
Спасское выглядело очень романтично и таинственно. Кажется, невозможно было придумать лучшего места для мирной, ласковой, исполненной заботой и предупредительностью друг к другу жизни, для тайных свиданий возле раскидистых кустов жимолости. Дупла неохватных дубов словно обещали сохранить тайну доверенных им нежных посланий, звали к уединению с мечтами о грядущем.
Однако, обретя безопасность под крышей спасского дома, Варя была принуждена вести жизнь суровую и скучную. При крутом и вспыльчивом характере дядюшки она быстро осознала необходимость всегда быть настороже, сдерживать свои желания и казаться всем довольною. Да и вокруг все вели себя подобным образом: страх чем-нибудь не угодить хозяину, желание тенью проскользнуть мимо его глаз, читалось на лицах людей, окружавших Варю. До нее доходили подробности наказаний, к которым прибегал дядюшка, она слышала плач и вопли провинившихся, его гневливый голос, время от времени наставлявший и ее, коль доведется, держать в узде ленивый, вороватый, ни к чему дельному не способный народ.
Среди многочисленной, знавшей тяжелую руку хозяина дворни не нашлось никого, мало-мальски сочувствовавшего Варе. Напротив, прислуга, приученная зависимой жизнью держать нос по ветру, мгновенно определила расстановку сил и относилась к «нахлебнице» соответственно.
Крепкие, с румянцем во всю щеку девки, мывшие полы в доме, норовили плеснуть ей из ведра прямо под ноги. За столом холопы дядюшки, словно не замечая Вари, обносили ее кушаньем.
В ней стало копиться особо опасное, отравляющее женское существо качество – злоба ко всем этим ничтожным тварям, считавшим ее ничтожнее себя. Поэтому все безучастнее она слушала разговоры о дядюшкиных расправах, забритых лбах или сосланной на скотный двор очередной полюбовницы дядюшки.
Гостей в Спасское не приглашали. Варя была совершенно лишена всякого общества, возможности обзавестись подругой или приятельницей, что необходимо для женщины любого возраста, а тем более молодой.
Если б кто-то одарил ее своей дружбой, вниманием, вечно хмурый небосвод осветился бы для нее лучом солнца. А уж коль скоро кому-нибудь пришло бы в голову похвалить ее красивые глаза – единственное, в чем не отказала ей природа, – она воспрянула бы духом и распрямила вечно согнутые, будто в ожидании удара, плечи.
Но ничего этого не случилось. Давно вошедшую в возраст невесты Варю дядюшка никуда не вывозил, опасаясь трат на ее наряды и ответных визитов соседей.
А ведь Варя очень хорошо знала, как можно было жить, как жили ее молодые соседки! Для ее восприимчивой натуры даже их редких посещений хватало, чтобы составить представление о тех удовольствиях, какие, как само собой разумеющиеся, позволяли себе эти дамы и девицы.
…Орловская губерния – вовсе не самая отдаленная от столиц. Здесь имели усадьбы люди очень богатые, они строили себе великолепные, скорее похожие на дворцы, дома, украшали их живописью, мрамором, гобеленами и бронзой. Заводили свои театры, оркестры, устраивали балы, на которых их жены и дочки щеголяли в нарядах, выписанных из Парижа.
Иной раз веселье выплескивалось из бального зала под своды столетних лип. Танцы под луной и звездами! Боже! Неужели такое могло происходить совсем неподалеку от унылой светелки Варвары Петровны, привыкшей засыпать под неистовое кваканье лягушек.
Однако не только из случайных посещений барышень, в ожидании нового бала рыскавших по усадьбам в поисках какого-нибудь особо умелого куафера, затворница Спасского знала, как увлекательна и радостна может быть жизнь.
Спасала Варю огромная лутовиновская библиотека. Здесь было все: исторические фолианты, поэзия, географические атласы, труды по астрономии, ботанике, описание путешествий, французская философия и, разумеется, французские романы.
О, эти романы! Даже суровые дядюшкины выговоры за каждую сожженную свечу не могли отучить ее от того мира сладких грез и возвышенных страстей, в который ее уводили эти, слегка пахнувшие плесенью, страницы.
Как здесь любили, как изъяснялись, какие письма писали обожаемому предмету! Варвара Петровна жила чужими страстями. Она примеряла их на себя, словно платья, но не те темные, нелепые, что шила для нее несведущая в изящном дешевая портниха из ближнего Мценска, а воздушные, расшитые светящимся жемчугом или бархатным шнуром, в которых щеголяли героини французских романов. Любовные записочки, переданные бойкими служанками, приглашения на тайные свидания в укромные уголки версальского парка, клятвы и упоительные поцелуи – она доподлинно знала из книжек, как это бывает. Но прямой и резкий ум быстро вызволял ее из сладкого обморока. Она еще яснее видела убогость существования, серую паутину в углах своей комнаты, выцветшие ситцевые занавески. Скрип рассохшихся половиц казался отвратительной, но единственной музыкой, сопровождавшей ее постылую жизнь.
На горе Варвары Петровны некоторые книжки были еще и с картинками. Красивые кавалеры, ангелоподобные дамы! В череде бесцветных дней барышни Лутовиновой был один совершенно черный – тот, когда она поняла, что дурна собой.
Поглядев в подслеповатое зеркало, кое-где изъеденное временем, Варвара Петровна всякий раз отходила от него в убийственном расположении духа. Она, так понимавшая красоту, так легко воспламенявшаяся ею, относила свою непривлекательность к едва ли не главному несчастью. Душа Варвары Петровны была чужда смирению: ее лицо вызывало в ней досаду, переходившую в еле сдерживаемую ярость, – в такие минуты она дурнела еще больше.
Как же так? Все прочитанное и обдуманное, все, краем уха слышанное ею, говорило о том, что природа, отказав женщине в красоте или даже просто в миловидности, лишает ее жизнь того романтического флера, тех переживаний, без которых не мыслим ни один роман. Если она и найдет себе пару, то ее ждет участь жены и матери, бесцветное существование в кругу семьи. Коль скоро оно так увлекательно, то почему об этой благостной теме не пишут в книгах? Да и женщины в своем кругу гордятся совсем другим. Бедность, незнатность, отсутствие воспитания, ума, вкуса еще не приговор при хорошеньких глазках и ладной фигурке. Но что делать ей, Варваре Петровне, так обделенной судьбой?
Современники действительно сходились в том, что «Варвара Петровна обладала очень некрасивою, даже отталкивающею наружностью: она была маленького роста, с лицом, частью прыщеватым, частью изрытым глубокими порами; при этом она говорила в нос…»
Остался и еще один словесный портрет подобного толка: «Невысокого роста, сутуловатая, смуглая брюнетка с большим носом… с лицом, попорченным оспой, В.П.Лутовинова была очень нехороша собой».
Поистине не ошибались те, кто относил затворницу Спасского к неудачницам «в полном смысле».
…Так прошли десять лет жизни Вари, которые во всякой женской судьбе следует, наверное, отнести к лучшим. Ибо они составляют тот романтический мир, память о котором сохраняется всю жизнь. Ни полудетских амуров с заезжим кузеном, ни первого появления на балу в невесомом платьице и туфельках из лайки, ни сватовства статного наследника благородного семейства, ни счастливых слез матушки, провожающей дочь к венцу, ни святых мук молодого материнства – ничего этого, узаконенного природой и людьми, Варя Лутовинова не знала. Когда умер дядюшка, ей шел двадцать восьмой год. Эту сутулую, в заношенном платье и с тяжелым взглядом темных глаз старую деву вернее было бы величать Варварой Петровной.
Дядюшка скончался внезапно и, к счастью своей племянницы, не оставил завещания. На его наследство попробовала было наложить руку родная сестра, но тут уже в Варваре Петровне взыграла яростная лутовиновская кровь. Она ринулась в Мценский суд и заявила свои права на основании того, что является прямой и единственной наследницей покойного Ивана Ивановича Лутовинова по мужской линии.
Начался процесс, и в конце концов судьи решили дело в пользу Варвары Петровны, признав за нею полное и неделимое право на наследство.
Такое надо было пережить! Вчерашняя нахлебница, Христа ради обретавшаяся под чужой крышей, стала богатой помещицей.








