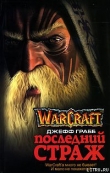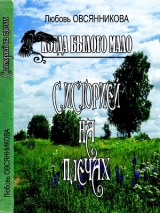
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Мои слова были просты и искренни, теплы и приятны – я это знаю, ведь я говорила сердцем, причем уже мудрым сердцем, всему знающим цену. И говорила так, как можно сказать лишь однажды, в конце жизни.
– Мне кажется, я заболталась и вы устали слушать, а я вам этого не хочу, – сказала я в конце. – Я желаю вам здоровья, много-много.
Конечно, я уже поняла, какая болезнь с ним приключилась, и радовалась, что провидение надоумило меня позвонить ему, потому что знала по опыту с отцом, как дорого в этот период доброе подбадривающее слово, как требуется живое человеческое участие.
– Как приятны ваши слова, – сказал Владимир Иванович. – Мне они как эликсир. Я два дня как приехал домой после операции на почках, – и я в ответ снова говорила подбадривающие слова и слова благодарности. Но он спешил сказать свое: – Вы еще работаете?
– Не очень активно, но еще встречаюсь с людьми.
– Это хорошо. А что вы читаете? – я назвала художественные журналы, интересующие меня темы и авторов, символизирующих мое понимание последних событий. Попутно с удивлением еще раз убедилась, что у него, в правильном человеке, и на пороге неотступной болезни на первом месте стоит гражданственность. Да, он пожаловался на болезнь, но тут же отбросил о ней разговоры. Еще один урок мне! Последний от него, наверное.
Как прекрасно мы понимали друг друга! Как чудно жили на одной волне! Как легко транслировали друг другу сокровенное, недосказанное, оставаясь в уверенности, что и поняты и приняты! Какая прочная нить бескровного родства связывала нас!
– Да, вижу, вы – наш человек. Читайте и поддерживайте… – он назвал несколько фамилий из уже ушедших и еще живущих писателей, вполне ожидаемые мною, – и рассказывайте другим про то, что сами поняли. Моя к вам персональная просьба такая: берегите себя, старайтесь в любой ситуации выстоять. Вы меня поняли?
– Я все поняла. Так и будет, не сомневайтесь, – сказала я. – Выздоравливайте, очень вас прошу и буду молиться за вас. Обязательно выздоравливайте!
– Еще не все, – между тем продолжил мой собеседник. – Передайте благодарность вашим родителям за такую дочь, а также поздравьте мужа с прекрасной женой. Передайте им от меня пожелания здоровья и долгих лет жизни.
Меру искренности и весомости его слов не передать – океан. Ведь он сам по масштабу был человеком, сравнимым со стихиями.
– Спасибо-спасибо, – сказала я и мы попрощались.
Так я обещала своему великому наставнику нести факел наших ценностей до конца своей жизни.
***
Много дней я прожила под впечатлением от этого разговора. Угасающий голос Владимира Ивановича звучал в моей памяти, а я не знала, как и чем можно ему помочь. К тому же не оставляло подозрение, что он страдает от одиночества, всеми брошенный и забытый. Раздумывая, я все больше убеждалась в своей правоте – это чувство и эта досада не беспочвенны. Ведь я искала Владимира Ивановича во многих местах, звонила во все колокола, вела переговоры с ответственными людьми и пыталась что-то узнать по издательствам, журналам и расплодившимся союзам писателей, и везде только пожимали плечами, будто даже не слышали о таком – нигде и никто не мог мне сказать, как он поживает, где находится. Все, образно говоря, недоумевали, будто я спрашиваю о прошлогоднем снеге. В лучшем случае невнятно припоминали, что был такой, но давно отошел от дел и уехал куда-то то ли в пригород, то ли в подмосковный городок, где сотрудничает с каким-то второсортным журналом. В этих словах чудились спесь, высокомерие, столичное чванство, во всем отношении к Владимиру Ивановичу улавливалось что-то обидное и недостойное его.
Казалось, что вокруг имени Фирсова Владимира Ивановича, еще в начале своего творческого пути избравшего историко-патриотическую тематику, примкнувшего к эстетике писателей-деревенщиков{1}, продолжавших в искусстве линию Федора Михайловича Достоевского, теперь, во время засилья в культуре идеологических противников этого русского гения, образовался молчаливый заговор, с целью покончить с ним. Тогда логично и не удивительно, что никакого упоминания о Владимире Ивановиче в Интернете вообще не существовало. На мои запросы о нем Яндекс и Гугл только шипели и тоннами выплевывали какой-то злобный мусор.
Поразмыслив, я поняла, что надо делать – надо написать Президенту России!
Момент был подходящий – на этот пост недавно вступил Дмитрий Медведев, уже успев на нем обвыкнуться, но еще не закиснуть. Он обязательно должен был отозваться на мое письмо, я верила в это.

И я написала. Просила не о себе, так что делала это легко.
Изложила все о Владимире Ивановиче – какие он прекрасные патриотические стихи писал, как много сделал для воспитания подрастающего поколения, как обогатил нашу память прошлым, как раскрывал значение нашей победы в Великой Отечественной войне, как учил любить свой край и дорогих людей. Помню закончила приблизительно так: «За строки, им написанные: ‟Русь под игом была, но Россия под игом не будет” – ему можно дать премию. Но сейчас он в беде и нуждается в дружеском участии. И я прошу Вас уделить ему внимание и посильно помочь в выздоровлении после тяжелой болезни». Силу этого письма я видела в том, что оно было от рядового читателя и даже не из России.
Вскоре после этого мы с мужем уехали в Крым и начали подыскивать там летнюю квартиру. Мы так погрузились в это трудное дело, что потеряли счет дням и отбросили многие прежние заботы. Вернулись к ним после того, как 23 февраля 2009 года подписали договор о покупке квартиры и закрутили ее капитальный ремонт. Короче, пришли в себя где-то в конце марта и сразу же начали просматривать накопившуюся прессу.
И вот в «Литературной газете» увидели заметку со снимком поэта, там говорилось: «21 марта, во Всемирный день поэзии, комиссия по культурной, информационной и градостроительной политике общественного совета города Москвы совместно с ассоциацией ‟Лермонтовское наследие” провела в зале презентаций торгового дома ‟Библио-Глобус” встречу поэтов с читателями.
………………………………
Президент ассоциации ‟Лермонтовское наследие” Михаил Лермонтов (полный тезка и внучатый племянник ‟того самого”) вручил поэту Владимиру Фирсову международную Лермонтовскую премию в области литературы ‟за плодотворную деятельность по сохранению и приумножению лермонтовского наследия”».
Ого! Не чудо ли? Настораживало то, что это награждение не было приурочено ни к какой дате в жизни награжденного, ни к какому его событию, как обычно полагалось. Создавалось впечатление, что некая благотворная сила, вникнувшая в обстоятельства Владимира Ивановича, узнавшая о его болезни и что времени ему отпущено мало, спешила вспомнить о нем всенародно и воздать почести.
Некто П. В. Бекедин пишет в Интернете: «В 1990-е голос Фирсова-поэта почти не был слышен. К его творчеству упал интерес со стороны критиков (даже тех, которые неоднократно писали о нем до конца 80-х). Перестали выходить его новые книги. Фирсов переживал весь ‟перестроечный” период внутренний кризис и искал свое место в изменившемся мире».
Искал, конечно… А остальные помалкивали и усилено забывали о нем.
Между тем награждение с неба не падает. Сначала надо было какой-то первичной инстанции принять решение о награждении человека, собрать материалы, обосновать их и подать выше со своей рекомендацией.
Так кто же обратился в правительство Москвы по поводу Владимира Ивановича Фирсова? Кто из тех, кто недоуменно пожимал плечами, когда я искала его, вдруг осмелел и на одном из заседаний своей организации ни с того ни с сего вынес вопрос о его награждении поэта Фирсова В.И.? Кто мог просто так вспомнить о нем, если он уже никуда не выходил и никому не звонил, давно тяжело болел, затерявшись где-то в своем Подмосковье?
И еще одно чудо, чуть позже случившееся, уже подготовленное не наспех, а основательно.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 2052-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2009 года в области культуры» Фирсов Владимир Иванович был награжден премией за книгу «Стихотворения». Это условная книга – в Интернете есть материалы, которые подавались вместе с представлением на награждение. Из них видно, что речь шла просто о сумме прекрасных стихов этого поэта, которыми многие годы зачитывалась наша великая страна.
Не чудо ли, если думать, что все произошли само собой?
Конечно, не берусь однозначно рассуждать о толчке, запустившим в ход последние приятные события вокруг Владимира Ивановича Фирсова. Однако я слишком хорошо знаю эту кухню, чтобы недооценивать первый камешек, вызывающий лавину в горах. Я представляю, как письмо рядового жителя соседней страны поступило к людям, готовящим для Президента материалы по культуре, как Президентом вопрос был признан стоящим внимания, как от исполнителей президентского поручения поступил звонок в Союз писателей с требованием предоставить материалы на награждение Фирсова Владимира Ивановича и как завращались тогда остальные колеса. Уж тут вовсю усердствовали те, кто от трусости еще недавно молчал, забыл и имя великого поэта, и его творчество и его адрес и телефон.
Я благодарна Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что он нашел время разобраться с поступившим на его адрес письмом, вник в проблему и со свойственной ему энергией и чуткостью ликвидировал несправедливость в отношении Владимира Ивановича Фирсова.
Скажу о другом, о том, какое это счастье – решиться разыскать своего главного нравственного учителя и не опоздать, и успеть сказать ему задушевные слова признательности за оказанное им влияние на тебя. Не каждому такое дано.
А также я радуюсь за Владимира Ивановича, что он успел услышать пришедшие к нему из далеких пространств, из толщи жизни слова благодарности – такие веские, не поспешные и экспансивные, а взвешенные и выдержанные в течение полувека, настоянные на времени. Я знаю, что подарила любимому поэту минуты великого удовлетворения, предоставила шанс напутствовать остающегося в жизни последователя, оставить духовный завет человеку, им воспитанному. Он спешил высказаться, а я все выслушала и запомнила. Немало достойных людей не успевают при жизни дождаться таких минут.
И о веселом.
Подошло очередное лето. К нам в гости приехал из Дубны Леонид Замримуха, тот самый, с которого началась эта история. За рулем машины уже был не он, а его старший сын Владик. Мы понимали, что видимся если не в последний раз, то в предпоследний – наш возраст больше не позволял преодолевать разделяющие дали.
Развлекая гостя, хотелось говорить не о себе, а о нашем общем, что осталось дорогим в памяти. И я рассказала о беседе с Владимиром Фирсовым. Детально рассказала – как искала его, как нашла и говорила с ним. Я полагала, что Леониду мой рассказ напомнит пору влюбленности, студенческую юность, последние летние каникулы, тихие вечера и покатые холмы вокруг Славгорода, где под луной читались прекрасные стихи. Но он бесстрастно выслушал меня и продолжал смотреть с непониманием, ожидая пояснений.
– А кто это? – спросил после паузы, которую я держала, считая, что он все же вспомнит.
– Забыл? – с последней надеждой спросила я.
– Что забыл? Я и не знал никогда. Ты ничего не путаешь?
– Это поэт. Помнишь, летом 1964 года ты подарил Раисе книгу его стихов «Преданность»?
– Ха! Не помню, конечно! Когда это было…
– Но стихи… – промямлила я. – Рая дала мне сборник только ненадолго, на день-два, так дорожила им…
– Какие стихи? – рассмеялся Леонид. – Да не читала она их!
– А ты?
– И я не читал.
Вот так все оказалось.
Так для кого покупал Леонид Замримуха сборник стихов «Преданность» поэта Владимира Фирсова? Ведь в итоге с него начинался мой путь от полей и лугов в прожитую городскую жизнь.
Владимир Владимирович Путин
Писать о человеке, деяния которого продолжаются, – большая смелость. Но я тут пишу не о своих героях, а о себе. А мои герои – это только свет, в котором меня легче увидеть.
Помню, тогда у власти в России был Борис Ельцин, наступила ранняя осень 1991 года, отшумели избирательные страсти, шумиха вокруг Горбачева, жизнь русских людей входила в более-менее стабильную полосу. И вот тогда, пользуясь моментом, к нам в гости приехала из Дубны моя школьная подруга Раиса Иващенко. Мы, конечно, не подозревали, что это последний ее самостоятельный приезд сюда. После этого она начнет набирать вес и вояжировать сама больше не сможет. Несколько раз ее еще привезет муж на машине, но и эти поездки закончатся в 2003 году.
Да, так тогда шел только 1991 год…
Мы с мужем жили на ул. Комсомольской в довольно симпатичной однокомнатной квартире с большой кухней, оборудованной под гостиную. Удобна эта квартира была не только высокими потолками, многими коридорами, телефоном, вторым этажом и балконом, но и близостью к центру города. Чтобы попасть туда, надо было с Комсомольской повернуть на улицу Короленко и пройти мимо Центрального Дома Быта, а дальше на углу лежал центральный проспект.
Так вот Дом Быта. Это было новое симпатичное заведение, с хорошими традициями, с достойным размахом работы, удобно устроенное внутри, укомплектованное прекрасными специалистами. Я любила туда заходить, что случалось не часто. Но, проходя мимо, всегда посматривала на его крыльцо. А тут, когда мы с Раисой просто вышли погулять в город, сам Бог велел посматривать по сторонам и искать приятных неожиданностей. И точно – у входной двери Дома Быта я заметила объявление, гласящее, что сюда приехала группа модельеров из Дома Моды Вячеслава Зайцева и проводит свои показы моды, лекции, мастер-классы для закройщиков и распродажу коллекции изделий. Как было не пойти?
– А я знакома с Вячеславом Зайцевым, – сообщила я Раисе по дороге.
– Шутишь? – сказала она. – Откуда?
– Мы с Юрой были в его заведении в мае 1984 года. На входе столкнулись с ним, он шел поправлять витрины. А потом подошел к нам и помог выбрать покупки: юбки мне и маме.
– Что значит – помог?
– Ну уделил внимание, окинул взглядом фигуру, видимо, определяя размер, потом расспросил о маме и вынес из кладовых то, что на стойках не висело. Я примерила – оно сразу подошло.
– Я живу рядом с Москвой, и то ни разу не… – начала ворчать Раиса, но в это время мы вошли в нужный отдел и опять натолкнулись на самого Вячеслава Зайцева.
Только теперь вокруг него толпилась куча народу. Все глядели ему в рот, а он что-то рассказывал, водил руками и улыбался. Затем подвел эту толпу к дальней стойке, которую за так просто и увидеть было нельзя, и начал снимать оттуда тремпели с изделиями и крутить их во все стороны, водя рукой то по вытачкам, то по бортам, то по другим деталям. Короче, явно проводил урок.
Рая, конечно, сразу замолчала и начала сквозь очки изучать зал.
Я же отошла в сторонку и отчаянно поджидала, когда ватага обучающихся у столичного мастера модельеров отойдет от заинтересовавшей меня стойки. Не без оснований я полагала, что, во-первых, коль эта стойка стоит в торговом зале, то изделия с нее продаются, то есть – выставлены на продажу. И во-вторых – коль Вячеслав Михайлович наводил там порядки, то это именно их изделия, что и является для меня привлекательным.
Так оно и получилось.
При первом же удобном случае я потянула Раису к той стойке, издали прикидывая, что мне подходит, и намечая, что стоит купить. Короче, я купила себе два теплых драповых костюма, годящихся для носки вместо демисезонного пальто. Один состоял из светло-серой юбки-годе с кожаной отделкой по шву оборки и роскошного бирюзового полупальто с дивными плечами и шикарными рукавами, очень модного! Я носила этот костюм и вместе и порознь, пока не сносила полностью. А второй костюм был из облегченного драпа красного цвета: ровная юбка и почти классический жакет, тоже бесконечно полюбившийся мне.
Рая тем временем тоже перебирала какие-то вещи, что-то снимала со стойки и прикладывала к себе… Она переживала трудности с выбором одежды из-за своих широченных бедер, правда красивых. Но вот одна из юбок, кажется, могла бы подойти ей, и тут на лице Раисы нарисовалось сожаление – я поняла, что у нее нет денег на покупку.
– Подходит? – спросила я.
– Наверное, надо мерить.
– Так меряй, у меня есть денежки. Это будет подарок тебе от меня.
– Правда? – Раиса сжала юбку в своих кукольных кулачках и притиснула к груди. В ее глазах засияла радость.
– Спрашиваешь! Конечно, правда.
В тот день нам не удалось погулять – нагруженные покупками, мы тут же вернулись домой и принялись обезьянничать перед зеркалами, примеряя купленное.
О чем мы говорили вечером, когда пришел с работы Юра и был устроен торжественный ужин с «обмыванием» обновок? Знаю, что обсуждали публикации в последних номерах толстых художественных журналов. В те годы в них было много публицистики, причем весьма острой и бескомпромиссной – шла борьба западников со славянофилами, к которой мы были неравнодушны. Все это подпитывало тогдашнюю политику и подпитывалось от политики, этот конгломерат катился на простых людей, вышибая многих из понимания того, что происходит. Каждый участник полемики выливал на страницы печатных изданий свою правду и делал это до умопомрачения убедительно. И если читатель не понимал, с какой стороны лежит его интерес, если он утрачивал классовое чутье, то в результате терялся и порой переходил на сторону своих злейших врагов, отстаивал их идеи, которые были направлены на разрушение его же собственной жизни и взрастивших его ценностей.
Заблуждения эти случались повсеместно и повально. А мы с Юрием Семеновичем, по своей образовательной подготовке и возрастной прозорливости, уже понимали, к чему это приведет. Больно нам было от этого невыносимо, но сделать ничего нельзя было. Тупого человека никогда не сделать умным, ибо таково устройство его мозга. И лишь в очень редких случаях можно заблудшего вывести на путь истинный. По мнению Библии, благоприятные исходы составляют около одного процента от общего числа неправильных мнений. Но и ради этого одного процента Создатель полагал, что нельзя разрушать Содом и Гоморру. Так и мы – уповали на этот несчастный один процент! Но тщетно…
Результаты этого непонимания происходящих процессов мы наблюдаем сейчас, когда в обществе угробили нравственность и коллективизм; когда старикам перестали уступать место в общественном транспорте и необразованная молодежь глумится над ними, воруя и перепродавая их ордена и медали, осмеивая их подвиги и радения; когда уничтожены и извращены наши архивы; когда разрушены наши памятники и любые напоминания о нас. И после всего этого мы остались не только голыми и босыми, но и без истории, без предков, без земли и без достояния. Мы остались не людьми, а словно мусором, навеянным ветрами времени.
Мы, зрячие, и тогда понимающие, к чему клонится дело, теперь невольно и незаслуженно наравне с теми слепцами пожинаем плоды их недомыслия. А скажи же им тогда, что они неправы, что годиков через десять будут плакать от этого, так ведь не согласились бы!
Так и Раиса вдруг принялась защищать Ельцина, которого в контексте наших обсуждений обойти было нельзя. Едва мы заговорили о нем, едва упомянули о своем отношении к нему, как она проявила остервенение, что было сродни фанатизму человека, идущего за эмоционально заряженной толпой. Такой толпой в те годы были вышколенные американскими спецслужбами ельцинские горлопаны, якобы представляющие «народ», якобы его поддерживающий. Этих ряженных было не более двухсот-трехсот человек, но без них не обходилась ни одно массовое мероприятие. Их задачей было разжигать толпу подражателей и направлять ее в свои русла, а также распылять группки трезвомыслящих людей, пытающихся сражаться с ними.
Сейчас мне можно не описывать эти процессы, о них уже знает каждый. А тогда их понимали не все. Простые доверчивые люди эти уличные цирковые представления воспринимали всерьез, верили Ельцину, не видели в нем фигляра, предателя, вора и политического дегенерата. Короче, Раиса разобиделась на нас и ушла ночевать к сестре Валентине. Затем уехала, больше не повидавшись.
С тех пор мы перестали общаться. На долгих десять лет!
И вот в январе 2001 года не стало моего отца. Невероятно теплая зима после Крещения чуток побаловала нас морозами и снегом, затем сменилась дружной хорошей весной. Но мама ее не замечала, она тосковала и горевала, и ее нельзя было надолго оставлять одну. Какое-то время возле нее пожил правнук Алексей. Он, умелый к любой сельской работе, помог ей принять теленка от коровки, покрасил крышу, наличники на окнах и уехал.
Затем на весь май приехала я – сделать ремонт в доме: подклеить отпавшие обои в комнатах, покрасить полы, переклеить обои в коридоре и веранде и покрасить там все полностью. Особенно боролась я за живучесть входной двери, рассохшейся, покрывшейся большими щелями и пропускающей зимой ветер и холод. Я заталкивала в щели вату и ветошь, а сверху заклеивала их матерчатыми лентами. Потом красила. Получалось неплохо. Так же ремонтировала и полы, где появлялись щели.
После ремонта я обязательно шила маме новое платье, наряжала ее в него и мы ходили по гостям: к тете Гале Ермак, к дяде Грише Колодному и к дяде Жоре, папиному брату – к тем, к кому можно было прийти в любое время и без поводов. Больше таких знакомых уже не находилось. На то время мамины подруги и сослуживицы по работе в сельпо, бывшие фронтовички, тетя Нюра Трясак и тетя Таня Янченко, уже сильно болели – и сами редко выходили и гостям были бы, как мы полагали, не рады. Как позже оказалось, у обоих был рак…
Чтобы побывать у остальных знакомых, нужен был повод. Я раздумывала над ним, за счет чего бы нам расширить круг общения. Какой повод изобрести, чтобы мама могла ходить к большему числу людей и чтобы к ней приходили многие люди? Постепенно приходило понимание, что это можно сделать только через написание книги на темы местной жизни, куда бы были вовлечены многие славгородцы. Долго я подбиралась к теме, все никак не могла найти подходящую, обсуждала эту идею с мамой, пока однажды в разговоре с нею не вспомнила свое детство, сестер Столпаковых, погибшего Юрия Артемова… Но это было чуть позже, книгу о гибели линкора «Севастополь» я начала писать в июле 2001 года, а нынче был только май.
Да, так вот как-то возвращаемся мы с мамой из гостей. Идем не главной дорогой, а напрямик, через балку. Пересекаем футбольное поле и вижу я, что по дороге проехала машина, а в ней силуэты – ну точь-в-точь Леня Замримуха и Рая Иващенко. Говорю маме:
– Гляди, вот точно Рая с Леней поехали.
– Откуда они тут возьмутся? – отвечает мама. – У них тут уже нет никого, и ночевать им негде было бы. А уже почти вечер.
Ладно. Пришли мы домой, начали возиться в веранде, готовиться к вечернему чаепитию. Мама стоит у плиты, я кручусь возле нее, что-то рассказываю. Входная дверь тогда еще была с окнами, и я по привычке посматриваю туда, словно жду кого-то. Вдруг слышу – хлопнула дверь автомашины. Снова бросаю взгляд в окно, и вижу, что у наших ворот остановилась легковушка, оттуда вышла Рая, подошла в калитке и ищет крючок, чтобы ее открыть. Знает где искать – через верх руку завела на внутреннюю сторону и наклонилась, шарит рукой вполне где надо!
Я выскочила, когда она была уже на полдороге к веранде. Мы обнялись!
Тогда они в последний раз ночевали у нас в селе, недалеко от Раиного разоренного дома… Сколько было воспоминаний, сколько рассказов! Я помалкивала о нашей последней размолвке – зачем вспоминать, если все давно позади, ровнехонько десять лет миновало, и Рая первой приехала искать меня у мамы… Одного я не хотела – говорить о политике. Эти разговоры поддерживал папа, хотя мы и занимали с ним противоположные позиции, а мама ими не интересовалась.
Но Рая не смолчала. Улучила удобную минуту и сказала:
– Вы с Юрой правы были в отношении Ельцина. Обманулись мы в нем. А вот с Путиным нам повезло.
Видно, Раиса, как и в школе на уроках геометрии, старалась, вникала, размышляла, сравнивала – трудилась. А может, просто хотела знать мое мнение о Владимире Владимировиче, что было бы тоже понятно.
– Да, – сказала я. – Кажется, повезло.
Вот так мы с Раисой снова обрели былое единодушие и общение.
***
Наверное, и того хватило бы для моей благодарности Владимиру Владимировичу Путину, что он примирил меня со школьной подругой. Но дело пошло дальше...
Вскоре через знакомых меня пригласили для работы в книжных проектах Владимира Чередниченко: «Президентский рубеж», трехтомник о Леониде Кучме, и «Линия Путина», четырехтомник о Владимире Путине. Я согласилась, полагая так, что лишний опыт мне не повредит. Не буду здесь говорить о незавидной судьбе «литературного негра» и высказываться о художественных ценностях той мемуарной публицистики, что создает названный менеджер с помощью наемных писателей, скажу о другом. Волей-неволей, отображая в литературном произведении образы двух президентов, я присматривалась к ним, взвешивала их речи и поступки, отслеживала их качества, нравственность, последовательность, профессиональные способности. И попутно делала выводы.
Писать о Л. Кучме мне было легче. Я несколько раз видела его, правда издалека, на городских и областных партийно-хозяйственных активах в бытность его генеральным директором производственного объединения «Южный машиностроительный завод». Все же кое-какое впечатление оттуда получила. Это имело большое, даже неоценимое, значение при написании книг.
А вот к Владимиру Владимировичу Путину мне пришлось присматриваться пристальнее, изучать его мимику, голос, интонации, стиль речи, пластику жестов – все, что может пригодиться при описании событий с его участием; все, о чем можно сказать вскользь и тем дать точную подсказку читателю, как понимать написанное. И уж тем более пришлось вникать в смысл сказанного и несказанного им слова, в значение его умолчаний и пауз, научиться понимать мысли в его глазах, прочитывать в улыбке и полуулыбке то, на что он намекает.
С тех пор мне понятен этот человек настолько, что кажется – мы живем на одной волне. Только уровни разные – где он и где я… И я не удивляюсь, что даже враги отдают должное его размаху и глубине, знанию поднимаемых вопросов, их истолкованию, его логике и преданности своему делу, мужеству и стойкости, степени ответственности и безукоризненной мере во всем. Это божественная личность по масштабу и внутренней сути. И я рада, что психологически и ментально прикоснулась к ней, и благодарна тем, кто дал мне этот шанс, ибо без практической потребности не смогла бы духовно сродниться с нею, сплавиться в один сплав.
Иосиф Виссарионович Сталин
Если учесть, что Сталина не стало в год, когда мне исполнялось шесть лет, и что к тому времени я уже помнила многие факты происходящей вокруг жизни и понимала их внешнюю сторону, то вполне можно считать меня современницей его деяний, имеющей свое мнение обо всем этом, их прямой наследницей.
В моем окружении отношение к Сталину было неоднозначным, меня оно поражало даже в детстве. Иногда казалось, что взрослые шутят. Да, Сталина считали вождем и главной причиной происходящих вблизи и вдалеке событий, кажется, вплоть до погоды и движения звезд. В этом-то и заключалось противоречие, которое мне интуитивно бросалось в глаза, а многими автоматически не замечалось. Люди видели в Сталине и солнце, дарующее жизнь, и некую невидимую силу, вездесущую и влияющую на мельчайшие местные перемены и происшествия.
Ведь так легко ругать ветер, который, допустим, снял сохнущее белье с веревок и унес вон, не очень вникая в то, что именно в вас причина несчастья, – это вы плохо закрепили белье на веревке и не учли, что при северном ветре из-за угла дома появляются его порывы, способные и не на такое. Чаще всего Сталина ругали из-за производственных столкновений. Помню, с дяди Вити Соболя сняли месячную премию – и пополз гнилой слушок, намекающий на репрессии, дядину Витину национальность, нелояльность к бывшим узникам фашистских концлагерей. Во всем виноват был Сталин! Это он распустил мастеров, дал им право издеваться над рабочими, посадил на шеи людям нормировщиков и давит всех своей удавкой. А то, что этот дядя Витя вел себя нагло, вечно недовольствовал, вымогал особого к себе отношения, что на днях обматерил своего мастера в очереди за пивом, а потом еще проехал на велосипеде мимо его жены и не поздоровался, – это забылось. А мастер тоже человек, и воюет с помехами своими способами, при помощи своих рычагов. И что – Сталин виноват?
Что ни говори, а выросла я в самой настоящей толще народа, среди работяг, недовольных своим положением, претендующих на что-то большее, желающих подняться над своей незатейливой судьбой и от этого охотно втаптывающих в грязь более светлых людей. Стремящаяся пробиться к лучшей жизни, но мало имеющая возможностей сделать это, черная масса ревниво, с ненавистью подминала под свои катки каждого чуть-чуть возвышающегося над нею, не считалась со слабыми и уступчивыми личностями. Люди, не желающие быть крайними, считающие позором находиться в самом низу социального устройства, мстили своим же собратьям и не разбирались ни с правыми, ни с виноватыми. Не понимали они какой-то правды жизни, не умели дружно подняться, воспитать в себе собственное значение и собственную гордость… Горько это было наблюдать. А примеров хватало и без Сталина.
Жили у нас в селе два человека папиного возраста: Иван Крохмаль и Пантелей Ермак – худенькие низенькие мужички, наверное, и без образования вовсе, невзрачные, тихие. Во время войны попали они в танковые войска и героически прошли весь боевой путь. Были у них и ордена и другие награды. Но пиком их жизни, самым высшим упоением стало то, что на своих танках они первыми ворвались в Славгород во время его освобождения в 1943 году, став провозвестниками и символами нашей великой победы.
Это их наши настрадавшиеся люди встречали хлебом-солью, усыпали их путь хлебным зерном и слезами благодарности, им кланялись в пояс, их благословляли на дальнейшую счастливую долю. Я представляю, что испытывали эти щуплые бывалые бойцы, принимая тогда от односельчан такие почести. Как пели, должно быть, их сердца! Как в тот момент они любили свой народ! И как им хотелось еще лучше бить врага, чтобы очистить Родину от нечисти! Они чувствовали себя героями, нужными этому миру, ответственными за него. В такие минуты любой человек становится всесильным, в нем пробуждается только все лучшее, высокое. А мелочное уходит на второй план. Так было и у танкистов Ивана Крохмаля и Пантелея Ермака. Их глаза светились, они улыбались и казались прекрасными богатырями, повелевающими своими грозными машинами, – рассказывала мне мама, которая находилась в числе первых, кто встретил их, когда они остановились на своей улице и вышли из танков.
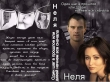
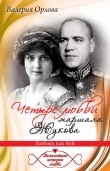

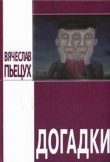
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)