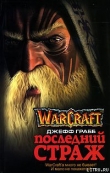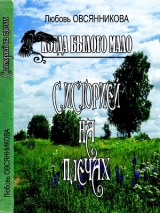
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Мои соученики, подхватив отбиваемый песней такт, упивались движением, а я с первых слов словно выпала в некую прекрасную оторопь, незаметно растворилась в ней, исчезла и минуту спустя нашла себя около проигрывателя, где стояла и вслушивалась в слова, в стон рвущихся жил, в муку отчаянного заклинания – жить! Его экспрессивное волнение, не погибшее от прикованности к винилу, устремилось к единственной соритмичной душе – моей, – чтобы тоже дышать и течь по живой горячей крови.
– Кто это поет? – спросила я.
– Володька Высоцкий, – ответили мне так, будто это был парень из соседнего подъезда, причем из таких, на кого давно махнули рукой.
– Ах, – я кивнула, – очаровательное панибратство, мнимая причастность... Это что, повышает твою самооценку?
– Нет, просто мне он тоже нравится.
– На чьи стихи песня? – я всматривалась в затерто-яркую круглую этикетку, где уже ничего не читалось, и понимала, что этого артиста я узнала с опозданием на несколько лет.
– Его же.
Потом Владимир пел «Москва-Одесса» о том, что «…надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс», – шуточную песню, но с тем же драматизмом, которым был пропитан, проникнут весь он сам в тембре души и голоса, наверное, еще до рождения. Откуда это в нем, эта тревожная нота, этот надсадный прорыв к жизни, как у одуванчика, раздирающего асфальт, словно находились ему помехи, угрозы? Кто угнетал его дух, с какими внешними обстоятельствами он боролся? Почему обычная жизненная ситуация, когда что-то временно недоступно (а нам постоянно что-то оказывается временно недоступным – то одно, то другое), выбрана им для образа эпохи и обрисована в красках неприятия? Ни горя, ни крови, выпавших на долю большинства советских семей, он не знал, не видел. Однако горевание и бунт против непреодолимости внешних стихий поддерживались в нем, тлели или впитывались из воздуха.
Крамола, несогласие, противопоставление личного всеобщему, воспевание непокорности законам природы, протеста против любого внешнего диктата без различия его происхождения, возведение в культ того, что находится за гранью человеческой нормы... И ирония по отношению к этой норме, как метод борьбы с нею, метод самоутверждения, сарказм, относимый к имеющим место традициям, насмешка над источником, из которого пил. Опасный крен к неблагодарности? «Все не так! Все не так, как надо…» О чем он мечтал, чего хотел, кого любил?
На первый взгляд эта борьба казалась благородной, чистой, ее патетика привлекала и заражала, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это эпатаж. Воспеваемые Высоцким ценности были ложны, надуманы, ибо происходили от порока его личной природы. «Не жить» – это, к несчастью, было заложено в его некачественной наследственности. И этот некачественный ген ощущался им в себе, мучил его. А он, вместо того чтобы искоренить эту пагубу, пытался представить себя совершенством и, напротив, изменить мир и подстроить под себя. Это, конечно, безуспешный путь, и неуспехом этого пути он еще больше не удовлетворялся и мучился, это-то и выплескивал наружу, подкупая слушателей вопящей искренностью терзаний, безусловно имеющихся в его душе.
Но кто мог так уж глубоко копаться в его душе и в творчестве, кто мог настолько серьезно его воспринимать? Кому могло прийти в голову не только слушать его, но и изучать? Ведь это всего лишь эстрада, да и то – почти самодеятельная. Подумаешь – бардовская песня! Бормотание у костра или за рюмкой спиртного. Его песни всем нравились, да и все. Нравились – без разбирательств, зачем он писал и почему писал так, а не иначе. Молодые вообще видят лишь внешние эффекты, не проникая вглубь – им некогда, да и не всегда по уму. А старики… они находили удовольствие греть свои обиды в тональности песен Высоцкого, не особенно задумываясь о причине его обид. Их душа отдыхала, видя, что и другим несладко, что просто такова жизнь.
Так я прочитала Владимира Высоцкого тогда, а время и дальнейшая жизнь артиста показали, что я почти не ошиблась.
Я никогда не была одержима музыкой, эстрадой, песнями, но легко понимала это искусство и принимала под настроение, смакуя как деликатес – понемногу. Возможно, потому что я не насыщалась лишними его порциями, восприятие старого, знакомого было всегда свежим, а нового, если оно нравилось, – острым, ошеломляющим. Высоцкого слушать запоем тем более не рекомендовалось. Кощунственно было бы привыкнуть к его голосу, к его текстам, тем, которые горячащиеся поклонники величают стихами. Конечно, это были рифмованные тексты по форме, но далеко не поэзия по сути. Тем не менее вместе с придуманной к ним мелодией и исполнением самого Владимира они представляли неповторимую целостную уникальность, никем не покоренную по сей день творческую вершину. Это было феноменальное выявление личности во всей ее спорности и возможной греховности, личности громадной и неравнодушной, что потрясало. Жаль, что осталось так мало записей его концертов, где он пел исключительно вживую.
В этом смысле Владимир Высоцкий был и остается в памяти неоспоримым гением – гением самовыражения. Конечно, он не просто бард, каких пруд пруди, он – великий творец, мастер. И именно в таком качестве и масштабе был признан народом, всеми, кто его слушал – от мала до велика. Ведь, если оставить в стороне его личные мотивы к бунтарскому тону и окрасу творчества, все равно он остается выразителем той мятежности, что есть в каждой душе, в каждой судьбе. Разве не нарекаем мы на несовершенство человеческой природы, не сетуем? Разве не мучаемся извечной жаждой неограниченного полета, не мечтаем о небе? Эти жалобы знакомы и близки нам. Увы, все мы люди, все – пленники обстоятельств. И тоска по свободе, которую во всем угнетает вселенская гравитация, безотчетно знакома нам, разделяема нами, она объединяет нас. Поэтому тех, кому бы не хотелось слушать Владимира Высоцкого, просто не существовало.
Помнится весна 1971 года, май, праздник, а вокруг – Полесье, лесистая и болотистая ровенщина, Костополь – заштатный районный городок, повсеместная раскисшая почва нестройных улочек, устеленных мостками из сбитых горбылей, чужие по духу люди с косыми взглядами, комары и хворь. Юра несет срочную службу в армии. Мы с ним идем по мосткам, радуемся солнцу и редко случающемуся свободному дню, наступающей весне. Но ощущение неуюта не покидает, Юрина военная форма очень не нравится бывшим воителям против советской власти. Их затаенной враждебностью пропитан воздух, ею отравлены леса, болота с густой непрозрачной водой. Мы жмемся друг к другу.
И вдруг из ближайшего окна выпархивает песня – «…наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые», а следом снова о мужестве и стойкости: «Отставить разговоры! Вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам». Высоцкий! Он и тут с нами! И все – пространство снова превратилось в родной дом, и мы ободрились духом.
Песни Высоцкого были о наших сердцах, горячих и отзывчивых, о мире, каким он ему казался, и о самом дорогом для человека – о жизни. Поэтому люди их понимали и любили. Он по праву вошел в нашу советскую историю как автор и исполнитель своих песен под акустическую семиструнную «русскую» гитару. Высоцкий – это космическое явление, которому нет повторения.
Биографы всякое теперь пишут, и, как ни странно, почти ничего о творчестве, а все больше о причинах, погубивших его в расцвете возраста. Конечно, были такие причины, я упоминала – конкретности личной природы. Тонкость и многогранность его мировосприятия, слабые места психики, особенности чувствований и отражения внешнего мира во внутренних зеркалах приводили к стрессам. Творчество – это вообще стресс. Однако мера его у каждого художника своя. У Высоцкого стресс достигал таких значений, которые высекали из его души молнии озарений и громы провозглашения о них. Он не мог молчать, он заражался самой возможностью вещать миру о сделанных открытиях, он транслировал вдохновение другим. Чистосердечность его признаний экспрессивна и беспрецедентна, поэтому его личный творческий стресс зашкаливал. С этим не всегда справлялся организм, и тогда он просил пощады.
Известное дело, пощада могла бы прийти в виде хорошего сна, дальних прогулок в спокойной обстановке, с милыми сердцу людьми. Но Владимир всегда спешил, и не хотел тратить время на естественное восстановление сил, он и тут стремился спрессовать и ускорить события. И стал выпивать. Увы, очень рано, что привело к возникновению зависимости, к болезни.
Но не это страшно, совсем не это. Есть и было много личностей с тонкой душой, которые прибегают к стимулированным методам сброса напряжений и живут долго. Известно, что театральные актеры, отыграв спектакли, тут же бражничают и расслабляются. Не все они сгорают в сорок два года. Было еще что-то, что сильнее и гибельнее влияло на Высоцкого. Что же?
Я помню эти годы как время туристской романтики с песнями под гитару. Это был типично студенческий, да и просто молодежный образ жизни – в свободное время ходить в горы, изучать Урал, Кавказ, Сибирь, сплавляться по рекам на плотах, ходить под парусом на незаселенные острова и там робинзонничать. И все это сопровождалось узнаванием и изучением мира, совместным творчеством, становящимся новым фольклором, в котором воспевался родной край, его красоты и дивная эта сплоченность – дружба. Даже мы в нашей группе, все как на подбор совсем не спортивные, не имея возможности ходить в походы, не будучи приспособленными к этому, возмещали всеобщую жажду романтики осенней работой в колхозах, где помогали убирать урожай, – и пели там по вечерам, на природе, с кострами, выбирая укромный уголок. Если уж древние племена били в бубны и кивали звездам, то странно было бы, чтобы у нас не властвовали мелодии и певческие голоса, чтобы не расцвел особенный жанр – бардовская песня. Это песня, написанная самодеятельным композитором на свои же слова и исполняемая им под гитару. Многие парни увлекались этим, щеголяли друг перед другом голосами, томностью и задушевностью, соревновались в игре. У каждого отряда, клуба, группы была своя песня как гимн, как опознавательный знак.
Учитывая необыкновенную популярность нового явления, осенью 1966 года, после уборочной страды, когда все студенты съехались на учебу, в Днепропетровском горном институте имени Артема провели первый областной конкурс так называемой туристской песни (тогда ее еще не называли бардовской, во всяком случае – у нас). Видимо, он прошел успешно. Традицию решили закрепить и наметили повторить конкурс в 1967 году.
Конкурсы тех лет – это мероприятие самодеятельное и бесплатное, замешанное на энтузиазме устроителей, на радости бытия участников, на их духовной потребности творить добро. Исполнителями снова были рядовые студенты из туристских отрядов, распевшиеся, заявившие о себе, кого уже мало-мальски знали и охотно слушали, – безымянные для остальных, нечестолюбивые, стремящиеся просто излить душу на публике. Не без того, награды были – конкурс есть конкурс. Но победитель получал гитару, а остальные – палатки, термосы, рюкзаки. Никто не оставался без внимания. Скромные призы.
Я специально подчеркиваю безвестность бардов и их немеркантильность, чтобы перекинуть мостик размышлений на Высоцкого – раскрученного друзьями профессионала.
И вот когда проходил у нас второй конкурс, то на концерт пришло так много людей, что зал не мог всех вместить. Публика толпилась на лестничной площадке у входа в него, давила на перила, пока ни произошла трагедия: лестница не выдержала нагрузки и разрушилась. Произошел обвал перил, и вся масса людей посыпалась вниз, пролетая пять этажей, падая с четвертого этажа в подвал здания. А там под пролетом стояли спортивные снаряды, о которые они калечились, разбивались! Многие погибли, иные остались инвалидами. Конкурс закрыли на десять лет. Его возрождению я свидетелем уже не была.
Вот что значил тогда человек с гитарой! Просто человек с гитарой. Что же говорить о Высоцком, слухами о котором полнилась страна и записи песен которого переходили из рук в руки как величайшая драгоценность. Его и его песни узнавали по первой ноте, первому звуку голоса в самых дальних уголках Земли. Это был вселенский кумир, звучащее чудо, оживший миф. Это был Робин Гуд, преобразившийся в нового трубадура, современного ваганта! Нетрудно представить, какие залы он собирал на свои концерты, какие деньги вокруг него крутились и сколько людей стремилось на нем нажиться.
Как ни кощунственно это прозвучит – виновником трагедии с Высоцким явились окружавшие его доброхоты, друзья. Это они толкнули его на путь погибели. Нет, начиналось все не со злого умысла, но постепенно они сами втянулись в легкое зарабатывание денег, заразились алчностью и дальше уже бессовестно и беспощадно эксплуатировали Владимира в откровенно корыстных целях. Он стал их заложником, рабом.
Этот путь представить легко: первая песня, исполнение для друзей, запись на магнитофонную ленту для того, чтобы послушать себя со стороны или показать друзьям друзей, с которыми трудно встретиться лицом к лицу – так делают многие. Даже я так делала в пору работы на телевидении. Но не многие – гении, и не у всех получается взрывной эффект! У Высоцкого все совпало – он и гением оказался, и оценен был быстро и бурно. Как тут не соблазниться?
Друзья под видом продвижения исполнителя к слушателям начали тиражировать его песни, за деньги предоставлять записи для копирования, понемногу продавать, что-то из заработанного отдавать ему. Казалось бы, ничего страшного – надо же «отбить» затраты на пленку, на использованную электроэнергию… А там захотелось иметь возмещение и за потраченное время. Так незаметно возник подпольный бизнес, приносящий баснословные барыши, затем начались левые концерты, организуемые окружением Высоцкого. Что он от этого получал? Возможно, только удовлетворение своей пагубы.
Владимир не пропал бы без друзей. Он и сам шел по пути популяризации творчества, но его путь был логичным и правильным, без криминального флера – он продвигал свои песни в кино. И у него получалось. На фильмы «Вертикаль», «Короткие встречи», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли» и другие, к которым он писал музыку, мы ходили по несколько раз, забросив конспекты. Заработков от таких прокатов ему хватило бы на безбедную жизнь.
Другое дело, что работа в кино не могла поглотить весь его гигантский потенциал, запас вдохновения не исчерпывался и требовал выхода в новых песнях. Песни писались легко и по любому поводу. И это-то подметили друзья, обратив ситуацию в свою пользу. Как было Владимиру не выручить их? Наверное, многие плакались на материальные трудности, на то и дело возникающие проблемы, говорили, что честным трудом заработать не грех, суетились, демонстрировали свою преданность и нужность, подчеркивали лепту, вкладываемую в общее дело. И пошло-поехало – записи, концерты, надорванный голос и нужда в избавлении от невыносимых нагрузок. Все время: допинг, деньги, творчество – Володе не позволяли выйти из этого порочного круга. И он погиб, без никакой своей вины. Его ранняя смерть лежит на совести его окружения, всецело. Великий мастер всегда беззащитен и нуждается в беззаветно, бескорыстно любящем сердце ближнего, в щадящей атмосфере вокруг себя. Многие сами умеют создать такую атмосферу, как Анастасия Цветаева, например, почему и прожила почти сто лет. Владимир не умел, передоверялся друзьям, а сам безоглядно и стремительно летел к совершенству, пел о мире и кричал о своем присутствии в нем, как соловей, не слышащий себя.
И 25 июля 1980 года он упал с набранной высоты, разбился. Не уберегли его.
Заблудший рыцарь
– Эту книгу мне дали на одну ночь, – словно прося пощады, сказал папа, когда мама попыталась оторвать его от чтения просьбой принести из колодца воды. – В веранде полное ведро стоит, до утра нам хватит, – отпирался папа.
Мама улыбнулась – опять фантастику принес, детскую книжку. Ну да ладно, лишь бы ему нравилась, лишь бы дома сидел, не искал приключений на стороне.
– Вот посмотри, как хорошо написано, – между тем продолжал папа. Он выдохнул, готовясь прочитать текст на украинском языке, который знал только из живой речи потомков запорожского казачества, не из книг, и продолжил: – «Оживи, мріє, заколисай мене! Хай буде чудо, хай оживуть тіні далеких і рідних людей! Адже вони тут, серед нас, вони дивляться на нас суворо і вимогливо, вимагаючи правдивого звіту – що виросло на тій землі, яка скроплена праведною кров’ю?»
Мама прослушала отрывок, все больше мрачнея лицом, и направилась к двери, качая головой:

– Да, окропленная кровью, это точно. Только не спросят они, столько лет уже молчат, – и она закашлялась, делая вид, что у нее запершило горло, а на самом деле скрывая подступившие слезы. – Эх, – махнула рукой, – пишут, пишут…
– Да ты подожди, – заторопился папа успокоить ее. – Это не о том! – но мама уже была в веранде и гремела там пустым ведром.
Скоро она хлопнула наружной дверью – пошла к колодцу за водой, чтобы успокоиться. И папа с виноватой растерянностью посмотрел на меня:
– Неудачный отрывок прочитал, – сказа виновато, – она расстроилась.
– Да, мама вспомнила своих расстрелянных родителей, – сказала я.
– Тут совсем о другом написано, не о расстрелянных, а о предыдущих поколениях, – оправдывался папа.
– А они разве не погибшие? – я нахмурилась. – Не понимаю Бога, так долго творил человека, а потом послал ему смерть.
Еще стояли самые долгие ночи, хотя солнце уже повернуло на лето и начало теснить мрак. Шел январь 1959 года – морозный, правда, снежный, что было хорошо, так как при глубоких снегах холод переносился легче.
Папа читал недавно изданную, но уже потерявшую первозданный вид книгу. Выгореть она не успела и страницы не пожелтели, но синяя обложка из картона, покрытого бумагой, на которой был нарисован земной шар, а на его фоне стояла молодая женщина с длинными волосами, перекинутыми на грудь через левое плечо, уже обзавелась потертостями и начала утрачивать цвет.
Таким было мое знакомство с советским писателем-фантастом Олесем Бердником и его произведением «Шляхи титанів». Следующей к нам попала его книга «Сини Світовида», затем были «Стріла часу» и «Діти безмежжя». Мы с папой упивались ими, перечитывали по несколько раз, запоминая и пересказывая своим друзьям почти дословно.
Звезды, о которых писал Олесь Бердник, казались нам необыкновенно близкими, они пахли теми ковылями, что росли за огородом, их мягким белесым простором, потому, наверное, и падали в него в августе. И гудели звезды тонко, как сильно натянутая струна на непрерывном ветру. Мы знали, как гудели электрические провода на нашей улице, и порой слушали их, пытаясь понять язык высоких энергий. Папа был романтиком, и я набралась от него этого настроения на всю жизнь.
Хотелось дотянуться до них, прикоснуться, и это чудилось возможным – надо лишь что-то понять, простое, но выпадающее из обыденности. Но что? И мы искали ответ в этих книгах, стихах и заклинаниях, волшебных по сути. Язык, на котором не говорят ни на работе, ни дома, который годился лишь для изложения этих феерических историй, воспринимался нами как код, формула их постижения. Он нам нравился. «Діти безмежжя», «народжені часом» – так приятно звучали эти слова, так много в них обещалось прекрасного, словно этой тайнописью говорилось о нас самих, словно мы тоже были крылатыми. Возникала уверенность, что нас непременно коснется голубое свечение космических трасс, шорох медленно вращающихся планет, звон разогретых светил, коснутся разгадки непостижимых тайн, ведущие к всеобщему счастью. Придет оно не через войны и сражения, где есть как воспеваемые романтиками герои, так и поверженные, побежденные, – кстати, не всегда неправые, о которых тоже думалось и плакалось, – а каким-то другим образом. Мнилось, что есть другие миры – счастливые, без агрессии, без борьбы противоположностей. Как и герои книг Олеся Бердника, мы любили мечтать, но все равно готовы были отказаться от любых сладких грез ради мира и бесконфликтности.
Скажи нам тогда кто-нибудь, что почти всех звезд, видимых на небе, давно нет, что к нам доходит свет умерших образований и добраться до них, изучать их – невозможно, как невозможно найти замолчавший источник ночного эха, мы бы не захотели в это поверить. Как же тогда изучать космос, если к нам доходит не сегодняшняя информация о нем, а многотысячелетней давности? Как планировать полеты и куда летать, если все видимое и звучащее давно превратилось в призраки?
Ох и ветры веяли над нами, над нашими небесами – озонные, обильночудные, пронизанные громами да молниями, мягкие от теплых дождей, звонкие от надземных симфоний! По сердцу они нам были, мы летели им навстречу и с ними отправлялись дальше, приходя в своих поисках… – к человеку. И оказывалось, что все тайны живут на земле, а на небе – блуждающие во времени отблески угасших светил. Эту истину, всякий раз открывающуюся между строками почитанных книг, мы воспринимали с легким разочарованием. И все же человек – единственная реальность, сравнимая с космосом, и если он творец, то светит людям своей душой и звучит мелодией своих дел.
Сейчас я вспоминаю те настроения, находки и открытия, заражаюсь ими и ликую, как будто окунулась в тот наш мир, чрезвычайно юный, непогрешимый верою в высшую справедливость, увы, отошедший в воспоминания. В самом деле, думаю я, вот сидят в студии парни из группы «Белорусские песняры» – обыкновенные, не идеально красивые, не сверхумные, рассказывают анекдоты, свои гастрольные приключения, вспоминают Владимира Мулявина – незаметные люди, каких миллионы. Но стоит одному из них запеть, стоит к нему присоединиться другому, третьему тронуть сердца красотой голоса – и уже нет ничего прекраснее. «Косыв Ясь конюшину», «Летняя ночка купальная», «Белоруссия»… Это свет звезды. А они – уже боги!
Тогда мы жили предчувствиями всего этого – истин о человеке, встреч, песен и счастья от них.
Книги эти попадали в наши руки от местных книжников и уже были изрядно потрепаны, зачитаны до прозрачных уголков, что, казалось, только прибавляло им ценности. Чудные романы, такие светлые и идеалистичные, какими и могли быть только книги советского периода, человеколюбивого и оптимистичного по природе! А главное – каким языком они были написаны! Лучистым и благоуханным украинским языком, которым хотелось владеть и который должен был бы развиться и утвердиться в литературе. А сам автор нам представлялся похожим на своих героев – светлым прекрасным юношей, бесстрашным и пытливым. Я восторгалась им, его же стилем писала свои сочинения на выпускных и вступительных экзаменах, неизменно получая за них пятерки. Но нет, сейчас на смену ему пришел чудовищный галицкий суржик, сознательно изуродованный американизмами с одной целью – чтобы он был не похожим на другие восточнославянские диалекты. Одним словом, современным украинским писателям тот язык и не снился, увы.
Из ранней советской фантастики я еще успела прочитать книги И. Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час быка», «Чаша Амріти» О. Бердника и «Чарівний бумеранг» М. Руденко, кстати, последним увлеклась так, что тогда же хотела перевести на русский язык, но тут мое студенчество окончилось, а с ним и вольница. Дальше пришлось работать, и у меня не то что на переводы, на чтение времени почти не осталось, надо было штудировать совсем другие книги – по профессии.
Не уводили романы молодой советской фантастики от жизни, а готовили к ней, чтобы сердца наши были чистыми, души – умными, руки – умелыми, чтобы мы умели мечтать и мечты превращать в дела. А условия для этого были.
Не скажу, что мы с мужем мало читали в зрелой жизни – просто меньше, чем в юности. И чтение наше немного изменилось – теперь его основу составляли не приключения и романтические сказки, а серьезная классическая литература социалистического реализма, в основном из толстых художественных журналов.
Правда, когда я ушла из науки, где мой рабочий день и час были ненормированными, и перестала употреблять свободное время на нужды технического творчества, то опять читала больше, но и все же к юношеским жанрам возвращалась редко. Помню последние, нормальные еще доперестроечные книги, которые были прочитаны. Среди них роман И. Шамякина «Атланты и кариатиды» о жизни советской интеллигенции, о судьбе, работе, проблемах семейной жизни главного архитектора крупного города Максима Карнача. По этой книге был снят фильм. Запомнились книги И. Герасимова «Пешие и конные» с типичными производственными проблемами, А. Рекемчука «Тридцать шесть и шесть», герой которой, Алексей Рыжов, уехал на студенческую практику на Печору изучать фольклор, а потом залюбовался краем и остался там на много лет – романтика. С удовольствием воспринимались «Пешие прогулки» Р. Мир-Хайдарова, даже неплохо написанное нарождающееся чтиво про теневую советскую экономику, где вспоминаются Гдлян и Иванов и ещё тот следователь, чьё интервью о расследовании убийства сотрудника КГБ в московском метро было напечатано в "Юности" в конце 80-х годов. Популярными были тогда книги С. Алексеева «Слово», «Крамола», «Рой».
Возврат к юношеским темам произошел после встречи с В. Головачевым, живую магию которого трудно было не ощутить. Он называл себя учеником Ивана Ефремова, совершенно безосновательно кстати, просто как теперь говорят – заманушничал, но все равно это толкнуло меня вернуться к произведениям прославленного мастера. Как раз тогда по заказу одного из издательств мы печатали книгу «Таис Афинская», и я перечитала ее, поразившись богатейшими сведениями из истории. Затем принялась искать других любимых авторов из своего детства и с радостью обнаружила необыкновенную плодовитость Олеся Бердника. Он успел написать много нового: «Вогняний вершник», «Лабіринт Мінотавра», «Зоряний корсар» и «Камертон Дажбога» – феерические сказки о красоте и высокости человеческого духа и силы воли, о божественности и великом предназначении человека.
Далеко шагнула фантастика за годы, в течение которых я не интересовалась ею. Книги самого виновника моих путешествий в прошлое В. Головачева тоже были насыщены и наукой и выдумкой, но казались лишенными романтической наивности, того альтруистического полета души и той необыкновенной легкости и красоты, которыми отличались книги О. Бердника. В них рассматривались проблемы, что тревожили нас, наше общество, а космос являлся лишь антуражем, привлекательным фоном, служащим одному – привлечению к ним читателей всех возрастов: от подростков до людей зрелых и мудрых.
Но продолжу рассказ об Олесе Берднике. За его жизненными перипетиями я, конечно, не следила и о его вольности в речах, расцененных как антисоветская деятельность, и о наказании за них не знала. Теперь же по роду деятельности я часто бывала среди издателей, а те, естественно, тесно сотрудничали с писателями, поэтому многое рассказывали такого, что тогда не публиковалось, что относилось к деталям их внутренней цеховой жизни. От сотрудников киевского издательства «Абрис» я узнала, что в последнее время Олесь Бердник переключился с фантастики на философские произведения, продолжающие традиции В. И. Вернадского. А в 1989 году и вовсе начудил: объявил о создании так называемой «Украинской Духовной республики», назначив себя ее президентом. Он даже выдвигал свою кандидатуру на Президентских выборах 1991 года на Украине, но занял предпоследнее место, и понял, что в большой политике ему делать нечего.
Значение этих сведений не очень тогда доходило до моего понимания.
Только после его смерти мне стало известно, что Олесь Бердник был ярым правозащитником. С конца 1976 г. наравне с Николаем Руденко и Львом Лукьяненко он являлся соучредителем украинской хельсинской группы. А позже прозрел и отошел от этих людей, покаялся в деяниях, нанесших урон его Родине. С тех пор, наоборот, старался загладить вину и принести больше настоящей пользы своему народу. В доказательство этого даже опубликовал покаянную статью в «Літературной Україне» (один из майских номеров 1984 г.) под названием «Вертаючись додому». В ней он писал буквально следующее: «Гельсінкський рух є творінням ЦРУ, а Руденко і Лук'яненко, якби в них була справжня мужність, давно зійшли б зі шляху антипатріотизму і добровільної самоізоляції».
Этот шаг, тем более совершенный в период, когда подступала перестройка и поднимали головы силы, жаждущие реванша за поражение в Великой Отечественной войне, свидетельствовал о настоящей, искренней переоценке ценностей настрадавшимся человеком, в преклонных годах переставшим бояться и решившимся на бунт против тех, кто поломал ему жизнь, долгие годы принуждая вредить своей стране. Так по крайней мере я это поняла, зная по рассказам старших земляков, как во время оккупации немецкие спецслужбы вербовали и затаскивали в шпионские сети наших подростков. Долгие десятилетия эти мальчишки, а потом мужчины, жили двойной жизнью. И не все из них могли позволить себе бунтовать и разоблачать поработителей душ, боясь как их, так и опасаясь своих.
Позже, после нашей оранжевой революции, в журналистику ринется Мирослава Бердник, старшая дочь Олеся Павловича, и постарается отмежевать своего отца от тех, кто пришел к власти на волне агрессивных перемен, постарается обелить его имя, рассказать правду об украинских националистах. Она назовет всех, служивших разрушительной идее, пешками в чужой игре и скажет вслух то, что давным-давно было понятно каждому здравомыслящему человеку, не чуждающемуся культуры: «история украинского националистического движения – это, главным образом, история обслуживания чужих геополитических интересов».
Мне же это стало понятно еще в начале 70-х годов после услышанных и навсегда запомнившихся рассказов жителей Костополя. Тогда мы жили там – когда Юра служил в армии. Так вот костопольчане много вспоминали о бандеровцах, говорили, чем те занимались на самом деле: сжигали женщин и детей, распиливали людей пилами, снимали с них кожу... Был в этих рассказах и следующий сюжет. Бандеровцы пришли к жене партизана, вытащили ее на улицу и убили на глазах у дочери-подростка. А потом заставили девочку закапывать изуродованный труп матери, над которым долго глумились. Ну, как таких нелюдей можно считать героями?
О том, что мой любимый писатель, проповедующий в творчестве идеи познания и всестороннего развития личности, был политически заблудшим человеком, совершил отнюдь не простую ошибку и многие годы служил пособником бешеного зверья, я узнала с сожалением и ужаснусь настолько, что засомневалась в искренности его покаяния. Спросить у него я уже не могла, и мне пришлось самой барахтаться в страшном наплыве противоречий и восстанавливать прежнее отношение к нему. Много я думала о его роли в том, что сегодня происходит с Украиной, трудно постигала пройденные им тернии, вспоминала наши встречи и беседы. И если бы не они, не последние его исповеди и наставления о творчестве, не совет уезжать с Украины, то не знаю, смогла ли бы я поверить ему до конца. Теперь шаг Олеся Бердника в сторону от прежних единомышленников видится мне без фальши, вызывает уважение и сочувствие, как акт мужества.
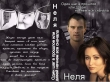
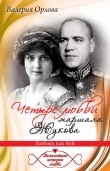

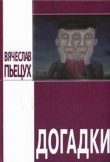
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)