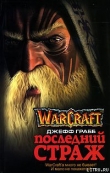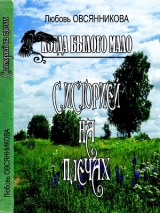
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
А случилось наше с ним близкое знакомство так. Шла весна 1996 года – во всем умеренная, приятная. Однажды мне позвонил В. Головачев, года за три до этого уехавший на постоянное жительство в Россию, и предложил сделать для издательства ЭКСМО перевод на русский язык книг О. Бердника «Зоряний корсар» и «Камертон Дажбога». Я, конечно, согласилась. Тогда он соединил меня с Олесем Павловичем по телефону, представил друг другу и организовал встречу. Я поспешила в Киев договариваться о сотрудничестве.
Найти «Украинскую Духовную республику», где мне была назначена встреча Олесем Павловичем, оказалось нетрудно – она располагалась на улице Прорезной, чуть выше Крещатика, за зданием, в котором сейчас поселилось Госкомтелерадио Украины. Тогда владельцем здания был то ли профсоюз, то ли кто-то другой, имеющий отношение к железной дороге. Само здание, облицованное плитами из желтого камня, было монументальным, впечатляющим. Выстроенное в сталинском стиле, оно имело не много этажей, три-четыре, но это не снижало его внушительности. Офис, который я искала, находился на втором этаже. Позже оказалось, что он состоял из двух смежных комнат – общей приемной, просторной и больше похожей на колхозный красный уголок, и кабинета Олеся Павловича, чуть меньшего по площади, но столь же неуютного, какого-то казенного по виду.
Еще на подходе к этим комнатам дорогу мне преградила толпа женщин фанатичного вида и нервозного состояния, подозрительно похожих между собой, как бывают похожи люди с одинаковым диагнозом. Нервозность их проявлялась в преувеличенном благоговении перед этим местом и его обитателем. Причем благоговение так томило их, что не вмещалось внутри, и они упоенно демонстрировалось его перед приходящими чужаками, коих узнавали по виду. Заодно женщины и сами им бесстыже упивались. Короче, это были кликуши и сотворяли они вокруг Олеся Павловича какой-то цирк. Тут же в коридоре над входом висели странные изображения православного толка, где узнавался Христос в облике Олеся Павловича, обряженного в украинскую вышиванку, или наоборот – Олесь Павлович в украинской вышиванке был изображен Христом.
Не без удивления и внутренней дрожи я прошла сквозь эту толпу со словами «Мне назначено время», не обращая внимания на гул негодования, и тогда уж попала в описанную выше приемную. После коридорной прелюдии можно было бы не удивляться новым иконам с изображением Олеся Павловича, развешанным здесь по стенам, если бы повсеместные рушники с народными вышивками крестом не украшали не только их, но и снопы зрелой пшеницы, огромные караваи хлеба, засушенные ветки калины, и не создавали впечатления агрессивной чрезмерности этого мотива. По углам стояли еще какие-то декоративные бочки, деревянные трезубцы, перначи, чучела птиц – и все это было перевито крестами на белом полотне, словно стреноженное или перевязанное после ранений.
Олеся Павловича еще не было, хотя назначенный час уже настал, ничего не поделаешь – город есть город, тут рассчитать время до точности не получается. Это ж не из кабинета в кабинет перейти, как в царских палатах или королевских дворцах.
Более нормальные помощницы Бердника пригласили меня присесть и подождать. Осматривать комнату я принялась не просто так, а пыталась понять символическое значение каждой вещи – не самой по себе, а в сочетании со сверхидеей, которую тут проповедовали. Но у меня одно не стыковывалось с другим, коль и трезубец здесь присутствовал отнюдь не в качестве герба державы. Если он символизирует гром, молнию и три языка пламени как атрибут всех небесных, громовых богов и богов бури, то причем тут православие и намеки на Христа в образе президента «Украинской Духовной республики» или наоборот? А может, это эмблема всех водных богов, силы и плодородия вод? Тогда причем тут Украина – степная страна? То же самое можно сказать и о намеке на прошлое, настоящее и будущее: если тут полагают, что в трезубце заключен чисто научный смысл, тайна времени, то зачем так много крестов в вышивке, ведь есть и полтавская гладь, кстати, неизмеримо красочнее и наряднее? Или представленные предметы надо рассматривать не во взаимосвязи с идеей, а только друг с другом? Может, надо посмотреть, какой дух они создают все вместе, и отсюда подходить к основной идее нового учения Олеся Павловича?
Я как раз вспомнила, что на языке символов бочка означает, с одной стороны, женский, воспринимающий и заключающий в себя принцип, а с другой, – бессмысленную и зря проделанную работу, когда в комнату широким шагом вошел Олесь Павлович. Высокий, стройный, с красивым лицом, обрамленным длинными седыми волосами, в меру энергичный, он производил впечатление патриарха. Да и одет был соответствующе – мягкие брюки, длинная рубаха, подпоясанная кушаком. При ближайшем же рассмотрении обнаруживалась асимметрия его сути, как известно, только добавляющая красоты вещам мира. Заключалась она в разной скорости существования души и плоти. Внешняя бодрость, твердая походка, размашистые жесты, деятельный настрой свидетельствовали о мобильности и натренированности тела, и если не о его хорошей физической форме, то определенно о привычке к движению. В то время как тихий мягкий голос и, главное, пристальный взгляд выдавали утомленную зрелость души, граничащую с равнодушием безмятежность восприятий, неторопливое течение мысли человека устоявшихся убеждений. Душа его больше не жила вскачь, не летела, а тихо доживала свой век, хотя и не стремилась покинуть плоть и занять отведенное ей место в мироздании. Олесь Павлович, оставаясь среди людей, почти индифферентно посматривал на них с высоты своих прозрений, как челн, прибитый к берегу, может смотреть на суда, сражающиеся с морскими бурями.
– Пойдемте, – приветливо кивнул он мне и, не сбавляя шагу, прошел в кабинет. За ним, приседая и кланяясь, как божеству, устремились тетушки из коридора: – Подождите, я занят, – сказал он им.
Сбитая с толку этой обстановкой и странным отношением подозрительных поклонниц к Олесю Павловичу, я только поздоровалась и добавила:
– Я к вам от Головачева, – хотя ясно же было, что он понял, кто я и зачем здесь.
– Василий Васильевич звонил мне вчера вечером, говорил о вас, – он сел, вздохнул и ласково посмотрел на меня: – Вы хоть читали-то мои книги?
– Конечно! – я оживилась. – Причем еще в детстве, по мере их выхода. Я давняя ваша поклонница. И мне хочется сделать такой перевод ваших книг, чтобы они непременно были изданы.
– Не горячитесь, – Олесь Павлович мягко улыбнулся и положил красивую узкую ладонь на стол, словно прихлопнул там что-то: – Никогда не желайте слишком рьяно. Как правило, это не помогает. Если чему-то суждено сбыться, оно все равно сбудется. А если не суждено, то хоть в лепешку разбейтесь, – не поможет.
– Но ведь и от нас что-то зависит.
– Да, конечно. Надо сделать нужную работу в срок и качественно – вот что от нас зависит. Сколько вам времени отпущено?
– Два месяца.
– Успеете?
– Постараюсь.
– Тогда вперед, – сказал Олесь Павлович.
Поскольку между нами не могло быть денежных операций, то договор заключать не требовалось. Достаточно было знакомства, беседы и письма, удостоверяющего согласие Олеся Павловича, чтобы я выполнила перевод его произведений – но это так, чисто из этических соображений. По сути и этого не требовалось, ибо никто не мог запретить сделать то, за что я собиралась взяться. Это было уведомление о намерениях, не больше. По завершении я привезу свою работу сюда на прочтение и утверждение, далее, если она понравится автору, отвезу в Москву. В случае благоприятного исхода мы, каждый со своей стороны, подпишем договоры с издательством. Письменное согласие для меня Олесь Павлович заготовил заранее и подал уже подписанным. Он проводил меня до выхода и, когда я оглянулась на толпящихся женщин, шепнул: «Не обращайте внимания». Так я и не поняла роли этой свиты и его отношения к ней.
Я уходила от него с ощущением, что побывала в некоей иллюзорной реальности, условной, где все иное по форме и смыслу, к тому же – бутафорски иное. Словно постояла за кулисами придуманного театра, где со мной в виде исключения говорили человеческим, вменяемым языком. А после моего ухода последовательность и логика событий опять нарушатся, отношения между людьми превратятся в неузнаваемо отличные от обычных. Тут развернутся мистерии, на которые так горазд был их искусный выдумщик, – с другими ценностями, целями, методами достижения и действующими лицами. Но кому это нужно было и зачем? Каких истин искали тут провинциальные тетки то ли набожные, то ли траченные судьбой, чего хотели от мудрого старца? Неужели актерской игры, на которую он был профессионально пригоден, и убеждения под гипнозом, что все прекрасно и нет проблем? А чего хотел от них он или что стремился дать им? Неужели утешение?
В ходе работы я несколько раз звонила Олесю Павловичу, уточняя смысл стихов, содержащихся в тексте, заодно кусками зачитывала переводы особенно трудных мест.
Завершенный перевод я отдала ему 18 июля 1996 года, в четверг, а забрала в понедельник. Олесь Павлович пожелал мне счастливой поездки к издателям и опять предупредил, чтобы я не нервничала:
– Просто надо делать свое дело, об остальном позаботится провидение, – сказал он, повторяя сказанное раннее, и этому хотелось верить. Все же легче жить, если есть такой помощник, как провидение.
– Скажите, – я замялась, – у меня нет опыта...
– Говорите без стеснения.
– Рукопись надо оставлять в издательстве под расписку? Или можно под честное слово?
– Как я понимаю, ее будет читать и рекомендовать к изданию Василий Васильевич, – Олесь Павлович сдвинул плечом. – Ну что – брать с него расписку, с друга? Мне кажется, это лишнее.
Однако беспокоить Василия Васильевича я не решилась и оставила рукопись у Олега Новикова, директора издательства ЭКСМО, которого знала еще с тех времен, когда он с Андреем Гредасовым только начинал заниматься продажей московских книг на периферии. Эти книги попадали и ко мне, а я их распространяла по региону.
Что у них там не состоялось, что переиначилось, перепланировалось, не знаю. Мне этого никогда никто не объяснил. Но издание книг задерживалось, сроки отодвигались, и скоро я почувствовала ложь и фальшь в ответах издательских работников на свои звонки. Невольно возникло подозрение, что переведенные мною книги изданы не будут. Когда по уклончивым ответам Головачева на просьбу разъяснить ситуацию я это поняла окончательно, то опять поехала в Киев, чтобы с Олесем Павловичем поделиться предчувствиями о неудаче. Мне было жалко его и неудобно перед ним, словно я что-то сделала не так. О себе я не думала. А получилось наоборот – он вел себя так, словно ждал именно такого итога, и утешал меня, поддерживал, снова учил сохранять спокойствие и достоинство в любой ситуации.
Не смею обвинять Олеся Павловича в предумышленном сговоре. Возможно, он был возмущен случившимся, но не имел власти вмешаться и исправить положение. Дело в том, что к моменту моего второго приезда он уже получил гонорар и знал, что книги благополучно изданы. И, конечно, не мог не обратить внимание, что вместо меня переводчиком числился кто-то другой, скорее всего, вымышленное лицо. В такой ситуации любому стало бы понятно, что меня в чистом виде кинули, использовали втемную, получив от меня отличный, авторизованный – то есть одобренный автором – перевод и сэкономив при этом на гонораре. Понимал это и Олесь Павлович – бывалый человек, прошедший не такие испытания. Просто он знал, что это не смертельная обида. Для меня же она будет наукой. Только не ясно, зачем он научил меня сдать перевод издательству без расписки, как бы приватно...
Теперь я понимаю, что к моменту нашего знакомства им все уже было пройдено и все познано, земной путь завершен и чаша горестей испита до дна. Он вступил в другую полосу жития – внеземную, парящую над людьми, науками и событиями. Он постиг такие тайны и закономерности человеческих отношений, которых бы лучше не открывать никогда, и говорить о них тем, кто еще не дошел до своих вершин, было нельзя. Поэтому глаза его и светились мягкой приветливой снисходительностью, граничащей с жалостью за неведение, а уста молчали.
Меня поражали эти глаза. Их ореховый цвет утемнялся глубиной скрытых от прочтения мыслей, нетрудно сдерживаемой улыбки и не столько усталости от чужой жажды жизни, сколько от своего терпения к ней – а то и зависти. Ведь никогда причал не бывает столь же притягателен, как путь к нему – Олесю Павловичу хотелось бы нового пути, чтобы еще чего-то не знать и только ждать новых полыней от степей, ветров и людей. Но он не обманывался, ведал – тот путь, что прошел он, дается лишь раз. Повторить ничего нельзя. Любая попытка повторения – это признание краха и сам крах.
– Добро и истина без нас победят, – поучал он меня, – за них не надо воевать с другими, бороться с обстоятельствами и сражаться с врагом, но им надо содействовать: добро делать, а истину познавать. То же самое, что с деревом, – его надо посадить, а плоды оно само принесет.
– Без борьбы ничего не случается, – зачем-то мягко возражала я, спор есть спор.
– Человеческая борьба за то, что от него не зависит, за данности мира – это гордыня, ведь никто не боролся за возникновение жизни на земле, а она возникла. Бороться надо не за то, что вне нас, а за себя, за право счастливо жить на земле. Тогда сам человек не пропадет и общему делу не навредит. Мы только проводники, накопители потенциала, а сражение ведут высшие силы. Ошибка людей в том, что они этого не понимают.
– Это звучит общё и не воспринимается, словно представляет собой некую схоластику. А люди живут в конкретных обстоятельствах, им нужны советы, как в тех обстоятельствах ориентироваться и поступать, как выживать, – и я рассказала Олесю Павловичу свою личную историю об отношениях с типографией, как мне плохо без работы и коллектива, как трудно без денег, как нравственно неуютно за дурные поступки других. Я говорила коротко, а он, видя это, слушал вдумчиво, не перебивал. В итоге я призналась: – Мне не хочется так страдать, но я не знаю, куда пойти и за что взяться, чтобы изменить положение, избавиться от боли.
– А вы уже пошли, – сказал он. – Не заметили? Ваш путь лежит в литературу. И я вам желаю успеха.
– Вы верите, что у меня получится?
– Я заверил своей подписью ваш перевод. Разве это не есть мое благословение вас в литературу? Но, – Олесь Павлович посмотрел поверх моей головы, куда-то в окно, где негромко гудела улица Прорезная, старейшая в Киеве, неся свои потоки к Крещатику, – уцелеет ли сама литература в том виде, как мы ее понимаем, как мы ее делали, вот вопрос. Вы должны присматриваться.
– К чему? – спросила я почти шепотом от густой тайны его слов, от непонятных смыслов этого мгновения, в которые страшно было вторгаться с непониманием.
– К событиям, к происходящему в мире и здесь, в Украине, – и на меня с особой многозначительностью устремился взгляд мудреца. Но тогда я только слушала и запоминала, а поняла эти слова не скоро, в конце 2004 года. Он же продолжал говорить странные вещи: – С Украиной покончено, ее больше нет, скоро здесь будет военный плац. Ведь Чернобыль случился не зря. Если у вас есть возможность уехать отсюда – уезжайте немедленно. Украинскую литературу можно спасти, только если спасти ее носителей. А ваш украинский язык хорош – органичный, значит, истинный.
– Однако я лучше знаю русский. Так на каком же языке мне писать?
– На русском, безусловно. Для украинского сейчас вообще не время. Но сохранить его надо, и вы – его исток и источник. Не поддавайтесь ни на какие провокации.
– Мне некуда ехать.
– Не знаю, – он подошел к окну, теребя завязку у ворота вышиванки, словно нервничал. – Просите Головачева, пусть поможет перебраться в Москву. Он же ваш друг.
– Надеюсь, друг. Попробую, коли вы советуете.
– Прошу, – со значением уточнил Олесь Павлович, обернувшись ко мне. – Очень прошу сохранить себя, – однако улыбки на его лице не было, была озабоченность.
В какое-то из моих посещений «Украинской Духовной республики» к Олесю Павловичу зашла Громовица, его младшая дочь – миниатюрная и улыбчивая девушка. Он познакомил нас, но тогда мы не успели поговорить, да, собственно, и не о чем было. Более близко мы общались весной 2004 года на Харьковской книжной ярмарке, там у нее был свой павильон, работа, знакомая мне, а главное гость – Василий Васильевич. И мы славно посидели втроем за бутылкой шампанского. Ярмарка – это всегда праздник души, поэтому об огорчительном не вспоминали.
Не многое осуществилось из того, что тогда намечалось, – и Головачев оказался не столько другом, сколько наоборот, и я, много болея, не смогла писать так плодотворно, как хотелось, как надо было, но предсказания Олеся Павловича об Украине сбылись. Теперь это очевидно и еще раз доказывает, что он знал о неблагоприятных тенденциях будущих событий. Знал, кто подпитывает и дирижирует их течением, и имел мужество предупреждать людей о грядущей катастрофе.
Я ощущаю особенную значительность того, что общалась и работала с писателем, любимым с тех времен, когда чтение его книг прививалось мне отцом, словно он перекинул мостик между этапами моей жизни или просто прошел по ней рядом со мной. Он своими дивными книгами, написанными сказочно прекрасным языком, влиял на мое мировосприятие до самой зрелой поры. Конечно, я сказала ему об этом и тотчас же почувствовала, какое это большое счастье – успеть поблагодарить человека, формировавшего тебя, и зажечь в его глазах огоньки веры, что он прожил не зря. Пусть не состоялось наше общее дело, пусть я немножко подглядела его человеческие слабости, зато редкий шанс – вовремя воздать должное учителю за то, что останется бессмертным, – мне выпал.
Преданность Родине
Продолжалась глубокая осень 2008 года, неприветливая пора, время длинных ночей, когда я начала искать его в Интернете. Искала и не находила. Ничего о нем там не было, абсолютно. Жил человек, писал прекрасные светлые стихи, издавался, мы его знали-читали, и вот пропал…
Никакие мои ухищрения к успеху не приводили, никакие запросы и поиски не выбрасывали нужного материала. Ни Союз писателей, ни журналы, ни издательства еще не давали полной информации о себе, все было обозначено так скупо, что даже не верится, как это могло быть еще так недавно. Но хоть телефоны указывали. И я по ним звонила, но безуспешно…
В отчаянии я вышла на сайт «Литературной газеты», нашла электронный адрес, написала письмо с изложением просьбы – ищу, мол, телефон Владимира Ивановича Фирсова, хочу поблагодарить его за участие в моей жизни, помогите. И через день мне прислали его домашний телефон. Господи, есть же еще нормальные люди на свете!
Спасибо вам, мои дорогие нормальные люди, мои братья по мировоззрению, моя духовная родня!
А началось все давно… еще в 1964 году.
***

Сентябрь, начало учебного года, мой выпускной 11-й класс. Парту я снова делила с Раей Иващенко, подругой, влившейся к нам в 9-м классе. И не просто так, а пришедшей после долгой восьмилетней болезни, после нахождения по больницам-санаториям, после неподвижного лежания в гипсе, без нормального обучения и общения со сверстниками. Естественно, такое долгое лечение проходило не в сельской больнице, а в городской, где любое окружение говорило только на русском языке. Рая знала его, этот изысканный и остающийся немного выше нас, лучащийся прекрасными бликами язык, владела им, говорила на нем в быту и поначалу на нем отвечала уроки. Это делало ее дополнительно ко всему остальному не похожей на нас.
Естественно, не имея возможности посещать нормальную школу, набираясь знаний посредством самообразования под руководством приходящих консультантов, Рая мало и плохо разбиралась в предметах. Третий год она училась так себе – с безуспешной прилежностью. Особенно ей не давались точные науки, с геометрией во главе. Будучи не без хитрости, она клонила и перегибала палку в свою сторону и для этого напирала на знание литературы и в частности стихов, чем пыталась пленить и нас, сельскую ребятню, и одинокую учительницу русской литературы, тающую от поэзии, и даже блеснуть со сцены на праздничных концертах. Самым удачным итогом этой ее задумки оказалось влияние на учительницу, которая с сердечной искренностью закрепила за Раей славу любительницы литературы, странноватой девочки с гуманитарными наклонностями. Рае с охапкой сознательных усилий приходилось поддерживать этот имидж. Кажется, она вошла в роль и даже мальчишкам иногда нашептывала по паре волнительных строк из расхожей любовной лирики.
Честно сказать, к тому времени я любила поэзию, даже понимала ее, но, как говорят теперь, относилась к ней без фанатизма. А значит, не коллекционировала понравившееся, мало знала помимо школьной программы, почти не знала известных поэтов, не собирала сборники, не делала записей. Я уже тяжело переболела Пушкиным и относилась с прохладцей к любым переизбыткам и пристрастиям. Но беды свои знала только я. Для остальных же оставалась той, что знала наизусть почти всего «Евгения Онегина», и эта история наложила на меня печать отрешенной интеллектуалки со стихами в мозгах, как блажью, окутанной флером романтики и лирики. Именно блажью – потому что, по единодушному мнению учителей, основная моя одаренность сосредотачивалось на математике и разбрасываться мне не стоило. Мне было все равно кем слыть: любительницей стихов с математическим умом или лириком со знанием логики и формул – в обоих мирах мне было комфортно.
На одном из уроков Рая толкнула меня в левый бок, призывая отвлечься, и молча показала книгу, покоящуюся в лежащих на коленях руках. «Владимир Фирсов. Преданность» – прочитала я на твердой крышке светлого матерчатого переплета.
Оформление книги было скромное и лаконичное, но в двух его пятиконечных звездах с пересекающимися трассами, выделенных красным цветом, скрывалось многое. Мной лично в том прочитывались патриотичность, мужество, праведная борьба и любовь, яркая-яркая и сокровенность двух живых сердец, из плоти и крови. Конечно, это были стихи.
Я потянулась, чтобы раскрыть книжицу и увидеть текст, но Рая оттолкнула мою руку, отвернула верхнюю крышку и показала на форзац, где косо обозначилась дарственная надпись. Не помню ее дословно, но из нее следовало, что книгу эту дарит Раисе ее преданный воздыхатель Леонид Замримуха. И подпись с датой. Ого! Во-первых, дата стояла летняя, значит, каникулярная, когда и Рая и Леонид гуляли по оврагам своего удаленного от поселений хуторка и предавались нежностям. Во-вторых, Леонид – он окончил нашу школу несколько лет назад и сейчас был студентом выпускного курса механико-математического факультета Днепропетровского университета. Ему понравилась Рая?! То, что он Рае понравился, это было естественно, он же умный. А вот, что Рая ему, такая далекая по духу и складу его ума… Это было странно. Да и сама Рая, видимо, этому удивлялась, потому что откровенно гордилась возникшими симпатиями и подарком как их доказательством.
Конечно, это оказались стихи. Да какие!
Я тут же, на уроке, воткнулась в них и не могла оторваться. Завороженно читала:
……………………
И сквозит
В неприкрытые двери
Августовская звездная тишь.
Звезды падают в рожь.
И сосна
Ловит поздние тихие звуки.
……………………
А потом еще:
Крыло зари
Смахнуло темноту.
И небо стало чище и яснее…
И следующее:
Прохладный запах розовой сирени
Уводит в мир, далекий от стихов…
Я прислонюсь
К теплу твоих коленей
И не проснусь
До первых петухов.
Рая, видя бросаемые на нашу парту взгляды учителя, пыталась забрать у меня сборник стихов. А я как раз дошла до строк:
……………………
И еще немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но святей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
С этим чувством человек рождается,
С ним живет и умирает с ним.
Все пройдет, а Родина —
Останется,
Если мы то чувство сохраним.
и уже ни в какую не хотела расставаться с этим поэтом.
Скользнув еще раз глазами по строкам:
Боль России со мною…
Не беда, что сейчас
Журавли далеко улетели
От нас – возвратятся весною,
я отдала сборник его владелице, взяв с нее слово, дать мне его на перемене. Она обещала.
Наверное, и домой она мне его дала, но ненадолго. Вот помнится стойко, что она боялась потерять его, но все равно у меня оказались переписанными некоторые стихи оттуда.
Закончился этот учебный год, и я сама стала студенткой того же факультета, на котором учился Леонид Замримуха, только его уже в стенах университета не было – он уехал в Дубну, что за Москвой, получив распределение в один из закрытых конструкторских бюро. Так до сих пор там и работает.
Попав в город, я первым делом протоптала дорожку в книжный магазин, а там ни одной книги любимого поэта не пропускала. Есть у меня:
«Библиотечка избранной лирики» (издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1967), подаренный будущим мужем с надписью дорогим почерком: «Любе Николенко, 16.10.67 г.»;
«Два солнца» (с предисл. Василия Фёдорова, «Художественная литература», 1973);
«Солнечные колодцы» («Московский рабочий», 1969) с моей надписью: «Юра приедет из Сибири через день. Жду! 30.08.1969 г.». Кстати, мы поженились в этом же году, причем 26 апреля – на день рождения Владимира Ивановича. Так совпало, но совпадения – штука мистическая… И наши отношения с мужем до сих пор окутаны флером первых стихов Владимира Ивановича о любви. И так уже и пребудут с нами до конца и «прохладный запах розовой сирени», и «августовская звездная тишь», и крыло зари, что смахнуло темноту, и многое-многое другое, открытое им и переданное людям…
Навсегда воспитал во мне этот удивительный поэт свои ценности, словно передал в наследство преданность дорогому и высокому: пронзительную и растущую с годами нежность к избраннику, верную любовь к родителям, неизменную приверженность Родине. Это ему я благодарна за то, что не погрязла в быту, что горизонты моих интересов распахнуты во все стороны, что на все вопросы есть у меня свое мнение, за которое приходилось страдать и быть преследуемой черными силами. Тяжело мне жилось с таким мировоззрением, но без этого я не стала бы человеком и гражданином, не полюбила бы людей и мир наш сложный, не поняла бы Бога.
Он очень просто говорил о высших ценностях:
Вечно будет с тобой
Земля, на которой ты вырос.
…………………………
Русь!
Великая боль
Мне скрутила тяжелые руки.
Я сливаюсь с тобой,
Принимаю несметные муки.
Сколько бед за спиной,
Что сумел я с тобою осилить!
Русь!
Ты стала страной,
Стала вечно великой Россией.
Но простота эта словно вступила в резонанс с вибрацией клеток, с ритмом сердца, и внесла в плоть мою навсегда понимание вечных истин, неистребимое стремление к прекрасному, рожденному духом человеческим.
Стихи Владимира Фирсова можно цитировать без конца…
***
Узнав его еще в школьные годы, я уже не забывала о нем. Так и прошел он и его стихи в затертых, зачитанных сборниках со мной по всем дорогам, по переменчивым судьбам, по разным квартирам, где мне довелось живать. Нет-нет, да и возьму один из сборников, чтобы почитать перед сном, вспомнить юность рассветную, когда встретила своего Юрочку, когда засыпала его этими строками, а потом еще читала и Василия Федорова, и Ольгу Фокину, и Светлану Кузнецову…
И такое однажды нахлынуло на меня настроение… Подумалось, вот ведь где-то живет человек, так безмерно много сделавший для меня, по сути – сделавший меня всю: с судьбой, с любовью и профессией, – и не знает о том, как я ему благодарна и как высоко ценю его. Разве это справедливо? И без меня никто ему этого не скажет. А ему было бы интересно, даже полезно узнать и убедиться, что не зря он жил на земле, мучился и творил, что есть люди, впитавшие в себя каждую написанную им строку, его неистовую нежность к любимой, его исступленную верность Родине своей. Есть люди с отлаженной им душой, такая близкая его родня во всем человеческом, высшая родня, о которой все время говорил Христос. Это бы поддержало его, наверное.
Тогда я и начала его искать в Интернете. И нашла его телефон.
Выбрав время, настроилась на торжественный лад и позвонила.
Трубку взяла женщина, жена, наверное. Я представилась, мол, читатель-почитатель с младых ногтей, воспитавшаяся на стихах Владимира Ивановича, на его нравственности, на склоне лет хочу поблагодарить его за это.
– Сейчас я позову его, – сказала она заметно взволновавшимся голосом, – он тут приболел.
В трубке послышались медленные шаги, дыхание. Откликнулся голос… явно надломленный болезнью, сиплый, стишенный. Я поздоровалась и назвала себя, свой адрес, кем работала. Затем продолжила:
– Только не волнуйтесь, дорогой Владимир Иванович, мой звонок из приятных. Я хочу поблагодарить вас за добрый след в моей жизни. Можно сказать несколько фраз?
– Ой подождите, – перебил меня Владимир Иванович, – я сына позову, пусть и он послушает, – и, отвернувшись от трубки, закричал: – Николай, Коля, иди послушай, что о твоем отце скажут! – Кажется, он и жену позвал, затем через минуту спросил в трубку: – Вы тут?
– Конечно.
– Теперь мы вас слушаем.
И я начала говорить о том, как ко мне впервые попал его сборник «Преданность», как я очаровалась и прониклась стихами из него, очень близкими мне. С тех пор его, Владимира Ивановича, одухотворенное слово вошло в мою душу навсегда. Я следила за его творческом. И где бы ни была, первым делом мчалась в книжные магазины искать его новые сборники. Они есть у меня почти все. Многие стихи я знаю наизусть. Под их влиянием я сформировалась как человек своей земли. Этические установки любимого поэта определяли мои приоритеты, направляли меня, руководили поступками, учили быть настойчивой и последовательной, вдохновляли в радости, поддерживали в печалях. Я вкратце поведала о себе, подчеркнув, что в любых трудностях со мной оставался его лирический голос, возвращая меня в юность, мир его стихов, где я снова обретала силы.
Такое только и можно сказать по телефону, потому что в глаза не принято. Говорила коротко и четко, только по существу. Призналась, что читала его стихи своему соученику, за которого потом вышла замуж. Рассказала, кем стал мой муж, каких высот достиг, какой он замечательный. И снова подчеркивала, что, хоть мы математики, люди точных наук, но в наших отношениях вот уже без малого полвека живет дух его пронзительной любви и преданности, потому что мы созданы его мировоззрением. Мы – его детища. И я благодарила его за такой след, оставленный в нас, за подаренное счастье. Никто не оказал на нас с мужем большего воспитательного влияния чем он, Владимир Иванович Фирсов, великий сын России, поэт. И я нашла его, чтобы он услышал от меня лично слова признательности.
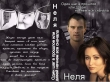
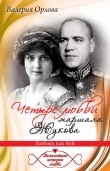

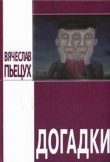
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)