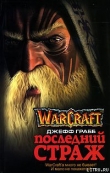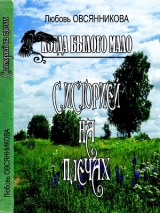
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Полагаю, во ВНИИмехчермете Олег Сергеевич появился по протекции отца – человека влиятельного в металлургической отрасли. Тут ему сразу же предоставили комнату в общежитии, а в течение года обеспечили однокомнатной квартирой, где он проживает по сию пору.
Мнения о нем я всегда была высокого. Это начитанный, всесторонне эрудированный эстет, правда, весьма скуповатый и почему-то одинокий, вернее, уклоняющийся от соблазнов. Он принципиально не брал в рот спиртного, как не пьет тот, кому нельзя срываться, и на каждом шагу подчеркивал приверженность здоровому образу жизни, походам в горы, катанию на лыжах, как это делает тот, кто достаточно погулял и дал обет больше не грешить против своего здоровья. Он был речистым собеседником, любил умную шутку, умел прекрасно острить с экскурсами в литературную классику. Особенно часто цитировал Швейка и Остапа Бендера. Во всех ситуациях проявлял интеллигентность и доброжелательность.
Из всей массы знакомых мне людей я бы его выделила по двум бесценным качествам: первое – это необыкновенная дипломатичность, умение в любом споре, в любом конфликте обходить острые углы и сохранять хорошие отношения; второе – высочайшая сила воли. Просто удивительно, почему при этом создавалось впечатление, что он не способен приносить пользу кому-то другому – близким, окружающим, обществу в целом. Конечно, я говорю только о его работе во ВНИИмехчермете, где он явно скучал и бездельничал, и нисколько не сомневаюсь в его прекрасных преподавательских способностях. И еще у меня осталось впечатление, что он, стремясь к высокому положению, к должности, не стремился к совершенствованию, повышению своего интеллектуального статуса. Он даже не пытался сделать достойную работу, чтобы защитить докторскую диссертацию, что было возможно, пока здравствовал его отец. Это было необъяснимой странностью. Казалось, Олег Сергеевич был из взявшихся за ум мажорных мальчиков, что он не самым умным образом воспользовался молодостью и положением семьи, в которой родился, растратил все свои преимущества по пустякам, а потом спохватился, да поздно.
Он увлекался красивыми избалованными женщинами, я многих из них знаю, однако жениться не собирался, так и остался холостым.
Участь Анатолия Михайловича, весельчака и человека широких жестов, более печальна. Он успешно пережил двух или трех директоров после того, как ушел на покой Николай Георгиевич, и продолжал работать на старой должности. Но в конце концов грянула перестройка, а с ней развал страны, крушение нашей мощи, упадок любой деятельности. Должность ученого секретаря упразднили, и Анатолий Михайлович оказался на улице. Как-то в 1997 году, вскоре после моего 50-летия, мы встретились на проспекте, и Анатолий Михайлович попросил у меня денег на сигареты. Я дала. А через небольшой промежуток времени он умер от сердечной недостаточности, вызванной похмельным синдромом. Как жаль, что мне об этом не сообщила его сестра, Лидия Михайловна, с которой на долгие годы меня свела судьба после ухода из института.
Чтобы завершить воспоминания о Николае Георгиевиче Гавриленко, добавлю, что если бы он не оставил директорский пост, то мне не пришлось бы мыкаться со своей диссертацией и потом, плюнув на все, уйти в другую отрасль. Так получилось, что его дело сначала попало в славные руки Виталия Антоновича Сацкого, но, увы, ненадолго. А от Сацкого – в почти случайные{6}. И он сам сожалел об этом, о чем говорил в последнюю нашу встречу.
Уход Николая Георгиевича с должности не был простым и вызван был еще более непростыми причинами – близилась перестройка, ее «прорабы» издалека готовили расправу с «красными директорами»…
А жизненный путь его был таким.
Николай Георгиевич Гавриленко, родившийся 12 мая 1910 года в Мариуполе, в поселке Волонтеровка, был старшим сыном в семье простого рабочего человека. Кроме него были еще сын и дочь. С мальчишеских лет он помогал родителям работать на приусадебном участке, где они выращивали фрукты и овощи. Кстати, любовь к земледелию, садоводству у него осталась на всю жизнь. Лозы, привитые им на старые кусты, давали на даче в Донецке и в Днепропетровске урожай раньше, чем в Мариуполе.
В семнадцать лет Николай Георгиевич поступил на завод им. Ильича чернорабочим. Вероятно, учился на рабфаке, получил среднее образование, так как в 1931 году был принят на первый курс Харьковского инженерно-строительного института. Проучившись на первом курсе, перевелся в Ленинградский политехнический институт на прокатное отделение. О причинах можно только гадать. Шел 1932 год, Украина и Харьков, в частности, находились в тисках голода. Может, это и вызвало необходимость перевестись в город на Неве? А может, возникло желание учиться металлургии? В ленинградском политехническом институте он на долгие годы подружился с однокурсником Фролом Козловым, будущим партийным и государственным деятелем, секретарем ЦК КПСС.
В 1936 году молодой инженер-прокатчик возвратился на родной завод, где получил направление в сортопрокатный цех. Как он работал? Ответ можно найти в книге Д. Н. Грушевского «Имени Ильича»: «Значительно перевыполняли план в сортопрокатном цехе смены молодых инженеров-комсомольцев Александра Гармашева и Николая Гавриленко».
Перед самой войной Николай Георгиевич был переведен в Горьковскую область на Кулебакский металлургический завод начальником сортопрокатного цеха. Предприятие как раз начало переходить на выпуск брони и сборку корпусов легких танков, и его знания тут очень пригодились. Но работать там пришлось недолго – началась Великая Отечественная война, и Николая Георгиевича направили на Магнитогорский металлургический комбинат, где он возглавил один из прокатных цехов.
На комбинате, с самого начала ориентированного на выпуск «гражданских» сортов металла, предстояло освоить выплавку броневых марок стали, а также прокатку броневого листа. Почему понадобился прокатчик именно с Мариупольского металлургического завода им. Ильича? Да потому, что производство броневого проката там было освоено еще с дореволюционных лет, и с тех пор постоянно и целенаправленно совершенствовалось. К этим работам был причастен и Николай Георгиевич Гавриленко. Персонал комбината был переведен на казарменное положение, в цехах работали и жили. Лишь изредка на очень короткое время разрешалось повидаться с семьей. Людмила Николаевна рассказывала, как она приняла своего отца за чужого дядю и расплакалась, когда он пришел домой, чтобы увидеть жену Галину Ивановну и дочь, а заодно и помыться. Людмиле было тогда чуть больше года.
Только в 1945 году Николай Георгиевич с семьей вернулся в Мариуполь. В биографических справках о нем значится: «В 1945-1949 годах – начальник броневого отдела, заместитель главного инженера Мариупольского металлургического завода». Совмещал ли он две должности или занимал последовательно – неизвестно. В любом случае обе они очень ответственны. За выдающиеся заслуги перед страной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1947 года коллектив Мариупольского завода им. Ильича был награжден орденом Ленина. Более пятисот рабочих и инженерно-технических работников предприятия удостоились правительственных наград. Среди других орденом Ленина был награжден и мой герой. Забегая вперед, скажу, что за самоотверженный труд на Магнитогорском металлургическом комбинате Николай Георгиевич был награжден орденом Красной Звезды, а в последующие годы двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», многочисленными медалями.
Рост по профессии продолжался, возлагаемая на Николая Георгиевича ответственность возрастала: 31 декабря 1949 года он сменил на посту А. Ф. Гармашева и стал директором завода. Смена руководства произошла не просто так, наряду с металлургическим производством новому директору предстояло развивать машиностроительные цехи. А 12 марта 1950 года Н. Г. Гавриленко был избран депутатом Верховного Совета СССР уже как директор Мариупольского машиностроительного завода. Такие были при социализме темпы.
В юбилейном издании «ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. 110 лет» перечислены объекты, введенные в эксплуатацию за время работы Николая Георгиевича Гавриленко на посту директора завода. Это трубоэлектросварочный стан-«650», стан спирально-шовных труб, толстолистовой стан «1250», доменная печь № 2, водогрязелечебница, освоена технология массового производства толстых листов для судостроения. Но самое главное – Николай Георгиевич обратился в вышестоящие инстанции с предложением реконструировать действующий завод и расширить его за счет строительства объектов второй очереди. В книге Ю. Я. Некрасовского «Огненное столетие. 1897-1987» приведена выдержка из воспоминаний Н. Г. Гавриленко. Вот она вкратце: “В 1954-56 гг. возникла необходимость увеличить производство чугуна, стали, проката и труб. Встал вопрос о возможности быстрого расширения их производства на действующих заводах, располагающих необходимым потенциалом: территориями, энергетическими ресурсами, кадрами. Таким заводом оказался Мариупольский завод им. Ильича. Учитывая это, а также наличие в Мариуполе мощных строительных организаций, правительство приняло решение немедленно приступить к проектированию и расширению завода. Немаловажную роль при этом сыграло отношение к заводу заместителя председателя Совмина СССР Ф. Р. Козлова». Николай Георгиевич скромно умолчал, что развитие завода было лично его идеей. Не каждому творцу доводится увидать осуществление своей мечты, Гавриленко свою – увидел. Он увидел на родном заводе аглофабрику, строй из пяти доменных печей, ново-мартеновский и кислородно-конвертерный цехи, слябинг, стан «1700», цех холодного проката.
В 1957 году Н. Г. Гавриленко был назначен первым заместителем Председателя Донецкого Совнархоза Украинской ССР. Работая на этом посту, он продолжал вносить вклад в развитие тяжелой индустрии Донбасса, не забывал и о родном заводе им. Ильича. После упразднения Совнархозов, в 1965 году, он был назначен первым заместителем министра черной металлургии Украинской ССР.
Затем этот всесторонний профессионал, накопивший богатейший практический опыт, ушел в науку, чтобы отдать свой багаж там. Николай Георгиевич создал в Днепропетровске Всесоюзный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт автоматизации черной металлургии (ВНИИмехчермет), который возглавил, завершив работу в министерстве. В этом учреждении он работал до выхода на заслуженный отдых в 1990 году.
Николай Георгиевич Гавриленко ушел из жизни 12 февраля 1999 года.
Ильмар Романович Клейс
Дорогу в Эстонию проложил Анатолий Михайлович, не без оглядки на экзотичность этой страны. Его диссертация, как позже и моя, касалась проблем износоустойчивости оборудования, и могла быть принята к защите только соответствующим ученым советом, а именно советом по специальности «Трение и износ машин и механизмов». Таких в Союзе было всего пять: в Киеве, Москве, Калинине (нынешняя Тверь), Таллине и в Новосибирске. Естественно, поступать в аспирантуру лучше было именно туда, где имелся ученый совет по избранному профилю.
Варианты перебирались приблизительно с такими соображениями: Новосибирск далеко, Калинин – захолустье; Киев вообще пустое место, он вроде и город, но по сути никакая не столица и ничем не лучше Днепропетровска; в Москве ученый совет локализовался при авиационном институте, что сразу отпугивало людей из металлургии необыкновенно высоким уровнем требований. Оставался Таллин, а в Таллине – профессор Клейс Ильмар Романович, заведующий кафедрой деталей машин политехнического института.
Это был солидный ученый, занимающийся вопросами измельчения материалов. Ученик известнейшего эстонского изобретателя Иоганеса Хинта, автора бесцементного бетона, совершившего переворот в производстве строительных материалов и порошковой металлургии, он стал естественным дополнением и партнером своего учителя. Правда, он также был другом и сотрудником его младшего брата Константина, но это мало принималось в расчет. В дальнейшем они вместе продолжали развивать эту тематику, ибо нуждались друг в друге. При этом роли распределились сообразно пристрастиям и талантам каждого: Хинт оставался инженером, а не ученым, а научное направление возглавил Клейс. Если Хинт создал КБ «Дезинтегратор» с огромной опытной базой, то Клейс – научную школу, первыми воспитанниками которой стали его сотрудники Ууэмыйс Хальянд Хендрихович и Куускманн Лембит Иоханнесович.
Вот сюда влился и Ступницкий Анатолий Михайлович, успешно защитившийся и ставший гордостью Ильмара Романовича – как-никак первый ученик на солнечной Украине. Вторым он привез в Таллин своего друга Митрофанова Константина Вячеславовича. Третьей стала я. После меня ездил Коваленко Игорь Иванович, один из заведующих лабораторией института, чтобы оформиться соискателем ученой степени кандидата технических наук, но Клейс его не взял ввиду незначительного научного задела по работе и бесперспективного возраста – Игорю Ивановичу было далеко за 50 лет.
Ну, наука – она везде наука, тема не наиболее занятная. Гораздо интереснее Эстония, которую я увидела впервые, сам Таллин.
Накануне я описала Клейсу, как выгляжу, и сообщила, каким рейсом прилетаю, а назавтра двинулась в путь. После довольно долгого перелета с пересадкой в Минске наш ЯК-40 опустился в ранние декабрьские сумерки Таллина. Красивый аэропорт, пропускник в зал вокзала с новейшей техникой, сканирующей сумки... чужая речь и в воздухе непривычные запахи – все особенное. Во всем чувствовалось, что я попала в иной мир, с немного другими законами. В зале вокзала меня ждали двое, представились: пониже, круглолицый, в мягком традиционном одеянии интеллигента, с легким тиком на лице – Клейс, а высокий, в спортивной куртке – Тадольдер Юри Августович, сотрудник Ильмара Романовича по институту, доцент. Оба очень плохо говорят по-русски, и я невольно усиливаю голос, поддаваясь интуитивному заблуждению: если тебя не понимают, значит, плохо слышат.
– Не волнуйтесь, – говорит Ильмар Романович, видя мои затруднения, – мы только говорим плохо, но понимаем хорошо. И еще, – он показал на свое лицо, махнув ладонью, словно собирая с него что-то невидимое: – нам тут мышцы болят от русских звуков. Иногда нужен эстонский. Но не волнуйтесь, это вас ничем не заденет, это будут внутренние обсуждения.
Мы ехали на машине, Клейс был за рулем. Отрываясь от дороги, он говорил в стиле экономной грамматики, избегая длинных и сложных предложений. Зато, после «внутренних обсуждений» с Тадольдером иногда давал объяснения:
– Юри говорит, как лучше ехать. Но он не водитель. Водитель только я. Еще советует! – Клейс хмыкнул, и я поняла, что он не чужд шутке.
Когда мы въехали в узкие улочки старого города, они опять заговорили на своем языке. Скоро последовал вольный перевод для меня:
– Мы говорим, куда вас поселить. Юри бронировал место в … – он назвал отель, который теперь называется «Economy Hotell» на Kalamaja, что в пяти минутах ходьбы от Балтийского вокзала, – это около станции Baltic Railway Station. Но моя жена может найти лучший отель. Как вы выбираете?
– Спасибо, не стоит беспокоить жену, коль уже есть забронированное место.
– Мы не знали, как вы имеете денег, – сказал Юри Августович с извиняющимися нотками. – Это плохой номера. Но оно есть в центре города. Это хорошо. Это равновесие.
– Да-да, понимаю. Что-то теряем, что-то находим. Спасибо за заботу.
– О, это есть песня, – обрадовался Юри Августович и напел мотив из репертуара Эдиты Пьехи, демонстрируя хорошее настроение.
Они помогли мне оформиться, взяв на себя переговоры с дежурным администратором. Из диалогов у стойки регистрации я понимала, что без эстонских провожатых меня, с моей ярко выраженной славянской внешностью, ни за что не поселили бы в отель, даже при десяти забронированных на мое имя номерах.
Впрочем, когда они завели меня в комнату, то это оказался не номер, а место в номере. И довольно-таки приличное! Но нет – надо было видеть смущение бедного Тадольдера, его несчастный, враз опечалившийся вид, что он выбрал такое неприспособленное жилье, такое простое, такое не по мне. Он выглядел как побитый бобик. Ай-я-я, ай-я-я, – повторял Ильмар Романович, осматривая приготовленное мне пристанище и качая головой. Эти причитания абсолютно добивали его незадачливого помощника, только что так искренне радовавшегося жизни. Ясно же, что мужчины собирались лицезреть простую работяжку, зачуханную дурнушку, пропахшую гарью и с въевшейся в кожу лица агломерационной пылью, а тут приехала привлекательная молодая женщина в довольно красивой шубке «под котик», с интеллигентными манерами. Чем не повод повеселиться и попеть? Но ведь такую гостью, по их мнению, и селить следовало в более подходящие стены. А мне было жалко их за эти сокрушения, ибо на самом деле была привыкшей и не к таким ночлежкам в командировках по металлургическим комбинатам. Еще и считала, что мне повезло, когда они доставались без хлопот и нервов. Поэтому я расположилась там, и с облегчением вздохнула, когда осталась без провожатых.
Немного выбитая из ощущения времени ранней темнотой, я не сразу поняла, когда надо себя кормить, полагая, что с идеей организованного ужина надо распрощаться и обходиться местными ресурсами. Но вот глянула на часы – времени было полпятого по полудню. Вполне еще можно попытаться сходить в кафе, которых тут должно быть немало, коль меня привезли в центр города. Вспомнилось, что по дорогое от остановки машины до входа в отель мы проходили мимо окон явно подобного заведения – со столиками и мелькающими официантами.
Я выглянула на улицу – ночь, прикрытая звездным небом. Стены домов словно крепостные валы – без окон. Где-то вверх по улочке тьму разгоняют фонари и видны освещенные окна. Повернула туда, направо, прошла по тротуару вдоль здания. Точно, мы шли с этой стороны и вот эти окна! Вход в заведение был почти на углу этой вытянутой, оказывается, всего двухэтажной, очень старинной постройки. Полюбовавшись дышавшими стариной стенами из камня, переступила порог: просторный вестибюль, перегороженный стойкой, за которой разместилась раздевалка, справа – вход в зал. Опершись на перегородку, стоял немолодой усатый гардеробщик в униформе и форменной фуражке.
– Здесь можно поужинать? – спросила у него, он молча кивнул из-под насупленных бровей.
Оставив ему шубу, вошла в зал. Просторный, со множеством длинных столов, поставленных довольно тесно, рядом стулья. И все это из натурального дерева, очень оригинальное. Создавалось ощущение добротности, основательности, истинности. В зале было очень накурено, никогда такого не видела. Дым просто делал воздух непрозрачным.
Подбежал официант, молодой мужчина – не как у нас. По тому, как развивались события у стойки регистрации отеля, где наблюдались пререкания и нежелание администратора поселять меня там, я поняла, что надо вести себя скромно, уважительно, не демонстрировать замашки хозяйки положения, а держаться как гость – только это обеспечит успех.
– Я недавно приехала, – сказала я официанту, улыбнувшись. – Очень голодна. Хочу поесть. Это можно?
– Да, это хорошо, – кивнул он.
– Но мне нужно что-то диетическое, курицу, например.
– Да, это можно. Еще кушать?
– Да, салат, гарнир – на ваше усмотрение. А запью чаем. Есть у вас чай?
– Да, это есть чай, – я чувствовала, что официант понимал меня, но говорил по-русски раза в три хуже Клейса и Тадольдера.
Не помню, сколько я ждала, что-то не очень долго. И даже не удосужилась посмотреть по сторонам. Ну видела, что за столиками сидят одни мужчины... Ну и что? С подносом официант подбежал так же быстро, как и без подноса. Принес разом все заказанное, назвал стоимость. Я расплатилась. Ела медленно, радуясь, что мои дела поправляются, и успокоено отдыхая от перелета. Даже к дыму притерпелась: дым на земле все же казался большим благом, чем чистый воздух высоты, на которой летел самолет.
В вестибюле меня встретил уже не хмурый, а приветливый и улыбающийся гардеробщик:
– Это вам приносили курицу из ресторана? – спросил он.
– Из ресторана?
– Ну да, у нас ведь нет кухни, у нас буфет.
– Как буфет? – опешила я.
– А вы не поняли, куда зашли?
– Выходит, не поняла. Куда же?
– Это пивной бар, мадам. Так что курицу вам заказывали в ресторане. Вон в том, – он показал в окно на противоположную сторону узкой улочки и подал шубу. Продолжил: – И еще я вам скажу такое. Не ходите одна темными улицами в такой дорогой шубе.
– Это стриженый кролик, – смущенно сказала я.
– Вы молодая и красивая. У нас не принято такой даме ходить вечером одной.
Он вышел из-за стойки, помог мне одеться, проводил до выхода:
– Вам далеко идти?
– Нет, совсем рядом, – я махнула в сторону отеля. – Спасибо вам! Большое спасибо.
– Надеюсь, мадам не обиделась?
– Нет, что вы. Наоборот, – я улыбнулась ему как близкому человеку, приоткрывшему мне свою душу: – И официанту передайте мою благодарность.
Верный тон, годящийся для Эстонии, был найден.
Так началось мое четырехгодичное пребывание в Таллине, правда, наездами, зато регулярными и длительными – каждый раз по две недели. Каждый раз – полмесяца изумительной жизни.
Как правило таллинские каникулы проходили по раз установленной программе. Ильмар Романович был прекрасным научным руководителем, ответственным и заботливым. Но был он и другом, понимающим, из какой нелегкой жизни я туда приезжала и умеющим сделать сверкающий, искрящийся праздник из пребывания в их городе. Мне, почти не путешествующей и не имеющей подобных впечатлений, для этого много не требовалось. Праздники начинались несколькими днями отдыха после приезда. Затем последовательность событий была такая: семинар на кафедре с моим отчетом о проделанной работе; знакомство с коллегами Клейса и предприятиями, где они работали; обязательный обед в одном из модных ресторанов, куда меня приглашал Ильмар Романович в качестве знакомства с городом и эстонскими традициями; экскурсии по окрестностям Таллина на его авто; и накануне моего отъезда – ужин в его семье, где меня угощали сигом и другими местными морскими деликатесами.
Очень помогало то, что жена Ильмара Романовича работала заведующей отделом международного туризма ЦК КПСС Эстонии и имела возможность бронировать мне номера в лучших гостиницах, причем в любое время и на любой срок. Ее заботами в последующие свои приезды живала я исключительно в «Виру», потом в «Олимпии».
Тут хочу сделать пояснение, касающееся поста, занимаемого Хэлей. В советское время три прибалтийские республики имели исключительное право оформлять заграничные паспорта и визы напрямую, через свои республиканские органы, остальные республики отсылались в союзные инстанции. Именно поэтому прибалты никогда не отдыхали на наших внутренних курортах, предпочитая ездить, насколько мне известно, в Италию. И в ЦК КПСС Эстонии имелся отдел международного туризма, каких не было, например, в Украине.
Интересно рассказать о том главном, что я видела, что вмещается в простые слова: Таллин – Клейс – регата. Современники тех событий поняли бы, о чем речь, а нынешним людям надо раскрыть смысл подробнее.
Я застала Таллин в тот промежуток истории, когда он стоял неказистый, ободранный, заваленный строительным мусором, задраенный в капитальные леса, какой-то прибитый к земле, и совсем не производил впечатления. Да еще в декабре! А потом постепенно начал сбрасывать эти драпировки ремонта и новостроек, очищаться, светлеть лицом, хорошеть, даже подниматься ввысь, к небу. И однажды настал момент, когда за многие века впервые он явился миру во всей красе, преобразился в одну из столиц Московских (ХХII) Олимпийских игр. Все этапы этих прекращений прошли на моих глазах и при каждом приезде воспринимались явственнее, чем если бы я ежедневно находилась рядом.
Мне повезло оказаться там, когда открывался яхт-центр на реке Пирита. В день 19 июля 1980 года, ровно в 16.22 тут вспыхнул Олимпийский огонь и открылась олимпийская парусная регата. Длилась она десять дней. Естественно, посещать все соревнования я не могла, да и не такой уж я большой спортивный болельщик. Но на открытии все же была, что принципиально важно. Клейс очень гордился этим событием, много рассказывал о нем. Наверное, поэтому я и запомнила из его слов, что на трех дистанциях – «Альфа», «Браво» и «Чарли» – в шести классах яхт спор за олимпийские медали вели 83 яхты и 154 спортсмена.
Олимпиада 1980 года стала для Таллина судьбоносным событием, ибо подготовка к ней велась с подлинно советским размахом. Благодаря регате старинный город преобразился, получил отличный Парусный центр, 314-ти метровую телебашню в Клоостриметса, Дворец культуры и спорта, который сразу стали называть Linnahall (Горхолл), 28-этажную гостиницу «Олимпия», новый аэровокзал, новое здание городского почтамта, новый мост через реку Пирита, автоматическую телефонную станцию... А еще к этой дате были проведены масштабные работы по реставрации Старого города и общегородской косметический ремонт. Именно потому я и помню как старый аэропорт Таллина резко сменился на новый, как старая часть города принарядилась обновленными зданиями, как на моих глазах хорошела столица Эстонии.
Кстати, на телебашне в Клоостриметса, на высоте 310 метров над землей, устроен вращающийся ресторан. Я побывала в нем. Там Клейс угощал меня супами-пюре из эстонской кухни, потчевал еще какими-то дивами, а мне было не до еды. При взгляде по сторонам, составляющим сплошное окно, где за ним властвовало небо, а вдали виднелось море, у меня появлялся страх и слегка кружилась голова.
В один из летних приездов Ильмар Романович повез меня в пригороды Таллина, показать частные жилые кварталы.
– У нас в многоквартирных домах обитают только «негры», – рассказывал он по дороге, не очень озабочиваясь, что такая риторика может быть принята мной с осуждением, – бедные. Уважающие себя люди живут в коттеджах, за городом. Вот я вам их и покажу.
Это «обитают», сказанное о людях без весомого положения в обществе, и «живут» – о меньшинстве, считающем себя его лучшей частью, буквально отказывало первым в духовности и незаслуженно превозносило вторых. Но не скажете, о какой культуре и о каком развитии можно говорить без народа, без этого океана всех начал? Когда это интеллигенция была источником фольклора, традиций и обычаев и что бы она делала без таких источников?
К сожалению, в моем научном руководителе явно чувствовалось злое, нетерпимое отношение к советским ценностям, к равенству и солидарности трудящихся. Кто знает, из каких людей он сам вышел, но впечатление производил обыкновенного интеллигента, каких в то время было большинство. Я не выдержала:
– У вас тоже есть квартира в городе.
– Это не совсем квартира, – сказал он. – Это рабочий кабинет и приемная. Да, там есть спальня и кухня, но это лишь для удобства, а не от необходимости. Настоящий мой дом тоже в пригороде. Но туда мы гостей не приглашаем, это родовое гнездо – только для своих.
Так и я могу сказать, подумала я и замолчала.
Мы ехали на северо-запад от Таллина. По сторонам все больше густел лес, все меньше мелькало построек. Простиралась девственная природа при абсолютном безлюдье. Наконец дорога плавно перешла в улицу явно различимого поселения, хоть и странного какого-то: между усадьбами не было заборов, как и от дороги их ничего не отделяло тоже. Красивые жилые дома стояли словно в лесу, за которым все же хорошо ухаживали. Трава на лужайках между ними была подстрижена, деревья прорежены и с аккуратными срезами, где снимались сухие ветки. Было видно, что некоторые ели или кедры посадили специально там, где они росли. Но даже традиционных цветников не было. Мне сразу подумалось про базу отдыха, отдельные домики для приезжих, только домики были слишком уж хорошие, добротные.
– Это дачный поселок, – сказал Клейс. – Ласнамяэ.
– Какой странный, – я не смогла скрыть удивления. – Ни цветов, ни грядок с овощами. Кругом – просто лес.
– Да, это так. Зато тут воздух хороший, – он засмеялся. – На самом деле не из-за воздуха, конечно, ничего не выращивают. Тут земля плохая, что-либо садить бесполезно.
– Хоть бы заборы поставили, непривычно как-то.
– А зачем заборы? Их ведь перепрыгнуть легко.
Я не стала спорить, но вспомнила папу. Тогда мы с ним посадили три черешни вдоль торцевой части дома, выходящей в палисадник. А на следующий день отец взялся приподнимать – причем не намного, всего сантиметров на двадцать – забор, символически отделяющий палисадник от улицы.
– Зачем ты возишься? – сказала я, полагая, что папа просто ремонтирует забор. – Он еще крепкий, пару-тройку лет спокойно простоит.
– Приподниму, чтобы перепрыгнуть нельзя было. А то появятся ягоды и начнут привлекать хулиганов.
Я засмеялась:
– Кто захочет, все равно проберется.
И тут я услышала то, что стало для меня откровением. Мой настрадавшийся папа, прошедший войну, видевший врага и на своей земле, и в своем доме, знал повадки настоящего зла. Он сказал:
– Конечно, если что задумать, то все можно совершить. Но заборами огораживаются не от вора, а от озорника. Ими люди не защищаются, а сдерживают любителей подурачиться.
Действительно, с удивлением подумала я о столь элементарной истине, которая редко кому приходит в голову с такой поражающей ясностью, – обычно распоясываются там, где есть соблазн и условия для произвола. Но при малейшем препятствии глупые побуждения улетучиваются. Не себя защитить, а сдержать другого от необдуманного шага – вот основной критерий согласия и мира между людьми! Как прекрасно просто и как мудро!
– Но эти дома никогда не остаются без надзора, – вывел меня из задумчивости Ильмар Романович, словно читал мои мысли. – Безопасностью никто не пренебрегает. А сейчас мы объедем Таллин по восточной окраине и поедем на юг. Там вы увидите совсем другую картину.
И тут я ему рассказала, о чем вспоминала, о случае с забором и тремя черешнями.
– О да, это так! – воскликнул он. – Препятствие – помеха, да-да.
Экскурсия продолжалась с подробными комментариями к видам за окном. И касались они не только дня текущего, но и истории, прошагавшей этими краями.
– С этой стороны шли финны и древние угры, пустынными местами пробирались к морю. Потом осели и стала Эстония. Так назвали, а кто – неизвестно. Зато Таллин это так было: таани – датский, линн – город. Вместе датский город, Таллин.
– Но он еще назывался Колывань, Ревель, да?
– Конечно, – Клейс кротко взглянул в мою сторону и одобрительно кивнул с улыбкой. – Только Колывань – есть арабское название.
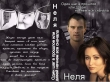
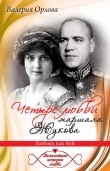

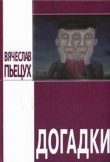
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)