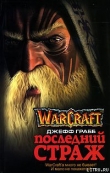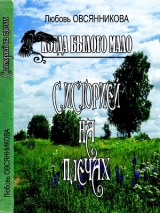
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Но даже при этом, при этих подлунных докуках на него тоже просветляюще подействовали чары средневековья, усиленные магией белой ночи. Вдруг он остановился.
– Слушайте, я не могу спать у вас в номере! Какая чепуха! Это невозможно. Я храплю во сне.
– Мне бы тоже не хотелось... – я проглотила конец фразы, полагая, что сказала и так достаточно много. – Если не ограничиваться шоколадкой и заплатить сумму суточной стоимости номера, то можно в свое пользование получить диван, на котором отдыхают дежурные. Ну, или ту же раскладушку, поставленную где-нибудь в бельевой комнате, в кладовой, в бытовке. Есть же у них что-то подобное. Только заодно обязательно договоритесь, чтобы эта дежурная передала вас своей сменщице!
На этот раз на переговоры герой проблемы пошел сам и все устроил отлично. Он получил раскладушку и право проживания в гардеробе, как выразилась дежурная. Как по мне, так гардероб не тянул выше звания комнаты кастелянши, зато там был умывальник, избавляющий меня от некоторых неудобств и нежелательных вторжений в номер.
Преодолев проблемы утра и беготни по парикмахерским, суету сборов на праздник, покупку цветов и прочее, едем к месту чествования юбиляра. Сначала идем пешком по Пикк Ялг (в переводе с эстонского это «длинная нога»), самой старой улице Таллина, осиливая ее от конца к началу, потому что она начинается с Нижнего города и ведет наверх, к Тоомпеа. Мы же идем в обратном направлении, к выходу из старого города. Дальше едем. Сами, общественным транспортом. Троллейбус покидает окраину старого города и устремляется к городскому району Нымме. Мы смотрим в окно на расположенные поодаль друг от друга коттеджи и многоквартирные здания, прячущиеся в бору. Но вот редеет сосняк, и взору открывается новый жилой район. В какой-то мере я уже могу быть экскурсоводом:
– Это начинается Мустамяе, «Черная гора», – я тут же отмечаю в голосе нотки причастности, гордости за что-то свое, и эти притязания души кажутся мне самой и смешными и приятными одновременно. – Старейший жилой район Таллина. Известен тем, что отсюда начиналось крупнопанельное строительство жилья в Эстонии. Это было в начале 60-х годов.
– Так Мустамяе именно в этом смысле старейший район?
– Ну нет, – я задумываюсь... вспоминая Днепропетровск, ища аналогии. – На самом деле, пожалуй, застраивать начинали именно старые окраинные кварталы, как и у нас. Самые старые. А жилмассивов как таковых тогда еще не было. А вот с него начали формироваться, – и я удовлетворенно продолжаю: – Крупнейший по количеству студентов вуз – Таллинский политехнический институт, куда мы едем, находится как раз между двумя этими районами: Нымме и Мустамяе. А после Мустамяе появились жилые массивы в Хааберсти, Кельдримяе, Ласнамяе.
И вот – юбилей. Актовый зал института, где расселись студенты, коллеги, родственники и приглашенные, чуть слышно звенел перешептываниями в ожидании главного действа. Он убран в традиционные цвета: серый, белый и вишнево-красный. Серый символизирует стальную выдержку и упорство, проявляемые студентами в процессе познания. Белый – цвет мира, прогресса и высокой морали. Вишнёво-красный свидетельствует о жизнерадостности, жизнедеятельности и внутреннем огне. Под портретом улыбающегося юбиляра, укрепленного на сцене, висит девиз института «Mente et Manu!», что в переводе с латыни означает «умом и руками». Он призван передавать суть образования, получаемого тут: уметь принимать умные решения и претворять задуманное в жизнь.
В нужный час Ильмар Романович поднимается со второго ряда, где сидел с женой, и идет на сцену – как всегда, скромный, немного смущенный, похожий на троечника, который вдруг выучил урок и получил пятерку, а к похвалам подготовиться не успел. Дальше все протекает трогательно, но ожидаемо. Основной лейтмотив – молодой вид юбиляра, не отражающий его возраст. Объясняли по-разному: молодостью жены, благодатным влиянием серьезной науки, даже верностью Эстонии. Оказывается, Клейса приглашали на работу в США, а он отказался.
А дальше нас ждал банкет с началом в пять часов по полудню и рассчитанный на всю ночь. На место его проведения из института можно было пройти пешком, это не так уж далеко. Правда, тогда оставалось несколько часов свободного времени, которые некуда было деть, если не употребить да длительную прогулку по парку. Мы рассудили по-другому, что вряд ли такая долгая прогулка принесет отдых и бодрость, необходимые нам на всю ночь гуляния. Лучше было вернуться в гостиницу, отдохнуть, освежиться и переодеться. А к месту банкета, если нас не отвезут, добираться так: добраться до Нымме уже знакомым нам троллейбусом, сесть в центре Нымме на автобус и проехать в направлении Пяяскюла до остановки Вяяна, там прогуляться по лесу метров триста, дойти до улицы, повернуть налево, пройти еще двести метров. И тропинка приведет в парк, разбитый у замка барона фон Глена.
Закавыка заключалась не в этом, а в подарке, который оставался в гостинице. Представлял он собой большой дубовый бочонок ручной работы, выполненный под старину, литров на двадцать, и наполненный ароматнейшим подсолнечным маслом домашнего изготовления – из жареных семечек. Чистое сокровище для северян. Носить его с собой ни в одном из вариантов не получалось – что руки бы оборвались, что смешно было бы.
Короче, после восхвалений и славословий официальной части за нами приехали и повезли в царство барона фон Глена – так просто и мило. По словам именинника, тамошний замок пребывал в состоянии реставрации, целью которой было сделать из него Дом студентов. Но кое-что уже, дескать, готово и очень подошло для аренды на ночь под высокопоставленную гулянку. Однако мне показалось, что насчет Дома студентов это было изрядное преувеличение, объясняющее нам, слишком советским людям, на каком основании скромный профессор от инженерных наук празднует юбилей в старинном здании, являющимся одним из десяти основных памятников архитектуры Таллина.
А совсем недавно я узнала, что была права, – Дом студентов в Таллине появился только к концу 2006 года. Под него отреставрировали небольшое здание в центре, по адресу Ратушная площадь, 16. Таллину это строительство обошлось в 5,5 миллиона крон. Тогда же объяснение Клейса показалось убедительным и я свои сомнения приглушила.
Пока собирались гости, Клейс организовал нам прогулку по парку и экскурсию в самом замке, выполненном в средневековом готическом стиле, пропитанном романтическим духом.
Эта великолепная усадьба располагалась на склоне горы, давшей имя соседнему с Нымме жилмассиву. Парк вокруг нее был заложен владельцем, помещиком Николаем фон Гленом, и сейчас кишел призраками прошлого, засевшими в сплошных руинах и на каждом шагу поджидавшими посетителей. Естественно, главным объектом парка являлась сама бывшая резиденция, выстроенная бароном над высоким обрывом холма Мустамяги по собственному проекту. Въехал барон туда с семьей осенью 1886 года. С тех пор замок, кажется, не видел реставраторов.
Прямо напротив него виднелись развалины "пальмового домика" – зимнего сада барона. Человек этот жил с размахом – прорыл канал от Финского залива к своей усадьбе, сделал пруд с морской водой, где держал яхту и откуда выходил в море на прогулки. От всего этого тоже оставались только покрытые дерном рвы. Неподалеку на холмике стоял четырехгранный обелиск, посвященный любимому коню фон Глена, а рядом, между высокими живописными елями, когда-то смотрела вдаль гигантская скульптура "Гленовского черта", тоже теперь разрушенная. Эта огромная скульптура изначально предназначалась изображать эстонского этнографического персонажа Калевипоега. Однако народ прозвал рогатого великана «чертом», так оно и осталось. Разрушена она была еще в дни Первой мировой войны.
Неподалеку от "черта" бросался в глаза другой каменный великан. И опять же, по замыслу барона, это должен был быть дракон, а в народе его прозвали «крокодил". В ходе строительных работ по возведению этой скульптуры, где сам барон выступал и руководителем, и активным исполнителем, не получалась голова дракона. В конце концов она отвалилась и со временем превратилась в груду камней. Между двумя скульптурами остались следы широкой канавы – еще одного искусственно вырытого канала, который должен был стать рекой, питающейся водой из болота Пяяскюла. Река нужна была для того, чтобы протекать через парк к замку, а дальше срываться с обрыва вниз, образуя водопад. Затея эта, как и многие другие, страдала тем же – непродуманностью, и оказалась неудачной. Песочное дно канала всосало в себя всю воду, а парк так и остался с пересохшим руслом.
Мы прошли немалое расстояние от "крокодила" по направлению Пяяскюла и увидели на маленьком холмике еще одну постройку странного фантазера – смотровую башню. По изначальным планам она должна была возвышаться так, чтобы с ее вершины просматривался финский берег. Но все повторилось, отчего намерение не осуществилось, – у построенной наполовину башни оказался слишком слабый фундамент, она начала сползать в грунт, и от заманчивой идеи пришлось отказаться. Это единственное место, в котором я нашла какое-то отношение к науке – в башне располагалась обсерватория.
Неугомонный барон возводил в окрестностях своей усадьбы и другие достопримечательности, к сожалению, не сохранившиеся.
Порой его посещали совсем уж «наполеоновские» идеи. Например, план превращения поселения Нымме в морской порт – ни больше, ни меньше – посредством сооружения канала до Коплиской бухты. Была даже намечена его трасса, почти в точности совпадающая с теперешней улицей Эхитаяте теэ, на которой стоит политехнический институт. После этого банкета, где я так близко соприкоснулась с историей Таллина, я еще несколько лет бывала там. И всякий раз при возвращении из института в гостиницу, спускаясь с Мустамяэского холма на троллейбусе, думала о том, что здесь могли бы швартоваться корабли. Словно мало чудаку было моря. Не дорожил он столь дефицитной в Эстонии землей.
Усилиями фон Глена в Нымме появился первый санаторий, был выстроен общественный бассейн под открытым небом, заложен импровизированный ипподром и даже основана грязелечебница. Правда, лечебных грязей в окрестностях не нашлось и их пришлось доставлять из Хаапсалу, но железная дорога к тому времени уже связала этот город с Ревелем, а следовательно, и с Нымме.
Много еще можно рассказывать о бароне фон Глене, но главное, что он основал городок Нымме, впоследствии слившийся с Таллиным, и как неординарная личность стал легендой и главной достопримечательностью эстонской столицы. Кстати, я узнала, что недавно ему там поставили памятник.
Внутренность гленовского замка стояла в запущенном состоянии. Тут нас много не водили, опасаясь, видимо, того, что слишком уж странное и неубедительное впечатление останется от такого Дворца студентов, хоть и находящегося в состоянии реставрации. На самом деле отреставрированным был только холл внизу, лестница наверх и огромный зал приемов во втором этаже. В одном крыле этого зала были накрыты столы, а в другом устроена танцплощадка.
Но мы все-таки полюбопытствовали и прошли наверх по тесной винтовой лестнице одной из башен – пыльной, со сбитыми ступенями, обрушенными стенами, на которых видны были ржавые крюки для факелов. Этого нам хватило, чтобы испугаться густой мистики, исходящей отовсюду, и больше не рыпаться. Да и заблудиться можно было легко, замок только с виду казался маленьким, а внутри оказался большим и запутанным.
Ну а на банкете тоже было много интересного. Во-первых, главную стену занятого под него зала, у которой располагалось место юбиляра, украшал девиз фон Глена: «Выше таланта боги ценят пот». И больше ничего. Ни шаров, ни конфетти, ни плакатов с шаржами. Все строго и скромно.
Во-вторых, публика. Мужчины как мужчины – высокие и не очень привлекательные внешне. А вот женщины, наравне с этим, поражали и другими особенностями. Отмечу главные из них. Да, худые, поджарые, некрасивые. Но еще и в нарядах, кажущихся далеко не новыми, изношенными, вылинявшими, видавшими виды, словно их достали из прабабушкиных гардеробов. Прямо какой-то парад нищеты. Тогда мы не знали слова секонд-хенд, но это было самое то. Немногое в них подчеркивало торжественность момента – безукоризненное облегание фигуры и длинные юбки, как теперь говорят – в пол. Для нас это было необычно, и мне понравилось. Хорошо, что и мое платье, яркое по сравнению с их убранством, сидело на мне весьма симпатично и закрывало икры ног. Далее, ни на одной из них я не увидела красивых туфель. Все обулись в растоптанные босоножки, а тонкие жилистые ноги затянули колготками. И если удобную обувь я могла понять, все-таки предстояло долго находиться в вертикальном положении, более того – танцевать, то последнее обстоятельство, объясняющееся представлениями о приличиях, меня просто потрясло. Мы тогда не знали таких крайностей этикета. При нашем июльском зное смешно и даже вредно зачехлять открытые части кожи воздухонепроницаемым нейлоном. Правда, я тоже была в колготках, но по другой причине – по причине прохладности северных приморских ночей. Впрочем, они, может быть, тоже ощущали эту прохладность.
Бог знает что думалось, глядя на этот бомонд.
Но вот публику пригласили к столу, гости подошли ближе друг к другу, и на них замерцали бриллианты, в кольцах, кулонах и серьгах. Немассивные, скромные по форме, неброские с виду украшения, но дорогие. Позже женщины раскрепостятся и все как одна закурят, а у меня перехватит дыхание от этой вульгарности. Но потом я пойму, что это условность. Курение нужно было как повод поманерничать, повертеть в руках золотую зажигалку, украшенную платиной и натуральными каменьями. Холеные руки, длинные костистые пальцы, маникюр... и изысканные безделушки, сверкание драгоценностей. Все это заявляло о статусе обладательницы, кричало о возможностях мужа, выставляло наружу настоящую суть – в такой иносказательной форме свидетельствовало кто есть кто, расставляло всех по ранжиру. Наверное, во все времена люди чем-то подают знак о своей принадлежности к определенной общественной прослойке и доходах, о своей жизненной мощи, просто мы тогда не догадывались об этом. Теперь этот знак подается часами и мобильными телефонами, может, еще чем-то неведомым мне.
Показателен был и стол, странный, на мой взгляд. Например, в числе закусок подавались холодные отварные макароны и при них – ломти вареной колбасы, скрученные трубочкой. Ну, теперь бы эта колбаса явилась лучшим и желанным угощением! А тогда мы были избалованы разносолами и деликатесами, кулинарными изысками, и такая скромность показалась нарочитой. То же отношение к угощению как к чему-то условному повторилось и при подаче горячих блюд. И я поняла, что яства в этих кругах не служили показателем гостеприимства, не были желанием побаловать гостей вкусностями или выказать им свое благорасположение. Они служили поводом к выпивке. А выпивка – поводом поздравить юбиляра и вручить подарок.
Тосты произносились часто, и после каждого присутствующие энергично, со звоном сдвигали кубки, одобряя этим жестом сказанное, и пили из них. Мы старались не выделяться. Очень скоро Игорь Иванович толкнул меня локтем в бок.
– Куда они столько пьют? – прошептал измененным голосом. – Я тут умру.
– Почему?
– Ну как? Я уже пьян, а конца тостам не видно.
– Ну не знаю, – сказала я. – Надо понаблюдать.
Славословия и преподнесение подарков продолжались. Поздравляющие сыпали хорошо заготовленными остротами, экспромтами, читали стихи, пели и даже танцевали поодиночке и группами. По сути предоставление слова для произнесения тоста служило приглашением к выходу на сцену в этом концерте художественной самодеятельности. Потом вручался подарок, окончательно маскирующий мероприятие под юбилей. Мне было очень интересно наблюдать местные традиции и таланты. После каждого номера опять звенели чоканья, и ведущий вызывал нового тостующего.
За спинами сидящих неслышно ходил бармен и доливал в рюмки тот напиток, что там оставался. Смотрю, а у Игоря Ивановича он каждый раз спрашивает, чего ему налить. Всем наливал без вопросов, а у него спрашивал. Это означало только одно – гости на самом деле не пили, а отпивали по глоточку. Осушали питейные емкости только в том случае, когда хотели перейти на другой напиток. А мой начальник каждый раз все заглатывал до дна.
– Да они только пригубливают! – воскликнула я, поняв промах Игоря Ивановича.
– Что? – протянул он, уставившись на меня непонимающими, мутными глазами.
– Хватит пить!
– А я что? Я ничего. Лишь бы не обиделись.
– Не обидятся, – после этого я взяла под контроль действия кельнера в отношении своего начальника, а его самого прислонила к спинке стула, чтобы он незаметно вздремнул.
Через полчаса ему полегчало, но он, бедный да несчастный, больше не пил и не ел. Совместными героическими усилиями мы были готовы к своему выступлению, когда часа в четыре утра подошла очередь и нас представили:
– Гости с солнечной Украины! Аспирантка господина Клейса Любовь Овсянникова со своим заведующим лабораторией Игорем Коваленко.
Переговоры Игоря Ивановича с Клейсом о соискательстве прошли благополучно, и он с энтузиазмом взялся за подготовку к сдаче кандидатского минимума – трех обязательных экзаменов: спецкурс, философия и иностранный язык. Не знаю, на что он рассчитывал. Если курс философии, который составлял диалектический и исторический материализм, можно было выучить, а о спецкурсе просто договориться с будущим руководителем, то иностранный язык оставался почти нерешаемой проблемой. Смешно же думать, что 55-летний мужчина, не имеющий навыков обучения, мог его выучить так, чтобы предстать перед серьезной комиссией.
Видимо, с целью облегчения своей участи он и решил задобрить Клейса, для чего в июне следующего года пригласил его в Днепропетровск. Программу пребывания у нас высокого гостя Игорь Иванович составил обширную и насыщенную. Уж не знаю всех пунктов, но общее время ее выполнения занимало четыре дня. Начиналось все пикником в районе одного из днепровских островов, где затевалась рыбалка и уха, сваренная на костре.
Конечно, мы все, ученики Клейса, взялись помогать принимающей стороне. Анатолий Михайлович занимался гостиницей и «пробил» отличный номер в гостинице «Днепропетровск», располагавшейся в живописном месте на Набережной Ленина в минуте ходьбы от Днепра. Константин Вячеславович – моторной лодкой и рыболовными снастями, выбором места для отдыха. А я – продуктами для обеда и приготовления ухи, поскольку была вписана в пикник в качестве куховарки.
Остальные мероприятия генерального плана меня не касались. Коваленко разъезжал на своей «Волге» как кум королю, сам встречал Клейса в аэропорту, возил по городу и окрестностям, кажется, сразу по приезде принимал у себя дома. Всему этому свидетелем я не была, знаю понаслышке.
Так вот утро того дня, что был посвящен выезду на природу, выдалось чудесное, солнечное, но не жаркое – как раз то что надо. Сбор был назначен на девять часов. Я успела сбегать на рынок, купить местных деликатесов и свежих овощей, которые только начали появляться, в частности сала и чеснока. Явилась в назначенное место, на набережной напротив гостиницы, с сумками, одета в полупляжный, полутуристический наряд. Остальные уже были там, тоже нагружены домашними яства от своих жен. Решили, что за гостем пойдет Ступницкий, благо, недалеко – перейти через дорогу. И скоро они вместе присоединились к нам. Компания в составе пяти человек разместились в одной лодке. Поехали.
Пока мужчины освежались в воде, плавали наперегонки и затем изучали окрестности необитаемого острова, на который мы приехали, я разобрала сумки, изучила их содержимое, приготовила завтрак, выложила на скатерть разные вкусности, такие как котлеты, вареные яйца, зелень, молодые огурчики, свежий лук и чеснок. А также порезала сало, которого Клейс никогда не ел и даже не видел.
– Не, – вредничал Анатолий Михайлович, видя, что Клейс ест сало просто с черным хлебом, – вы его с чесночком ешьте! Так вкуснее. Вот так, – и он энергично подавал пример.
– Наша не еля чесночок, – отнекивался гость. Но оборона его была непродолжительной. После пары стаканов сухого вина он уже поглощал хрустящие зубчики молодого чеснока и твердил: – О есс, это есть скусная!
Короче, завтрак гостю понравился. Потом он сидел на бережку, подтянув колени и обхватив их руками, смотрел на реку. Солнце освещало его непокрытую лысину, а он только жмурился от наслаждения. Мы со Ступницким бродили по острову, присматривались к кустам и собирали дровишки для костра, а остальные поехали ловить рыбу. Каждый занялся своим делом, так прошло немало времени.
Когда сооружение очага было закончено, Анатолий Михайлович поплыл к рыбакам за первой порцией рыбы – пора было затеваться с ухой. А я склонилась над кастрюлями – чистила овощи.
– Ой, ой! – услышала я сзади. – Мая уже умирайт...
Я обернулась: бедный Клейс обхватил живот руками и раскачивался из стороны в сторону. Он был чуть живой, бледный, с прорисованным на лице страданием.
– Что случилось? – я боялась двинуться с места, казалось, он от одного веяния воздуха упадет или рассыплется.
– Моя бегаль, бегаль...
– Куда?
– В куста бегаль, живот болеля.
На том наш пикник и закончился. Рыбу выпустили в воду, Клейса отправили в гостиницу и Коваленко срочно привез к нему врача – свою жену. К вечеру больному полегчало, но он не пожелал продолжать отдых, безотлагательно вылетел на Ленинград, добираясь домой ночными рейсами, да еще с пересадками.
И несмотря на то, что жена Коваленко поставила диагноз «солнечный удар», он впоследствии твердил мне: «Чеснока живот болеть, ево нельзя кушать», от чего я краснела и чувствовала себя виноватой, что купила и выложила на стол такой вредный овощ.
Позже, в последнее лето моей аспирантуры, Ильмар Романович помог мне показать маме Таллин. Он опять устроил нас в «Олимпии», возил на экскурсии, показывал морской порт и знаменитый паром «Эстония», который в годы перестройки затонул без видимых причин. Наверное, как и все аварии того времени, это была диверсия.
Клейс сделал неимоверно много для успешного завершения моей диссертации, но превозмочь внешние обстоятельства не смог и сам от них пострадал. Как заведующего кафедрой политехнического института его бы никакие неприятности не зацепили, но он, как и все в Эстонии, работал на двух работах, и вторым местом его работы было многострадальное КБ «Дезинтегратор». А эту организацию немилосердно громили в связи с надуманным делом Хинта. Неприятности были крупные. Может быть, спасением могла бы стать его верная высокопоставленная жена, но партия в то время уже теряла авторитет. Вскоре и сама Хэля осталась без работы. К сожалению, в том круговороте катастроф мы все были, как щепки, разнесенные в разные стороны, и потеряли друг друга из виду. Только в памяти осталась его щупленькая фигура с широким бледным лицом и узкими глазами, кажущимися прищуренными.
Печальная это история. И все же спасибо Богу, что мы жили в одно время и работали вместе.
Йоханнес Хинт
Второй раз ехать в Таллин я должна была в июле 1980 года. Собиралась с приподнятостью и энтузиазмом. Запредельного летнего зноя в те годы не наблюдалось, и лето всегда было просто приятным сезоном. Но все же июль есть июль, он оставался самым жарким месяцем, и от его настойчивого солнца хотелось скрыться, убежать из города с раскаленными камнями и упрятаться в село, на открытые просторы с травой и свежими ветрами. Увы, с окончанием студенчества такой возможности больше не было. Зато теперь я ехала в Прибалтику, в чудную страну прохлад, раскинувшуюся на балтийском побережье, овеянную средневековыми легендами. Тихо реяли высокие облака, обгоняя друг друга и меняя свои контуры.
Носясь между двумя корпусами института (главный, проектно-технологический, занимал угол площади Ленина и центрального проспекта, слева от памятника Ленину, если смотреть на ЦУМ; а наш, научный, был в новом здании на проспекте Правды, напротив трубопрокатного завода имени Ленина), я то оформляла учебный отпуск, то получала отпускное пособие. Однажды, пересекая площадь Ленина, встретила своего лечащего врача Медведовского Илью Михайловича.
– Ты от чего так светишься? – спросил он, привыкший видеть кислые физиономии больных.
– Еду в Таллин, оформляю отпуск!
– Правда! – в его голосе прозвучал восторг. – Надолго?
– На две недели.
– А мой заказ выполнишь?
– Ну, – я замялась, – обещать не могу, но постараюсь.
И он рассказал, что там выпускают чудодейственный препарат, называется АУ-8, который буквально излечивает все болезни. Какой он и что собой представляет, неизвестно, где продается – тоже. Наверное, мол, в аптеках.
– Привези мне хоть флакончик, – взмолился Илья Михайлович. – Денег дать?
– Не надо, потом отдадите.
– Кстати, ты и себе купи. Для твоих почек это просто бальзам.
Я записала название препарата.
Перелет на шустром ЯК-40 показался началом сказки. Ильмар Романович опять встретил меня на пару с Тадольдером, и теперь уж поселил в отдельном номере «Виру» – самой фешенебельной гостиницы Таллина («Олимпии» тогда еще не было). Они зашли со мной в номер, проверили, все ли работает, показали, как включается горячая вода, где и для чего установлены розетки, рассказали о прочих тонкостях высокого сервиса, посидели для приличия, чтобы я акклиматизировалась, и уехали. Назавтра я должна была отдыхать, а послезавтра – отчитываться на кафедре о первом полугодии работы над диссертацией. На третий день Клейс впервые повез меня на своем до блеска намытом «жигуле» в КБ «Дезинтегратор» – на ознакомительную экскурсию. Поехали.
– Мы едем, едем, а потом шла ногой целый два раз, – предупредил он, а я не совсем поняла.
– Не сможем близко подъехать, что ли?
– Ноу, не сможем.
– Но вы же говорили, что это за городом? Там что, тоже пробки?
– Йес, там есть тесно, – он засмеялся: – Богатая колхоза рыбу ловит, ловит и строит КБ. КБ очень хорошо работа и имеет клиента. Там за-пру-же-но, – он сказал это слово по слогам, с полным знанием грамматики. Значит, русский язык он знал, но ему трудно давалось произношение наших слов, и он сознательно допускал ошибки, произнося фразу, как ему было легче.
– А почему идти надо целых два раза?
– Два единица пошель.
– А! Два километра, что ли? – догадалась я.
– Йес, два раза что ли, – подтвердил он, и я внутренне приготовилась к пешему ходу.
Короче, он пытался рассказать историю КБ «Дезинтегратор», занимающегося строительными материалами, и подчеркивал, что, как ни странно, оно находилось на балансе объединения нескольких рыбхозов. Мало-помалу с его слов вырисовалась такая картина.
Бетон, один из главных строительных материалов современности, традиционно представляет собой смесь цемента и песка. Он всем хорош, но отличается одним неприятным свойством – слишком отсыревает при повышенной влажности. А влажность несет дискомфорт и даже болезни проживающим в бетонных домах людям. Кроме того, изделия из бетона попутно увеличиваются в объеме, отчего здания получают трещины, развивающиеся в дальнейшие разрушения. Всем этим неприятностям этот материал обязан цементу. Эстония, как побережная страна, находящаяся в северных широтах, возможно, первой почувствовала необходимость искать другие строительные смеси.
Да и не только склонность к отсыреванию была тому причиной. Несмотря на использование местного сырья, производство цемента требовало все больше и больше затрат. С каждым годом дорожали энергоресурсы, ужесточались требования экологов к оборудованию цементных заводов. Производители просто вынуждены были постоянно повышать цену. В результате цемент становился менее доступным потребителю, что в ряде случаев ставило под сомнение окупаемость цементных заводов и целесообразность его производства. И передовые ученые задумались над тем, чем можно заменить цемент.
Среди них оказался и Йоханнес Рудольф Хинт (Йоханнес Александрович) – известный в Эстонии инженер, изобретатель, очень талантливый человек, неоднократно доказывавший правильность и полезность своих идей, однако, трудно пробиваемых в жизнь, так как он не занимал высоких постов. Он вспомнил о древних египтянах, которые не использовали цемент в строительстве пирамид, тем не менее, пирамиды простояли тысячелетия и не разрушаются. В чем же заключалась их тайна? Идея воссоздания древнейшего способа строительства захватила его.
Кто этот человек?
Ради полноты картины начну издалека…
К началу Великой Отечественной войны И. Хинт уже был зрелой и важной личностью республиканского масштаба. Несмотря на завидную молодость – 27 лет – ему поручено было руководить эвакуацией эстонской промышленности вглубь СССР. Чем и как он заслужил такое доверие, осталось неизвестным.
Затем его оставили в Эстонии для подпольной работы. О жизни и деятельности Хинта в подполье никому ничего не известно. Кроме того, что в 1943 году он был арестован, приговорен к смерти и помещен в концентрационный лагерь, расположенный в тут же. А дальше возникают мифы, которые на веселые мысли не наталкивают. Якобы после провала друзья провалившегося подпольщика подсуетились, помогли ему бежать из концлагеря, пересечь Финский залив и оказаться в Хельсинки. Оттуда Иоганнес Александрович имел намерение дать деру в нейтральную Швецию, но не успел, был схвачен немцами и помещен в лагерь для военнопленных, где и просидел до конца войны. Странно, многие попавшие в переплет советские люди стремились бежать на восток, к своим, где опять продолжать борьбу, а этот даже не подумал о… О ком он не подумал – о востоке или о своих? О востоке не подумал, но подумал о своих?
Ну… едем дальше. Насколько нашему поколению известно из истории, приговоренных к высшей мере немцы в лагерях не содержали, а немедленно приводили приговор в исполнение – война есть война. Так что легенда о побеге либо рекламное преувеличение с целью показать страдания молодого Хинта, либо желание скрыть правду, конечно, неприглядную.
На последнее наталкивает вторая легенда, намекающая на причастность к «счастливому побегу» Хинта из концлагеря самих немцев. Она была рассказана Клейсу Владимиром Рудольфовичем Клаусоном, закадычным доверенным лицом и сотрудником Иоганнеса Александровича весьма доверительным тоном у него на юбилее. Легенда такая. Вскорости после ареста Хинта владелец одного из ресторанов, расположенных в Старом городе, организовал для немцев роскошный банкет. Очень старался угодить. И угодил. Угощение и обхождение так понравилось оккупантам, что главный офицер сказал хозяину: «Проси, что хочешь, все для тебя сделаю» – и ресторатор, скромно потупив взор, попросил освободить Хинта. Это из-под смертного-то приговора! Тем не менее вскоре Хинт оказался в Хельсинки…
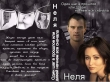
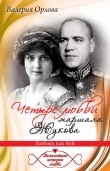

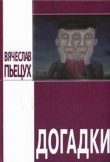
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)