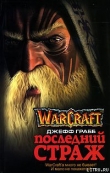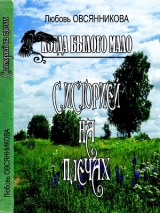
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Для того чтобы справить мне новый гардероб – студенческий, взрослый – папа целое лето трудился на приработках, строил дом некоему Кухленко. Этот дом пережил своего хозяина и посейчас стоит как новенький. Помню, как после завершения моих «колхозов» и папиных приработков мы вдвоем поехали в Запорожье за покупками. Папа почему-то любил этот город – там жила большая родня и когда-то познакомились его родители. Одежды мне требовалось больше, чем было денег, поэтому решили пока что купить черные туфельки на каблуке и демисезонное пальто, а потом постепенно прикупать остальное.
Вот в этих-то нарядах, греющих папиной заботой, я и прохаживалась по центральной площади, вокруг памятника Ленину, возле театра украинской драмы, около кинотеатра «Украина».
Но причина моих гуляний заключалась еще и в том, что я жила на квартире у чужих людей, занимая малюсенькую комнатку, где было и тесно и душно. Ведь я привыкла дома во время занятий выходить через час-полтора в сад и бродить там по полчасика, что-то съедая с дерева или что-то делая. А тут выйти было некуда, отвлечься – нечем… Без таких проветриваний, разнообразящих мой труд, которые дома просто не замечались, я задыхалась.
И еще одно обстоятельство обернулось для меня большим душевным дискомфортом, мешающим сидеть одной в четырех стенах. Этот одноклассник, который уверял, что я ему нравлюсь…
Он хотел поступать в Запорожской педагогический институт… Возможно, я поломала его судьбу…
Я тащила его за собой в университет, чтобы хоть на первых порах не быть там одной. И на это положила много трудов, упорства и решимости. Выпускные школьные экзамены в расчет не беру – возможно, помогая ему, я сама лучше к ним подготавливалась. Но вступительный экзамен по письменной математике дорого мне обошелся… На этом экзамене я получила четверку, вследствие чего не смогла воспользоваться льготами медалистки. Не то чтобы я переоценила себя… а просто посчитала своим долгом вначале решить его вариант, а потом уже взяться за свой. В итоге попала в цейтнот, поспешила и сделала описку. И как бы ни была она очевидна и простительна, но конкурс есть конкурс – мне поставили четверку. А он получил высший бал.
Но это пустяки, главное – я на всех экзаменах была рядом с ним, помогла решить задачу по физике, успела проверить черновик сочинения по литературе, и мы оба поступили. Я радовалась. Радовался и мой одноклассник, но как-то странно у него это получалось – он тут же переступил через меня и буквально пошел по девочкам. Да еще за глаза чернил меня, выставляясь героем. Естественно, ни одного сердца он не завоевал, потому что умные девчонки сразу увидели его в истинном свете, но правда о его поведении дошла до меня. Такого удара я не ждала! И от кого – от этого улыбчивого тихони, который целый год сидел в нашем классе, как мышка, и шагу без меня не мог ступить! Но как же я не распознала его низкую натуру? И никто не распознал, школьные учителя тоже его хвалили… Вот только моей прозорливой маме он не нравился, а я посмеивалась. Воистину правдиво говорят: не дай бог из хама пана – подразумевая в хамстве крайнюю простоту и непосредственность нрава.
Конечно, пришлось порвать с ним. Но как страдало мое самолюбие, как не находила я места от огорчения, как не хотела расставаться с фигурами прежнего мира, доселе казавшегося вечным! Никого теперь рядом со мной не осталось – ни родных, ни подруг, ни просто знакомых из тех дорогих дней, устрашающе быстро отдаляющихся в прошлое… Никого… Впервые я была тотально одна, как скалка в океане.
Одиночество без преувеличения съедало меня, сжигал позор за такого подопечного. Но горше всего было сожаление – ради кого я жертвовала своим временем и усердием, ради кого рисковала?! Я не знала, чем смыть с себя возникшее омерзение… Мне было стыдно перед всем белым светом за доверчивость и глупость, за слепоту, за то, что я приняла всерьез сущую пустышку. Спасибо новым подругам, что в те дни поддерживали меня, Любе Малышко в частности… Она объясняла происшедшее по-своему – тем, что мальчику нужна была женщина, а я идти на эти отношения не хотела.
Я чуть не погибла от возмущения: какая, помилуйте, женщина? Да… что она себе навоображала?! Согласись со мной поехать в университет какая-то из подруг, возможно, я была бы еще больше рада и помогала бы ей с не меньшим воодушевлением. Фрейдистские побуждения тут были ни при чем, они были вообще чужды мне, ибо мою доминанту составляла цель. И мальчик этот, с которым я впервые долгое время разделяла свои интересы, был ее частью. Между нами не было и в обозримом будущем не могло быть чего-то такого, что позволило бы говорить об ином содержании отношений! Да он и пикнуть не смел о том, чего я не одобряла! Вот моя бабушка, когда кто-то хотел слишком многого, говорила: «А горячей золы ему не надо?» – и имела резон.
– Народная мудрость учит, что не в теле счастье, а в душе. Люди превыше всего ценят преданность, а не наслаждение, – сказала я с дрожанием губ, чтобы не разнести Любу в пух и прах за глупые речи.
– Ну... не знаю, – она явно была озадачена таким мнением, видно, шедшим вразрез с ее очень ранним опытом.
Получил свою порцию «горячей золы» и мой неблагодарный подопечный, понадеявшийся, что после поступления в университет ему все позволено, потому что он стал кумом королю, – потеряв более соображающего друга, оставшись один на один с новыми знаниями, он не сдал экзамены даже за первый курс и был отчислен. О дальнейшей его судьбе я ничего не знаю.
Беспредельное и нескончаемое, во всю мою жизнь величиной, во всю мою мощь громкое спасибо моему дорогому мужу, что в те дни нашел меня и молча взял за руку.
Только ведь поначалу и он, принц из моих изначальных мечтаний, прекрасный синеглазый мальчик, Юра Овсянников, тоже олицетворял город… Он тоже был его частью, его творением. Тем не менее именно он своим терпением и абсолютной преданностью возвел спасительный мостик, который соединил два наших мира. Мне с первой минуты было легко с ним, как с солнцем и воздухом. Мы были созданы из одного материала, и дан нам был родственный дух. Встретив его, я почувствовала, что обрела полноту мировосприятия.
Однако я боялась злоупотреблять и теплом этого солнца и чистотой этого воздуха, боялась получать их большими порциями. Убедившись на горьком опыте, что слишком непосредственное доверие к кому-либо, да еще безотчетно нескрываемое, на пользу не идет, я боялась проявлять его по отношению к Юре, боялась привыкнуть к Юриному присутствию, привязаться к свету его прекрасных искренних глаз. И долгое время держалась на расстоянии.
Поэтому и не могла избавиться от мучительного одиночества. До сих пор помню собственный взгляд, скользящий по прохожим, когда я шла на занятия или просто гуляла по проспекту, – сиротливый и растерянный, беспомощный или просящий помощи, будто я надеялась увидеть родное лицо, будто боялась не узнать его и изучала каждого встречного особенно придирчиво. Похожий взгляд можно наблюдать у голодной или потерявшей кров дворняжки. Это взгляд скулящей надежды. Скорее всего, тут сгущены краски и не так уж жалко я выглядела со стороны, но именно подобным образом чувствовала себя внутри.

Точно так я смотрела на толпу и в тот раз, о котором хочу рассказать. Гуляя у фонтана около ЦУМа, я всматривалась в глаза прохожих, кляня себя за это и не в силах быть другой, вдруг в самом деле заметила промелькнувшее знакомое лицо! Оно было еще далеко впереди, но продвигалось мне навстречу. Передать нельзя, как я к нему рванулась! Со всех ног, всем сердцем, всей радостью осуществления ожидаемого – наконец-то, я так ждала!
Поначалу я даже не придала значения тому, кто это, – главное, что знакомый, человек из моего прошлого, такого привычного и желанного. Он тут, в городе – рядом со мной, и теперь я не буду одна в этой человеческой пустыне!
Сделав пару спешащих шагов, я почувствовала беспокойство, вызванное какой-то преградой, раньше не виденной и не знаемой. Притормозив и присмотревшись, поняла, что это было неприятие, струящееся от этого человека. Причем, оно относилось не ко мне, потому что он не успел заметить меня, а распространялось на всех окружающих. Оно было образом этого человека, вызывалось его завышенной самооценкой. От него исходило высокомерие, спесь!
Окончательно придя в себя, я наконец всмотрелась в него – немолодой мужчина, медленно шествующий с заложенными назад руками. Рядом – гостиница «Центральная», где останавливались приезжающие в город знаменитости. Вот только что он вышел оттуда, пошел размяться… И тут я чуть не рассмеялась – этот «знакомый» оказался Михаилом Кузнецовым, советским актером театра и кино. Он был тогда так популярен, как сегодняшним звездам и не снилось. Лауреат Сталинской премии – было от чего задрать нос! Да, по фильмам я это лицо, конечно, знала. А еще сыграло роль то, что его глаза были очень похожи на папины.
Но взгляд! Он был устремлен куда-то мимо людей, поверх их голов, сквозь них. Ну как будто вокруг никого не было, а вместо людей стоял туман. Как ему удавалось не столкнуться ни с кем, удивляюсь.
Этот скованный спесью человек прошел мимо, и мне показалось, что от него повеяло холодом.
Иногда я вспоминаю о нем, когда сама иду по городу и вдруг подумаю – а куда я смотрю? И понимаю, что чаще смотрю под ноги, иногда – на окна зданий, на толпу, не выделяя отдельных людей. Иначе говоря, вполне можно пройти среди прохожих и ни с кем не встретиться взглядом, если так уж этого не хочется. Но никогда и ни в какой степени мой взгляд не бывал похожим на взгляд Михаила Кузнецова, с которым он разгуливал по нашему центральному проспекту.
А тогда, помню, я подумала: «Мы с этим актером, когда поравнялись, выглядели странно, потому что представляли две противоположности: ему никто не нужен, а я хочу скорейшего родства с целым городом, который вижу в каждом его жителе. И все это прочитывалось в наших глазах». Я поняла: как отталкивающе выглядела крайность, представляемая Михаилом Кузнецовым, так, видимо, и та, которой была я сама. Но быть крайностью – не стоит, особенно такой печальной.
Да, я тяготилась новизной и хотела снова оказаться в обжитом месте, во втором Славгороде, где априори была обозначена моя законная причастность к миру. Я хотела снова быть равноправной владелицей обозримых пространств, но не знала, как это сделать. А может, это была не печаль во мне, не тоска, а нетерпение – давящее диким напором нетерпение? Эй, вы все, кто мне понадобится, идите сюда быстрее, обозначайтесь на горизонте, позвольте себя узнать! Видите, как я пытаюсь заглянуть в ваши глаза, как ищу вас во встречных, так не задерживайтесь же!
Это было нетерпение сделать из Днепропетровска свой Сент-Мери-Мид. Но добиться этого мне удастся только через тридцать лет, и, увы, не в тех масштабах, как мечталось в школьной юности.
Встреча со стихией
Смешно, конечно, писать в воспоминаниях о мимолетных уличных моментах, тем более, ничего не давших ни уму, ни сердцу. Но если они запомнились, значит, что-то символизировали, стали знаком какого-то перелома или периода в жизни. В данном случае встреча, о которой я хочу сказать, была чем-то вроде предвестника многих серьезных трудов, ждущих меня, и того, что скоро я расширю горизонты своих знакомств и интересов. Так оно в дальнейшем и вышло.
Весна 1977 года выдалась погожей. С той же мягкой повадкой она перетекла в последнюю стадию молодого лета. Подоспел светоносный июнь, его завершитель. И растаял тихо… Дальше по пути времен настали жара и зной зрелого, настоянного на солнце июля. Еще дальше – ждал август с первыми ночными прохладами и ранними закатами. Его я не любила, хотя кое-как принимала в душу из-за массового созревания фруктов и овощей, – тех явлений, которыми природа маскировала окончание жизненных циклов, начало ухода от нас тепла и света, овеваемого незаметно подступающими волнами грусти и прощания, предвестниками безотчетной тоски.
Но не только этими настроениями отличалось мое отношение к лету этого года, а и тем, что я понимала – это последние деньки моей спокойной жизни. Сейчас племянница Светлана окончила школу и будет поступать в вуз. Вот тут-то и начнется!
Несколько лет я руками и зубами держалась за работу в Днепропетровском химико-технологическом институте, где постоянно назначалась в состав экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов. Держалась ради одного: чтобы быть ближе к коллегам из других вузов и иметь возможность помочь Светлане стать студенткой. Других перспектив эта работа мне дать не могла.
Итак, каждым днем лета я дорожила и наслаждалась, как особенной благодатью, как неповторимым подарком, драгоценным и последним перлом нынешнего сезона, только что отшумевшего цветениями акаций, лип и диких маслин по рощам... Еще летали в воздухе их последние лепестки, еще веяли над нами благостными, щемящими ароматами, словно не спешили они, отжившие срок, улечься на грунт и оттягивали час слияния с ним.
Прекрасная пора моей жизни – осознаваемо прекрасная, что неизмеримо ценнее! – уже сдали летнюю сессию студенты и нашли своих репетиторов выпускники школ, готовящиеся к вступительным испытаниям. На меня продолжал идти вал предложений, хоть я набрала себе новых клиентов, и уже вовсю занималась с ними. Среди них были и те, кто год назад потерпел фиаско…
В числе еще двоих человек, один из которых – Котляр Борис Давидович – был моим школьным учителем, я считалась лучшим репетиром города по математике. Соответственными были и цены, впрочем, вполне посильные для советского человека. Сложнее, с точки зрения клиентов, удавалось попасть ко мне, потому что я занималась не с каждым, а тщательно отбирала учеников. Причем, и самих учеников и их родителей предупреждала об этом заранее, при заключении сделки. Отбор делала так: с каждым, кто хотел брать у меня уроки, первые два-три занятия проводила индивидуально, а потом тупых чад отсеивала, честно и добросовестно объясняя родителям о бесперспективности обучения их математике. Остальных же, умных деток, разбивала на категории по способностям и занималась с ними уже в группах по восемь-десять человек.
И все равно все желающие попасть ко мне не могли. В самые насыщенные недели я занималась без выходных, начиная уроки с восьми утра и заканчивая в двенадцать часов ночи. Вспоминаю теперь и удивляюсь, как я выдерживала такой темп?! Бывало, до того зарабатывалась, что выйдя на кухню попить воды, брала в руки чашку и вместо компота наливала в нее суп из кастрюли...
Кстати, Света, окончившая ту же среднюю школу, что и я, приехала со Славгорода поступать в сельскохозяйственный институт с направлением из колхоза. Это дедушка с бабушкой постарались внучку подстраховать: выхлопотали ей и стипендию, и работу по получении диплома, и дополнительные льготы при конкурсном отборе в вуз.
Правда, она того стоила. У Светы были отличные способности к обучению, хорошая память и крепкие знания. А главное – были нужные качества, в частности, прилежание, так что волноваться вроде бы не стоило, но мало ли… Вот же не дали ей медали из-за учительницы украинского языка, чтоб ей пусто было, завидущей нечестивице. Конечно, у родных болело сердце за девочку, что ей так рано пришлось узнать на себе человеческую злобность.
Мы с мужем, со своей стороны, старались для нее. Правда, у себя поместить не могли, потому что жили с его родителями в двухкомнатной квартире, зато сняли для нее угол неподалеку, в нескольких кварталах вниз по горке от нас – в районе нового моста. И Света имела возможность приходить ко мне на уроки, а идя после уроков домой – прогуливаться по лучшим кварталам города, вживаясь в новую среду, в новое свое состояние.
Кстати сказать, в ту пору я чувствовала себя феноменально легко и уверенно, потому что была необыкновенно красивой и очень грациозной, еще с естественным цветом волос. И одевалась хорошо, добротно и со вкусом. Лучшие наряды появлялись у меня частью от мамы, которая покупала их в своей торговой сети, а частью изготавливались одной модной портнихой, чьи сын и дочь брали у меня дополнительные уроки по сопромату и теоретической механике. Эта портниха нахвалиться не могла моей фигурой и шила мне одежду с особым удовольствием и тщанием. Короче, я выглядела идеальной красоткой. И вот в таком виде ходила на зачеты и экзамены, которые помогала принимать профессорам, а потом гуляла по городу. Приятно ведь просто пройтись по улицам, никуда не спеша, если ты чувствуешь себя на высоте!

В обычные дни, отработав в аудиториях, я выходила через центральные двери и поворачивала направо, где рядом располагался Нагорный (в народе – Лагерный) рынок. Если пользоваться терминологией и образами Эмиля Золя, то «чревом Днепропетровска» была Озерка, центральный колхозный рынок, находящийся вблизи вокзала. А Нагорный рынок – это элитный, маленький, чистый, тихий уголок. И все там было свежее. А тем более в июле, когда всякие чудеса попадают на прилавок прямо с грядки или сада!
Всякий раз, если была возможность, я покупала одно и то же – свежую зелень: петрушку и укроп – несколько раз обходя по внешнему контуру П-образный прилавок, внутри которого спинами друг к другу стояли продавцы со своими корзинами. Зелень я впрок старалась не брать, чтобы не употреблять в еду вялой и потерявшей запах. А уж картофель-матушку, огурчики, кудрявую соблазнительную морковь, пастернак, капусту, ягоды – добирала по мере надобности, причем только здесь, на улице под навесами, где традиционно размещались настоящие земледельцы, производители. Вследствие этого выставленное у них изобилие было и свежее и ниже в цене.
Покупки я совершала по принципу: вначале выбирала понравившиеся дары полей, а потом смотрела на продавцов, решая, кому не жалко отдать деньги.
В тот раз я пришла на рынок не по пути с работы, а целевым порядком – у меня нашлось полчаса между занятиями, нечто вроде обеденного перерыва, и я решила использовать его, чтобы выскочить за пополнением холодильника. Я очень спешила, делала покупки без обычного изучения всего привезенного, брала не самое лучшее, а что подходило.
И вот мой взгляд, оторвавшись от продуктов, скользнул по шеренге продавцов и дальше за ними уперся в одно очень знакомое лицо, за которым остальные – размазались и потеряли краски, слившись в нечто сплошное, в неинтересный второй план. Напротив меня неожиданно прорисовалась Зинаида Кириенко, собственной персоной, медленно шедшая вдоль второго прилавка. Она была страшно сосредоточена, что-то деловито пробовала, к чему-то присматривалась, как будто покупала не килограмм-другой фруктов-овощей, а по меньшей мере корову. Видно было, что она – ответственная и прекрасная хозяйка дома, заботливая мать и жена.
Широкополая шляпа со слегка пригнутыми вниз боками достаточно надежно закрывала лицо, так что узнать ее можно было, только оказавшись друг против друга, как тут и получилось. Эта шляпа скрывала еще один недостаток актрисы – маленькую головку на длинной шее, не очень гармонировавшую в соединении с размашистыми плечами… Бросился в глаза яркий макияж, пятном выделившийся среди серизны окружения. Удивила еще одна деталь: при таком же росте, как и у меня, 165 сантиметров, актриса казалась высокой, причем не очень-то грациозной, что несмотря на скупость движений в ней упрямо улавливалось.
Зато мне понравилась ее естественность и сравнительная простота – о, я уже знала, как спесиво умеют держаться звезды.
Конечно, хотелось рассмотреть все детальнее, и как пошит белый костюмчик и какая у нее обувь, но она заметила мой взгляд и ниже наклонила голову. Я поспешила домой. У двери уже стояли две девочки – на звонок им не открыли и они ждали меня.
Занятие проходило обычно – умные мои детки соревновались друг с другом в решении задач, с коварством подобранных мною. Защищая результаты, те, кого я спрашивала о них, звонко обосновывали избранный метод и тут же доказывали используемые в нем теоремы. Мне надо было научить их не только знаниям, но и умению ориентироваться и держаться в беседе с не очень дружественным собеседником, не зажиматься от его возможной недоброжелательности, быстро распознавать подвохи и оставаться невозмутимым в любой ситуации. На своих занятиях, зная условия и атмосферу конкурсного экзамена, я все это моделировала.
Немного мешала жара, хотя она уже прошла дневной пик. В комнату по-прежнему лилось много света, но ветерок, идущий от открытого окна с Октябрьской площади, рекой обтекал нас, дальше бежал через коридор и столовую, там выходил во двор через открытую дверь лоджии и неплохо освежал всю квартиру. Может, кое-кто и назвал бы это сквозняком, но нам эти потоки воздуха были приятны, мы купались в них, радовались им, напитывались от них энергией. Тем более что лоджия выходит во двор с тенистым сквером, где воздух всегда прохладнее и чище, чем на Октябрьской площади.
Вдруг стало заметно, что в комнате, где мы располагались, потемнело. Это с южным-то окном?! Значит, к городу подбирались осадки. Я взглянула на часы – было 16-00. Если это нормальный летний дождь, то он продлится недолго, и пока мы к половине пятого закончим занятие, погода снова восстановится. Ну темнеет – и ладно, для нас дорога каждая минута, нам надо делать свое дело. И мы снова склонились над бумагами.
Вскоре мы снова отвлеклись от работы – на этот раз стуком капель об оконное стекло. По нему угадывалось, что капли падали крупные и частые. Ударяясь о преграду, они пищали и хлюпали от досады, что их полет закончился таким итогом.
– Ого! – сказала Лена Деева, девочка, с которой Света сейчас вместе жила на квартире.
Света и остальные дети помалкивали, не отвлекаясь от записей. А Костя Петраков веселым голосом успокоил Лену:
– Это «ого!» продлится недолго. Лето ведь!
Мы переглянулись и снова зарылись в алгебры-геометрии.
Наконец занятие закончилось, мне пора была делать пятиминутный перерыв, чтобы выпроводить эту группу учеников и встретить новую. Но дождь продолжался, эти дети не торопились выйти под его струи, и новая группа задерживалась по тем же причинам. Нервничая, я выскочила на лоджию, чтобы изучить внешнюю обстановку. Надо сказать, что это произошло вовремя, потому что там открылась страшная картина: вода, озером стоящая на более низком полу лоджии, от дождя все прибывала и начала во все концы переливаться через край. С невероятным шумом она стекала вниз через прутья ограждения, но также с веселым бурлением устремилась в столовую. Потекли ее первые пенные ручейки…
Это была катастрофа! Перекрытия в нашем довоенном доме, кое-как латанном-перелатанном после бомбежек, оставляли желать лучшего, и пролитая на пол вода запросто проникала на потолки нижних этажей. А за этим следовали скандалы, никому не нужные.
– Ой, у нас потоп! – закричала я, хватаясь за тряпки и пытаясь подтереть пол в столовой. – Помогите!
Прибежали все дети, засидевшиеся и не упускающие момента размяться, смело шагнули на затопленную лоджию. Девочки принялись выбирать воду горстями и выливать в попавшиеся под руку емкости, а мальчишки с помощью веников и совков просто сметали ее вниз.
Не помню, кто сказал, что на свете нет ничего страшнее встречи лицом к лицу с Создателем. Так вот это был именно такой случай, если понимать, что мы созданы земными стихиями.
Сообща мы усмирили дождь, в той его части, что проник к нам на лоджию. Да и за ее пределами стало тише, ветер переменил направление летящих вниз струй, перестал забивать воду в нашу сторону, да и интенсивность дождя уменьшилась. Еще через четверть часа он совсем прекратился и дети, хохоча и радуясь свежести, вышли от меня.
– Тетя Люба, я сейчас еду к маме, – предупредила меня Света. – За новыми платьями. Завтра вернусь.
– Хорошо, – ответила я.
Светина мама, моя сестра, жила в тридцати километрах от города, в Новоалександровке, куда через каждые полчаса ходили рейсовые автобусы. Вот только, чтобы сесть в них, надо было ехать на автовокзал (еще старый, что лежал практически через дорогу от железнодорожного вокзала).
Следующая группа учеников так и не появилась… Я пошла на кухню.
В начале седьмого вернулся с работы муж. Его институт лежал в двух кварталах от дома в сторону Днепра, около монумента Славы. Дорога с горки, на которой стоит наш дом, к институту шла под уклон, но без низин, так что дожди во все сезоны сбегали в Днепр, нигде не задерживаясь. Не удивительно, что он ничего не заметил, – прошел по омытому чистому городу, дыша прохладой.
К его приходу я успела приготовить хороший свежий ужин. Затем мы вышли на прогулку, подышать свежим воздухом.
Да, асфальт был еще везде мокрым. Но удивило меня не это, а его состояние. Я заметила, что на нем появились изрядные промоины в местах, где раньше были трещины или мелкие крошения. В промоинах стояла вода, четко обозначая их края. Да не был раньше наш асфальт так изрыт! Ямы, ямы… шага ступить некуда…
А на остальной территории лежала распластанная, размазанная по плоскости трава – явно откуда-то принесенная сильным потоком, который пригладил, прижал ее тут к тверди, а сам ушел восвояси. Трава была странная, похожая на ту, что растет в речных заводях… Не знаю, откуда она могла тут взяться, только что упасть с неба.
Вторым потрясением было то, что снизу, со стороны центра города, шла беспрерывная толпа людей – полностью мокрых и босых, с мокрыми волосами. Обувь они несли в руках. Мне, сельскому человеку, это было не в диковину – мы так и делали в селе: дабы не портить туфли на наших хлябях, мы после дождя снимали их и несли в руках, меся босиком размокшие грунты. Но в городе так не ходили! Тут не было вязкой грязи…
– Чего это они все разулись? – с недоумением повернулась я к Юре.
– Не знаю…
И только на следующий день мы узнали, что произошло в низинных районах города. Да и Света, добирающаяся на вокзал пешком, едва не погибла в водоворотах. Она рассказывала, что ее спасло только умение плавать. А многих затягивало в омуты, возникшие там, где потоком воды были сорваны канализационные люки. Правда, официальных сведений о погибших не было, видимо, людей успевали спасать, но положение было угрожающим.
Вот что писала пресса:
«Катастрофа 1977 г. укоренилась в памяти тысяч днепропетровцев и стала невиданной за всю вторую половину XX века. 28 июля 1977 г. город захлестнул сильнейший ливень, продолжавшийся всего два часа. Этого времени хватило, чтобы полностью затопить нижнюю часть города. Интересно, что в общих чертах наводнение 1977 г. аналогично бедствию 1891 г. Уровень воды в центре составлял до полутора метров. Здесь были затоплены все полуподвальные помещения. Десятки улиц лишились асфальтового покрытия. По свидетельствам очевидцев, на проспекте Карла Маркса, в районе ЦУМа, слой грязи составлял несколько десятков сантиметров. Особо запоминающуюся картину представляла территория перед въездом на Новый мост. Десятки машин, стоявших тут, были затоплены почти по самую крышу, все они завязли в тоннах грязи. Не удалось избежать и человеческих жертв. Согласно слухам, циркулирующим и сегодня, нескольких людей затянуло в канализационные люки. К сожалению, точные данные неизвестны. В местной прессе опубликовали лишь… репортажи о субботниках по расчистке города».
Или вот в другой редакции:
«В 1977 году большая вода вернулась в Днепропетровск. 28 июля ливень продолжительностью всего в два часа полностью затопил нижнюю часть города. По историческим сведениям, уровень воды составлял полтора метра. Ходили слухи, что в тот день погибло немало людей: якобы, когда ливень начался, горожане стали прятаться в подземные переходы, да там и утонули. Однако официальной информации о погибших в тот день нет. Свидетели рассказывают, что вода по улицам шла рекой, телефонные будки бились током, а на Озерке апельсины плавали вперемешку с деньгами. Кстати, центральный рынок страдал от наводнений с момента своего основания в 1885 году, и неспроста. Раньше, оказывается, на этом месте было… болото.
Вода тем июльским днем сошла в большинстве районов уже к вечеру. И вот тут жители поняли, что ливень – это еще не самое страшное, что преподнесла им природа. Улицы превратились в месиво: ил лежал вперемешку с мусором и сорванным асфальтом, и если на Карла Маркса всю эту "красоту" быстро убрали, то прилегающие улицы еще долго стояли в грязи. Но и это было не самым катастрофическим. На дорогах стояли (а кое-где даже висели на заборах) автомобили, пришедшие в непригодность. Из подвалов магазинов выносили испорченные товары. А несколько одноэтажных домов в районе книжного рынка стихия настолько разрушила, что людей пришлось отселить».
Автор этих репортажей (думается мне, он не был очевидцем этих событий и писал с чужих слов. Так не будем называть его имени, спасибо уже за то, что благодаря ему в Сети вообще остались сведения о них), конечно, по-журналистски недобросовестен – где-то сгущает краски и преувеличивает, а то не пишет того, что было реально.
Дождевые тучи имели такие параметры (протяженность, мощь и скорость продвижения), что дольше получаса над одним местом не изливались. Возможно, в целом променад дождя над городом и составлял два часа, но это не то, как если бы он все два часа лил над всей его площадью. Тогда бы и Днепропетровск смыло в реку.
Дальше автор алармистски намекает, что официальная статистика скрыла правду об имевших место жертвах. Да не было жертв! Как можно было бы их скрыть, если бы их хоронили, во всех концах родные, соседи и сотрудники погибших, очевидцы церемоний и сопричастные им лица начали о них рассказывать?! Такое не скроешь, слухи обуздать невозможно. Но никаких слухов не циркулировало.
А вот ущерб, нанесенный городу и людям, был гораздо ощутимее, чем описано в отрывках. В результате затопления был выведен со строя огромнейший массив жилого фонда. Старая часть города, застроенная одно-двухэтажными домами на глине, так называемыми «екатерининками», лишилась жилья. Не стало также жилья, расположенного в подвальных и цокольных помещениях более крепких домов, а в низинных районах оно пропало и на первых этажах. Возникла критическая ситуация, убийственная для бюджета, – людей на время ремонтов квартир переселяли в гостиницы, которые дорого стоили. Но ремонты задерживались, потому что насквозь промокшие стены плохо высыхали. От гостиниц приходилось отказываться и перевозить людей в рабочие общежития, в школы, в спортивные залы… Люди возмущались и выражали недовольство, возникали конфликты.
Но ведь им еще надо было возместить потерю имущества, необходимых вещей, теплой одежды! Конечно, помогали трудовые коллективы, но это была лишь часть того, что требовалось.
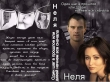
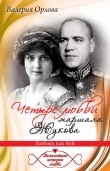

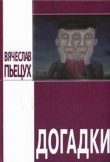
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)