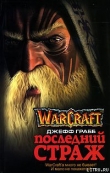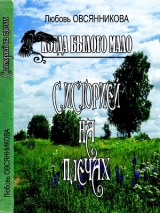
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Практически половина пострадавших квартир была невосстановима. В таком случае жильцам вообще требовались новые квартиры. Их предоставление, ввиду непредвиденности события, задерживалось, а ведь шла осень и детям надо было определяться в школу. А куда, в какую? Люди нервничали, обивали чиновничьи пороги, чего-то требовали… Причем, новые квартиры предоставляли там, где их строили, – на отдаленных жилмассивах. А как не хотели туда ехать те, кто родился и вырос в центре города!
Многие, очень многие семьи больше не вышли на тот уровень жизни, который имели до наводнения. Я знала таких. Так что разбитые машины, поваленные телефонные будки и плавающие апельсины – это пустяки.
И все же к осени город залечил раны, отремонтировал проездные пути и тротуары, вычистил осевший на улицах ил. Неправду пишет автор, что эти работы проводились только в центре города. Их производили массово по все территории, потому что тут были задействованы крупные предприятия, работающие широким фронтом, а не в час по столовой ложке. После ремонтов город стал еще лучше, чище и светлее.
А Света на первом же экзамене, к которому я никак не могла приложить руку, потому что это была география, получила пятерку. И дальше все у нее пошло прекрасно. Светины хорошие знания обратили на себя внимание деканата и ее изначально назначили старостой группы…
В конце лета мы через институт, где работал Юрий Семенович, купили кооперативную квартиру на «Парусе». Это было очень далеко от прежнего дома, а значит, и от наших мест работы. Но муж мог с этим мириться, ибо работал в дневное время. А мне, в большинстве своем работающей на вечернем факультете, ездить по пустырям в полночь было опасно. И я перешла на работу во ВНИИмехчермет.
Вот такие ассоциации связаны со встречей с Зинаидой Кириенко.
Принцесса Турандот
О прекрасном промельке Юлии Борисовой практически нечего писать, разве только то, что встреча с нею напоминает о первой поездке в Москву.

Конечно, Юлию Борисову мы уже знали. Одно время она была очень популярна. И в немалой степени благодаря тому, что в кино и спектаклях стойко искажала свой голос, делала его каким-то надломленным, будто звучал он у нее с надрывом, и тем самым заставляла подозревать в себе некую уникальность. Помню статьи критиков и искусствоведов по этому поводу, словно голос был ее главным достоянием, а не то, как она играла. Я бы обиделась. Но для нее это, видимо, было тем штришком, который помогал интриговать публику и самой держаться на волне ее интереса.
Эта актриса много играла в театре. А спектакль «Принцесса Турандот» был поставлен только для нее, и играла в нем исключительно она, дублеров не было. Он так часто шел по телевидению, что его знала вся страна. Некоторые даже забывали фамилию актрисы и называли ее принцессой Турандот. И никто при этом не улыбался, и каждый знал, о ком говорится – так естественно это тогда воспринималось.
Но все равно больше Юлию Борисову знали по кино. Первым в списке ее побед, конечно для нас, провинциалов, стоит «Идиот». Ах какие это были по тем спокойным временам страсти! Не хуже она была и в «Варшавской мелодии». А на фильм «Посол Советского Союза», где она играла Елену Николаевну Кольцову, прообразом которой послужила известная революционерка Александра Михайловна Коллонтай, валом валила вся наша группа, срывая лекции и практические занятия (теперь их называют семинарами).
Потом Юлия Борисова еще много снималась, но шум вокруг ее неповторимости поутих, она уже не блистала и не играла своим голосом, а говорила нормально, как люди.
***
Сейчас я взяла себе в качестве ориентира по времени такую информацию из Интернета: «‟Альтист Данилов” – роман о вечных ценностях, о большой любви как основе творчества. ...Первая публикация романа в журнале «Новый мир» № 2, 3 и 4 за 1980 год».
Итак, было молодое лето 1980 года, скорее всего июнь. Я только что прочитала окончание «Альтиста Данилова» в «Новом мире». Обычно мы с Юрой бурно обсуждали прочитанное. А тут нам было не до обсуждения – в конце мая Юре предстояла повторная защита диссертации на заседании ВАКа после отрицательного отзыва от «черного» оппонента. Мы несказанно волновались. А как только 23 мая у Юры положительно решился вопрос, диссертацию утвердили и ему присвоили научную степень кандидата технических наук (по поводу чего Юра привез мне в подарок французские духи «Черная магия», а себе новый портфель), мне пришлось ехать в Москву в командировку. И обсуждение откладывалось. Тем не менее впечатления бурлили и просили выхода.
Обо всем этом я думала, качаясь в скором поезде «Днепропетровск–Москва», чтобы забить в себе тревогу по поводу поездки, задания по командировке и первой встречи со столицей. Тем более что жить мне предстояло не в гостинице, а у родственников своей сотрудницы. Неудобно это как-то все было, тревожно.
Давшие кров люди жили внутри Садового кольца, где-то на Большой Полянке вблизи метро «Полянка»... Помню, что добираться к ним из центра, и от них в центр – было удобно.
Встретили меня хорошо, радушно, внимательно. Семья состояла из трех поколений женщин: бабушки, мамы и дочки. Дочь была лишь несколькими годами младше меня, но незамужняя; бабушка приветливая и мягкая; а мама молчаливая и угрюмая. Почти с первой минуты, когда все собрались дома, мы разговорились и оказалось, что тут тоже кипят страсти по «Альтисту Данилову». Москва очарована им, люди записывались в очередь за журналами. И дочь очень удивилась тому, что я, живя где-то в Днепропетровске, эту новинку уже прочитала. Она тут же зауважала меня, правда, с изрядной долей высокомерного удивления. Но мнения наши совпали, и ее гордыня заткнулась.
Последствия были такие: девушка вынула из сумочки два билета на спектакль в Малый театр и пригласила меня по-быстрому собираться. Я удивилась чуду – как могут просто так лежать в сумочке билеты в театр?!
– Нам на работе профсоюз раздает их бесплатно. Вот я, зная о твоем приезде, и взяла два – на всякий случай.
Мне неудобно было спрашивать, как бы повернулось дело, если бы я не приехала, но она поняла мой неозвученный вопрос и добавила:
– Если бы ты не приехала, то я бы взяла с собой маму.
Я поблагодарила ее, и мы побежали. Так в первый же московский вечер я попала что называется с корабля на бал. Оно и лучше, мне некогда было раздумывать о туалетах, и все обошлось прекрасно.
Названия спектакля не помню, хоть смотрела его с интересом – еще бы, ведь первый раз в столичном театре, таком прославленном. Но зато помню, что в нем играл Михаил Царев, тогдашний директор Малого театра, один из великих стариков советской сцены, и Виктория Лепко, девица из «Кабачок 13 стульев». Посматривала я и на сам зал театра – такой красоты раньше не видела.
Назавтра я быстро справилась с делами по работе и пошла смотреть Москву и Красную площадь, твердо зная наперед, что туда ведет улица Горького. Значит, надо на нее выйти.
Годам к тридцати, когда мне пришлось много путешествовать самой, без сопровождающих, по городам страны, я обнаружила в себе то, что в народе называют «топографическим кретинизмом», свойственным исключительно женщинам. Что это такое? Это то, что при одинаковом уровне интеллекта и образования одни из нас легко ориентируются в незнакомом городе, а другие не могут без провожатых дойти до соседнего дома, – неумение ориентироваться по местности. Даже и не неумение, а какое-то нежелание углубляться в этот предмет, тупая лень озадачиваться им и напрягаться в отношении его. Вот пример: часто в разговорах я левое называю правым, а правое левым, хотя прекрасно знаю, где левая и правая сторона. Но я знаю это не автоматически, а только тогда, когда задумываюсь. Иначе говоря, определяться с направлением для меня стоит трудов, в этом вопросе у меня нет интуитивного восприятия, как допустим, при словах «назад» и «вперед». Это явление трудно объяснить, наверное, не зря оно названо «кретинизмом». Еще пример: я не люблю смотреть карты и схемы городов. Хотя, если приходится, легко в них разбираюсь. И наконец самое характерное – я вечно боюсь затеряться, поэтому отхожу от места, где остановилась, только на видимые расстояния, а если и решаюсь пройти дальше, то сто раз спрашиваю у прохожих дорогу.
Так и тут. Я вышла из метро на улицу Горького, теперь это Тверская, спросила у прохожих, куда идти, чтобы попасть на Красную площадь, и пошла, помню, по левой стороне.
Все в Москве мне нравилось: и люди, и улицы, и дома, и то, что при широких проезжих частях не слышен шум транспорта, – он просто отлетает куда-то ввысь, а до людей доносится только тихий-тихий шорох. Даже нравился воздух, пахнущий стариной, значительностью и избранностью. Я шла, счастливая от осознания, что вижу места, много раз описанные в книгах, что нахожусь в средоточии русской истории, нашей современной власти и центров влияния в науках и искусствах. Так бывает, когда прикасаешься к мечте, к чему-то лучшему в мире и понимаешь, что это вершина, за которой только высь осиянная. Невольная улыбка цвела на лице и ощущалась мной, но она не мешала, как и звезда наша над головой, животворная.
Понимая, как редки такие минуты, я ловила и смаковала собственное упоение, жалея только о том, что нахожусь тут сама, что нет со мной мужа и отца-мамы, которым я всегда хотела бы отдать свое лучшее, свое последнее. А пусть бы и они почувствовали это чистое счастье, ведь по приезде я не смогу передать им свое нынешнее состояние, никакими стараниями не смогу навеять это дивное ощущение бытия! Но уже одно то, что, находясь тут, я думала о них, родных-дорогих, что перед моими глазами стояли их святые лица, вплетало их сюда, соединяло с этим миром, бесконечно прекрасным и нравящимся мне, с которым хотелось не расставаться.
Далеко впереди почудилось что-то знакомое, и я встрепенулась, подумав, что вижу земляка. Сколько ни ездила по чужим краям, ни разу не было такого, чтобы не встретила кого-то из Днепропетровска. Чудеса таких встреч сопровождали меня и повсеместно повторялись. Это бывало в столь неожиданных местах, что порой даже походило на мистику.
Плотная толпа, движущаяся навстречу, не позволяла четко видеть перспективу, хоть я после знакомого промелька и мотала головой, выискивая просветы в ней, ловя детали. Сначала ускорила шаги, а потом ругнулась на себя и, наоборот, замедлила движение, ибо только так встреча с промелькнувшим знакомым могла произойти при наименьшей относительной скорости, когда удобнее все рассмотреть.
Фигура, сближения с которой я ждала, вынырнула внезапно, узнаваемая сначала по плечам и посадке головы, по прическе и походке – плавной, словно плывущей. А потом и по чертам лица, конечно. Это оказалась Юлия Борисова. Все в ней было знакомым до мелочей, хоть подходи и здоровайся запросто, как с подругой или соседкой. Одно оказалось неожиданным и сдерживало первый порыв мчаться навстречу, ибо веяло от него отрезвляюще чужим, отгоняющим иллюзию близкого знакомства – высокий рост. Возможно, это было и преувеличенное впечатление, подчеркнутое черными брюками с узкими штанинами, и высокими каблуками тоже… Но оно создавало равновесие между двумя крайностями: знанием человека и полным неведением о нем – и устанавливало дистанцию, требующую соблюдать норму поведения.
Она шла, немного покачиваясь в талии, как будто там был шарнир, в котором статика торса превращалась в динамику нижней части тела, отчего все оно напрягалось и дрожало, как паруса под ветром.
Гордо вскинутая голова, устремленный вперед и ввысь взгляд… Так ходить умеют не многие. Я, например, то и дело посматриваю под ноги, чтобы не споткнуться, не ступить в выбоину и не упасть, ломая кости. А она нет, не боялась. Так свободно шла! И это выглядело красиво. Душа тихонько запела – вот как близко все то, что на самом деле до умопомрачения далеко!
Я дошла до конца улицы, уперлась в ограниченный простор, организованный так, что он казался перпендикулярным ей, ища глазами главную площадь страны. Но… ее вроде бы не было. Подземный переход, куда я решила спуститься после долгих раздумий, надеясь, что не потеряюсь, вывел на противоположную сторону того, что находилось дальше по изначальному ходу моего движения. Что это было? Какой-то островок… Неужели это и есть Красная площадь? Я оглянулась и снова увидела вокруг море движения и нечто такое широкое, что его и улицей назвать было нельзя; но и не площадь это была, потому что я не видела ни Кремля, ни собора Василия Блаженного, ни Мавзолея Ленина. Это было как поле качающейся ржи, только верхушками стеблей были не колоски с хлебным зерном, а автомобили с лихими пассажирами.
Я тряхнула головой, отгоняя фантомы. Ну какое поле…
Автомобили, как игрушки, как маленькие сгустки тьмы, как привидения, гонимые неизвестным ужасом, как разноцветные тени от быстро вращающихся зеркал, перегоняя друг друга, страшно перестраиваясь в рядах, мчались невероятно быстро поперек моего взгляда. Мощь расстилающегося под ними простора поглотила звуки, только слышалось шуршание колес, удерживаемых при земле вездесущим трением, а то бы автомобили давно уже взмыли вверх. И снова такой звук, живой – словно это дул ветерок вдоль поля с созревшей кукурузой, желтой от возраста, которая качала свои высохшие длинные листья, а те бились друг о друга и производили равномерный ритмичный звон.
Грандиозность виденного согнула меня, огорошила, и я почувствовала, что точно теперь потеряюсь тут и никогда-никогда не найду дорогу домой. Это заставило съежиться и быстро пуститься в обратный бег, повторяя с маниакальной дотошностью все повороты и переходы прежнего маршрута.
С тем я и вернулась домой. Рассказала свои одиссеи… А муж рассмеялся. Оказывается, до Красной площади я не дошла – меня впечатлил своими размерами и погнал назад проспект Карла Маркса (теперь эта его часть называется улицей Моховой).
Герой из неудачного фильма
Шла ранняя весна 1968 года. Я легко и свободно училась на третьем курсе – уже освоилась и с русским языком и с жизнью в городе, вышла на пятерки по учебе и получала повышенную стипендию – 64 рубля, что соответствовало минимальной заработной плате в стране. Этого было достаточно, чтобы не брать денег у родителей и вволю бегать с Юрой в кино.
Кино заменяло книги, на которые не хватало времени. Да и другие соображения не позволяли много читать, как раньше. Например, чувствовалось, что надо жалеть мозги, устающие от математики, и не грузить их другими материями. Лучшим отдыхом для них были прогулки по городу, чему мы с Юрой охотно предавались. А еще нельзя было надолго выходить из ауры основных предметов, настроя на них, впускать в себя другую атмосферу. Это размывало то, что называлось концентрацией на теме.
Короче, в кино мы ходили часто, это был для нас праздник. И вот вышел в прокат фильм, снятый по роману Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» – вообще сказка! Как было пропустить его? Я с нетерпением ждала, когда он приедет в наш город.
Настораживало одно – что его снимала киевская студия им. А. Довженко, зачастую гнавшая художественно некачественное кино. Режиссер был какой-то малоизвестный – Евгений Шерстобитов, нижайшего пошиба. А если режиссер еще и в сценарий лез, то это вообще завал, полная халтура. Тут же именно так и было. В подтверждение своих слов о позорных страницах студии им. А. Довженко назову только два фильма, снятых по гениальным книгам Михаила Стельмаха: трилогию «Большая родня» и «Гуси-лебеди летят» – искромсанных, фрагментированных, исковерканных и изгаженных бездарными сценариями, плохими актерами с жуткой дикцией, торопливой работой операторов. Ну все наперекосяк! Все в этих экранизациях было таким, словно главная цель состояла не в работе над материалом, а в чем-то другом. Бедный Стельмах – как он пережил такое надругательство? Правда, фильмы эти снимали позже, после «Туманности Андромеды», но и до нее немало было мусора у этих киношников.

Кого бы я похвалила, так это монтажеров, дизайнеров и художников по костюмам.
Так вот книгой «Туманность Андромеды» я зачитывалась в старших классах, знала наизусть имена ее главных героев: Веды Конг, Низы Крит, Чары Нанди, Дара Ветра, Эрга Ноора, Мвена Маса и Эвды Наль – и была под впечатлением от их историй, хотя и не все мне в них нравилось. Даже в насыщенные нелитературными материями студенческие годы я практически не расставалась с ними – в короткие промежутки между занятиями зачитывалась продолжением этой эпопеи «Час быка». Да, все же нельзя сказать, что мы не читали совсем. Помню, бегала по общежитию, брала у кого-то из математичек зачитанные журналы, где она печаталась.
Конечно, в моем воображении сформировались свои герои «Туманности Андромеды», были они красивыми, молодыми и сильными! Какими их описал Иван Ефремов.
Наконец случилось – мы идем в кино в кинотеатр «Панорама», широкоформатный. Билеты куплены заранее, в кассах, что за углом. В вестибюле играет тихая-тихая, ненавязчивая как дыхание ветерка музыка. Мы прогуливаемся, изучая новые портреты киноактеров, перебрасываемся фразами, говорим какие-то слова, неважно какие – лишь бы слышать дорогой голос в ответ, держимся с Юрой плечом к плечу, он касается моего локтя.
Звонок к началу сеанса. Мы в потоке других зрителей устремляемся в широко распахнутые двери с билетерами по бокам. У наших билетов отрывают корешки, и мы затекаем в зал, проходим на свои места. Как всегда, я капитально уселась в кресле, сняла с плеч пальто, опустила за спину. Юра взял меня за руку. Пошли титры, затем первые кадры...
И тут я сникла. Постепенно с моего лица исчезал восторг, как будто кто-то смывал его оттуда мокрой щеткой. По-моему, оно даже вытягивалось вниз и становилось плоским. Хорошо, что в зале было темно и этого никто не видел. Я дурнела от горя – так ударить по моим лучшим надеждам, по ожиданиям!
Сергей Столяров, бывший красавец и кумир публики, был оскорбительно стар для Дара Ветра, тяжел, безрадостен... Его шестой десяток был на исходе, а ему всучили роль молодого ученого, перспективного, одухотворенного. Ну нет слов... Он жалко тряс задом, вроде стараясь, выжимал из себя плюгавый пафос, но от этого лучше не становился. Сейчас в статьях о нем читаем: «Эта работа завершила галерею героических образов, созданных Сергеем Столяровым в кино». Ну каких героических, Господи прости? Человека гнула страшная болезнь, что чувствовалось даже с экрана... Да он просто сразу после съемок умер, и по этой причине не был снят фильм-продолжение! Это откровенный позор – снимать умирающего мужика в роли юноши!
Николай Крюков, с его квадратным и мрачным лицом, сколько бы ни пнулся, но никак не тянул на Эрга Ноора – умного, легкого, обаятельного. Этот актер надумал изображать такого себе космического героя с широкими жестами, а ему пристало бы играть убийц и морских разбойников с нулевым интеллектом. Ну еще бы заморских деляг... Вот в «Последнем дюйме» он гениален, на своем месте! Зря ему премию не дали за эту работу. И Тит Бородин в «Поднятой целине» у него получился, и Иен Кейпл в «Смерть под парусами»... Да везде он был хорош, этот великолепный актер, – только не здесь! Тут он получился какой-то непропорциональный, низенький, слишком плотный для интеллигента, нестройный, кривоногий... Ну 52 года мужику стукнуло – старый дядька! Куда его в женихах было снимать?
То же можно сказать и о Веде Конг, в которой снималась Вия Артмане – настоящая красавица всех своих времен. Хоть ей и было в ту пору только 36 лет от роду, и героиня могла бы иметь такой возраст, но все же на молодого историка она никак не походила – толстовата, простовата, с тяжелым обвислым низом. Вот сниматься в роли теток с трудной судьбой, которые еле тянут ноги, – это ее. Даже старые и пополневшие сумасбродки с широкими чреслами типа Джулии Ламберт из фильма «Театр» ей шли. Зачем-то нацепили на нее тут парик с длинной паклей, от которого упариться можно и на расстоянии пробирает аллергия. Эти «красоты», словно предназначенные возбуждать в постели восточного сластолюбца, никак не сочетались со строгим режимом и образом жизни на звездолете, где места и воздуха мало, воды мало, где тесно и не место размахивать волосами и бить ими по лицам других участников полета. Ну не была она идеалом будущего, хоть тресни.
Свои разочарования принесла вытащенная из неизвестности некая Татьяна Волошина – кто такая, откуда и зачем? Такая непохожая на то, что я себе представляла, что фу! Вот прошло время и на щедро-просторных страницах Интернета не нашлось места даже для ее фотографии. Кого угодно там можно увидеть, а ее нет. Дали ей роль Низы Крит, влюблённой в капитана Эрга Ноора, которая по книге является грациозной, гибкой и необыкновенно красивой. А тут – вздыхающая особь, высокая, стропилистая, с непонимающим взглядом, озабоченная не астронавигацией, а тем, чтобы быть рядом с возлюбленным. Она вроде и красивая, а не то...
В фильме не нашлось места Чаре Нанди с индийской кровью и Эвде Наль, жалко. По книге это хорошие заметные герои, не второстепенные.
И неспортивная Людмила Чурсина в постоянном шлеме тоже... Другие актеры – все как на подбор старые, осунувшиеся, с несвежими лицами, грустно некрасивые, прочно-второстепенные... Не об этом писал писатель-фантаст, не о таких людях. Не спасли их ни уникальные по дизайну костюмы, ни то, что они шикарно сидели на актерах, ни актерская выучка и заученные движения звезд...
Нынешние критики пишут: «Изобразительность фильма крайне высока – несмотря на отсутствие компьютерных спецэффектов, практически все эпизоды фильма достаточно зрелищны. В качестве интересных деталей, связанных с фильмом, можно отметить предмет на столе Дар Ветра, по своим размерам, внешнему виду и назначению совпадающий с современным ноутбуком». Да, это так. Приятно, что хоть что-то можно похвалить в этой работе. Хотя это чистая американщина – восторгаться цацками...
Фильм не в дугу. Не получился. Испортила эта компашечка мои юные впечатления о прекрасной книге... И эта горечь не оставляла меня ни-ког-да.
В июне 1983 года мы с мамой были в Ленинграде – гуляли. Ходили по музеям, ездили по пригородам, дефилировали по проспектам и бегали по театрам. На одной из прогулок встретили Николая Крюкова – вспомнилась «Туманность Андромеды» и мое горькое разочарование.
Он издалека шел навстречу нам, и я его сразу же заметила. Пока мы сближались, разглядывала его – да, та же узнаваемая походка, угрюмость всей внешности, короткая шея, недобро-острый взгляд человека, не пропускающего дичи. На нем обычные темные брюки и блузон, на голове – бейсболка. В руках он нес авоську (тогда пластиковых пакетов еще не было) с продуктами. Видно, выскочил из дому за покупками.
Проходя мимо нас, почувствовал мой интерес и резанул меня взглядом.
Странно, что я долго путала этого актера с Сергеем Столяровым, казались они мне очень похожими. И после поездки рассказывала в институте сослуживцам, что видела в Ленинграде Сергея Столярова. Но вокруг были такие большие «знатоки» театра и кино, что никто не поправил меня, хотя Столярова к тому моменту 15 лет как не было. Свою ошибку я исправила сама – уже с помощью Интернета.
Счастливые люди
Был февраль, начинался год 15-летия нашей свадьбы… Что он нам принесет, думалось нам. Что принесет, то тем приметам прочитает будущее, загадывала я.
Мы с мужем неожиданно оказались в Москве. Правда, всего на несколько дней, но и их нам хватило на то, чтобы запомнить эту поездку на всю жизнь. О ней я буду не раз вспоминать, так что к концу книги она обрисуется полностью. Тут скажу лишь, что жили мы около Кремля и имели возможность по вечерам гулять в его окрестностях, а также по центру столицы. Юрий Семенович бывал в ней чаще. К тому же он любил и умел много ходить, так что знал все уголки Москвы в пределах Садового кольца. Вот он и показывал мне их, комментируя, кто тут жил, чем они знамениты в истории СССР.
Помню, мы прошли вдоль дома Горького на Никитской, за неимением времени внутрь не заходили. Но и это дало пищу моей душе – позже я много прочла о нем и узнала, какой редкой красоты и значимости это произведение искусства.
Юрий Семенович рассказывал, потому что бывал здесь:
– Прекрасный особняк Рябушинского, где Горький прожил последние годы. Лестница с красивыми перилами, витражи, росписи, роскошная мебель, книги, рабочий стол Горького с очками, рукописью, карандашами, за стеклом пальто и сапоги... Портреты Горького работы Корина, Григорьева, много фотографий.
– Да-да, – говорила я, счастливая тем, что муж это видел. Хотя бы видел…
Затем мы прошли на Спиридоновку и остановились у менее красивого здания.

– В этом доме с 1941 года жил и работал до своей смерти в 1945 году Алексей Николаевич Толстой, – рассказывал муж.
– Рядом с Горьким… – заметила я.
– Да, ведь этот дом представляет собой часть бывшей усадьбы Рябушинских, – Юра показал рукой в сторону: – Видишь главное здание, возле которого мы только что были?
– А адреса разные…
– Это один и тот же квартал, просто вход в усадьбу с разных сторон. Ну, конечно, усадьба большая была…
Мы ходили по прекрасным чистым улицам, где не бывает шума и большого количества людей, и дышали воздухом русской литературной истории.
Ближе к вечеру вернулись в центр – нас притягивали к себе театры. Мы прошли мимо Малого театра, посмотрели афиши, но билетов, конечно, не было. Пошли дальше и тут встретили направляющегося на работу Валерия Носика. В джинсах и клетчатой сорочке с коротким рукавом он был такой весь чистый и причесанный, настиранный и наглаженный, что казался только что вышедшим из душа. На его правом плече небрежно висела черная объемистая сумка, впрочем, полупустая, что придавало ей еще большей живописности. Походка была неспешная, но не небрежная, а такая, какой ходят вполне довольные жизнью люди – степенно-значительная, когда каждый шаг делается с радостью. Как и все актеры, он смотрел так, чтобы ни с кем не встречаться глазами. Этому надо было учиться. Я так не умею.
– Вот прошел мимо нас счастливый человек, – сказала я. – Вроде простой с виду, но с каким достоинством, какой походкой он нес себя…– Жить в центре Москвы – это уже счастье…
На следующий день, покончив с делами, мы помчались на проспект Мира в Дом моды Вячеслава Зайцева. Это было за Садовым кольцом.
Издалека этот дом в несколько этажей казался больше похожим на какое-то промышленное здание. Слишком простой архитектурно, выкрашен запылившейся желтой краской… И только большие буквы «Дом моды Вячеслава Зайцева», укрепленные на крыше, как когда-то укрепляли скачущих на лошадях всадников, говорили о том, что мы попали туда, куда хотели.
– Еще один счастливый человек, – усмехнулся Юра, показывая на эту надпись. – Это какой же мощью надо обладать, чтобы у нас сделали такую рекламу человеку, словно в Париже где-то... Надо же – дом Зайцева! – не унимался он.
Тем временем мы подошли к зданию. Поравнявшись с первыми окнами, тут же заглянули в них, поспешая к входу. Каким же было мое удивление, когда с витрины мне усмехнулся сам Вячеслав Зайцев!


Оказывается, он там что-то поправлял на манекенах, а может, наряжал их в новые модели, и тут, разогнувшись, увидел мои горящие любопытством глаза и лучезарный взгляд с искорками нетерпения. Как ему было не улыбнуться?! Едва мы оказались в вестибюле, как он к нам вышел из-за манекенов.
– Вижу, вы у нас впервые, – встретил нас он.
– Да, – ответила я, остановившись. – Здравствуйте.
– Что вы намерены посмотреть?
– Все хочется посмотреть. И кое-что купить.
– Шубы, костюмы, платья? Из текстиля или трикотажа?
Я посмотрела на мужа, заколебалась с ответом.
– Что-то недорогое, чтобы память осталась.
Так мы поговорили, рассказали из какого города приехали, что в Москве по делам и заскочили сюда из любопытства. Вячеслав Михайлович обрадовался: дескать, это же симптоматично, что очень занятые люди, приехавшие в Москву из солидного промышленного региона в командировку, спешат не куда-нибудь, а в Дом моды. Значит, знают его там.
– Знают, знают! – подтвердила я.
– Ну, идите, – сказал Зайцев. – Выбирайте покупки, а я вас найду.
Сначала мы пошли в трикотажный отдел, купив по пути каталог их моделей. Да какой это был буклет – изготовленный на бумаге «яичная скорлупа», самого высокого качества, картинка и только! Тут были выставлены такие роскошные, такие необыкновенные наряды, что на них можно было только смотреть. А если надеть, то только для того, чтобы сидеть в кресле. Куда мне было их носить? Но глаза разбегались…
Нет, нам лучше было посмотреть модели из текстиля. Мы перешли на другой этаж, прошли не к выставленной экспозиции, а в торговый зал, где продавались образцы для повседневной носки. Чего тут только ни было! Себе-то я выбрала покупки легко, а вот маме подобрать ничего не удавалось, а так хотелось привезти ей подарок от самого прославленного Зайцева. Она ведь видела его по телевизору, слышала о нем… И ей тоже хотелось прикоснуться к столице каким-то образом.
И тут снова появился Вячеслав Михайлович, вопреки моему мнению, что это у него была такая формула прощания – «найду, ждите».
– Выбрали?
– Себе выбрала. А вот маме…
Вячеслав Михайлович расспросил о моей маме и куда-то исчез. А минут через десять появился с двумя прекрасными юбками – одна из бостона, простая по крою, но очень красиво отделанная блестящей лентой, с отстроченными шелком вытачками. Вторая юбка была из синтетической ткани с легкой драпировкой по бокам, модная и немнущаяся.
Конечно, и я и мама с радостью носили эти столичные наряды. Я иногда думаю, какие незначительные пустяки делают нас счастливыми! Но пустяки эти обязательно сотворены человеческими руками и приходят они к нам через человеческие отношения. Вот это и есть главная ценность на свете – добрые человеческие отношения.
Потом у меня была еще одна встреча с Зайцевым, но об этом – дальше.
Волнительный голос Паганини
Все время стараюсь вспомнить, что это был за фильм, но тщетно. По идее это мог быть «Рецепт ее молодости», вышедший на экраны в марте 1984 года и попавший к нам в мае.
Речь о Сергее Шакурове, однажды презентовавшем у нас фильм, в котором играл главную роль.
Предыстория такова.
В то время я еще оставалась во ВНИИмехчермете, где успешно трудилась над разработкой принципа противоизносной решетки для аглоэксгаустеров. И имела много изобретений, на оформлении которых набила руку и шпарила одно за другим. Окончательную экспертизу и регистрацию они проходили в Госкомизобретений (Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике) в Москве. Теперешний Роспатент. Там был то ли куратор, то ли инструктор, то ли эксперт по моей теме, к которому попадали все мои заявки. И вот решила эта девушка посмотреть на меня – что это за прыткая дамочка пуляет ей изобретения одно за другим, да еще стоящие?
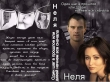
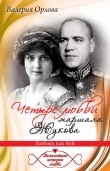

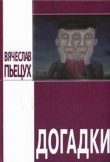
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)