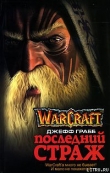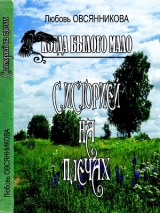
Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Правда, был один человек, тоже косвенно пострадавший от пропажи, – Володя Москальцов. Володя сильно заикался, его речь невозможно было понять. Но вскоре на уроках пения Наталья Дмитриевна приметила, что он обладает очень хорошим голосом и, когда поет, не заикается, его дефект исчезает. Тогда она предложила ему методику исправления речи – говорить слегка нараспев, представляя в мыслях, что он на самом деле поет. Она учила его этому после уроков, отдельно занималась с ним пением, выбирая песни из украденного сборника, развивала и исправляла его выговор. И это срабатывало!
Кто взял книгу, осталось неизвестным. Так и жил в нашей памяти этот случай, никогда и ничем не приоткрыв своей тайны. Книга, конечно, могла потеряться и в другом месте, например, дома у самой хозяйки или в канцелярии, где учителя собирались в начале и в конце рабочего дня...
Просто ее не стало. И даже летние каникулы не приглушили обиду бедной женщины, и к началу нового учебного года она пришла с удрученным видом. И вот итог: она больше не хотела разделять наши радости, даже если они были связаны со всенародными достижениями. Запуск спутника, казалось, ее не радовал. Почему-то именно так связались в моем представлении эти события.
А ведь однажды Наталья Дмитриевна совершила аналогичный поступок по отношению к моей маме, с той только разницей, что она уже была учительницей, а моя мама – ученицей, обманутой ею и по-крупному обворованной... В книге о родителях я напишу об этом подробнее. Случай этот был возмутительным и громким, но на упоминаемый момент память о нем приутихла, потому что между ним и этим радостным запуском спутника пролегла война. Да и не только война… В тот период, когда Наталью Дмитриевну уличили в воровстве, она была возлюбленной инструктора райкома партии. Шутка ли, обвинять такого человека в тяжких грехах?! И все же… Минуло несколько лет, молодая Наталья Дмитриевна родила от возлюбленного дочь Нелю, он даже дал девочке свое имя, но сочетаться браком с ее матерью не смог.
Кто знает, как бы оно было дальше, но после войны этого человека в наших краях не стало. Книга памяти сообщает, что он пропал без вести в боях за Севастополь 3 июля 1942 года, а другие источники говорят, что нет, что он был жив еще в 1943 году и даже под руководством Запорожского обкома партии партизанил в наших краях. Одним словом – небезупречные люди и темная история.
Вот так всегда светлое и радостное переплетается с досадным. Проклятое двуединство всего сущего!
Денежная реформа
Сколько было тревог, когда в 1961 году начали денежную реформу! Люди готовились к обмену денег загодя, кто как умел. Даже моя мама, не ударяющаяся в панику, но боящаяся одного только голода, купила килограмма два колбасы «Одесская» (ее необыкновенной вкусности не передать, жаль, что теперешний народ не знает таких великолепных продуктов) и тут же смазала ее постным маслом, затем обернула в чистую марлю, чтобы хранилась дольше, – сделала запас на «черный день». У нас не было кучи денег, и думать о том, как их незаметно обменять на новые банкноты, не приходилось. Но коли все всполошились, то что-то делать надо было! Ее реакция на это событие была именно такой – беспомощной и трогательной. Оказалось, что «черный день» отменяется, и через месяц мы ту колбасу благополучно съели.
Мы жили по принципу птички божьей: будет день, будет и пища. Иначе говоря, без запасов, а непосредственно с колес, с зарабатываемых доходов. По-другому не получалось. До реформы папа получал 700 рублей, а после начал приносить домой 70. Разве не страшно было так много терять в деньгах? Но скоро мама убедилась, что и цены на товары и продукты изменились в таком же порядке, привыкла к ним и успокоилась.
Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года начали обменивать без ограничений на новые, выпущенные по соотношению 10:1. Какую-то сумму, что оставалась в доме, пришлось обменять и родителям. Они сделали это торжественно: пошли в обменный пункт вдвоем, празднично одевшись, тем самым как бы поддерживая это государственное мероприятие. Потом, принеся домой хрустящие купюры, долго рассматривали их, терли пальцами, пробовали на ощупь, смотрели на свет – изучали, чтобы быстрее привыкнуть и не путаться при производстве покупок.
Простые люди тогда не интересовались иностранной валютой, поэтому не обратили внимания на то, что до проведения реформы цена на доллар была четыре рубля, а после нее стала 90 копеек. Казалось бы, все прекрасно, ведь доллар подешевел. Но мама, работавшая в торговле, куда поступал импорт, быстро убедилась, что он резко подорожал. Она начала искать причину и делать расчеты. И обнаружила, что подорожание рубля по сравнению с долларом было некорректным, произвольным, самоуправным и вовсе не привязанным к денежной реформе. Короче, это была авантюра.
Если до реформы отец на свои 700 рублей мог купить 175 долларов (700 : 4 = 175), то после нее на зарплату в 70 рублей – лишь 77, 8 доллара (70 : 0,9 = 77,78). Чтобы он мог купить те же 175 долларов, доллар должен был стоить 40 копеек (70 : 175 = 0,4). Получается, что фактически рабочие потеряли в заплате ровно в два с четвертью раза (90 : 40 = 2,25). Естественно, очень скоро выросли в цене не только импортные товары, но и отечественного производства. Все цены уравнивались по очень сложной системе сообщающихся сосудов экономики.
Реформа, конечно, была здесь ни при чем, она служила лишь ширмой для спекуляции с валютой, произведенной Хрущевым за счет советского народа, и так обескровленного войной и голодом, не успевшего материально окрепнуть, встать вровень с тем, чего он заслуживал. Вот вам и хороший Хрущев!
Два выходных дня
Как только заходит разговор о календарной неделе – перед глазами возникает раскрытый школьный дневник. На левой странице шли понедельник, вторник и среда, а на правой – четверг, пятница и суббота. Шесть дней труда, касающегося и нас, детей. Нашей основной обязанностью была учеба, и ее показатели определяли наши качества: кто как относился к семье и какой вклад вносил в ее благополучие. Хорошее имя, уважение окружающих тоже считалось составляющей благополучия, пожалуй, второй по значимости – после хлеба. И во многом зависело от детей, их успехов и поведения. Это утверждение растолковали мне настолько рано, что оно стало моим инстинктом, и я училась и совершала все поступки – с включенным сознанием.
«До тебя ничего не помню, до тебя меня просто не было…» Эти стихи Майи Румянцевой вспоминаются всякий раз, когда речь заходит о переменчивых вопросах истории. Действительно, как избежать соблазна и не удариться в хронологию вопроса, как говорить только о том, что помнишь, если настоящее выплывает из прошлого, хоть тресни? С длительностью рабочей недели – та же картина.
Первые мои представления о продолжительности труда и отдыха сложились в те годы, когда был восьмичасовой рабочий день с шестью рабочими днями в неделю. Суммарное рабочее время недели, как видим, составляло 48 часов. Это был режим военного времени, и в этом смысле я могу считаться ребенком войны, ибо выросла и воспиталась в темпе жизни, продиктованном войной – в том же трудовом прилежании, в том же стремлении во всем быть первой, дойти до финиша без потерь. Не просто инерция борьбы и восстановления, но заряд прорыва к победе – вот что я впитала из того времени. Победить! – это был мой лозунг, впитанный из трудно добытого воздуха свободы, из хлеба освобожденных полей и из воды, рождаемой моей землей, израненной рвами и взрывами.
История вопроса относится к 1940 году, когда в связи с начавшейся Второй мировой войной и напряжённой международной обстановкой вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю (шесть рабочих и один выходной)».
Обратный переход происходил в 1956-1960 годы, по окончании послевоенного восстановительного периода. В нашем регионе рабочий день был сокращен до семи часов при шестидневной рабочей неделе в 1957 году, как раз тогда моя сестра окончила среднюю школу. А затем, через год или два, был осуществлен переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Рабочая неделя с тех пор составляла 42 часа.
Но учащихся это не касалось. До конца моего обучения, в школе в 1965 году и в вузе в 1970 году, у нас по-прежнему было шесть учебных дней в неделю и один выходной. Зато какую радость приносила суббота! В этот день родители оставались дома и превращали ее в праздник! Целый день они трудились для того, чтобы подтянуть и переделать все домашние дела и в воскресенье отдохнуть всей семьей. Возможно, именно поэтому получилось так, что я была несколько отдалена от домашних забот и не работала вместе с родителями на поле и в огороде, ведь этим они занимались в основном в субботу, когда я учила уроки или сидела за партой.
Видя это, папа иногда упрекал маму, что она растит из меня белоручку. Я слышала это. Но что было делать? Фактически он сетовал на объективные обстоятельства. У меня не только не было дня, посвященного домашним делам, такого, как у них суббота; но к тому же я ходила в школу во вторую смену и возвращалась домой к девяти часам вечера, когда дневные хлопоты завершались и родители готовились к отдыху. Получалось, что время, уходящее у меня на уборку квартиры, растопку печки и поддержание в ней огня до возвращения родителей с работы, ими не наблюдалось. Отец не видел этих моих трудов, понятно, что и не ценил их, воспринимая их результаты как должное.
К тому же он не принимал в расчет время, в котором я родилась – голод и мои болезни. А может, в отце сказывалось иное – он вообще не склонен был проявлять жалость и снисхождение к слабым. Странное это качество имело совсем не славянское происхождение и при его по-славянски отходчивой натуре просто поражало. Я задала вопрос об этом качестве отца психологам на одном из сайтов. И вот что мне ответили: «Физически сильных, которые стремятся проявить свою силу, смело приписывайте к слабым. Причины тому – комплексы, неустроенность, материальные трудности. Особенно больная тема – ум». И я задумалась, начала анализировать.
Сам отец свою недюжинную силу показывал редко, и то больше перед мамой. Но однажды повздорил с мужиками, подрался и на полтора года угодил за решетку. Неустроенности и особенных материальных трудностей у него не было, а вот насчет ума, да, одна особенность отмечалась – он никогда не переставал мучиться тем, что ему не удалось получить образование. Винил в этом страну, политический строй, а не те обстоятельства, в которые попала его родительская семья по своему выбору.
Мама берегла меня, это правда, ибо всегда помнила, какой ценой дала и сохранила мне жизнь, как мало досталось мне здоровья от рождения. И только благодаря ее бережному отношению я проживаю уже седьмой десяток лет.
Дедушкин сад
Кроме дома, в котором я родилась и прожила до четырнадцати лет, мамины родители оставили нам в наследство более дорогое – роскошный мичуринский сад с новейшими сортами деревьев, молодой и богатый. Мамин отец был колхозным бригадиром, что по выполняемым функциям сравнимо с нынешним главным агрономом. Как полагалось, в его ведение входило все, что рождалось, произрастало и плодоносило, питаясь от земли, в том числе и сады. Только в отличие от хлебопашества сады были делом новаторским, где-то даже экспериментальным, базирующимся на воодушевлении любителей – модным. Садоводство представляло собой романтику века, проявляемую на практике.
А век отличался интересом к природе. Это была эпоха развития генетики и биологии, пора их расцвета, их прекрасная молодость. Удивительные достижения русской науки в плодоведении столь увлекали советских людей, что многие из них заводили на домашних участках так называемые мичуринские сады, веря, что творчество в этой области по плечу каждому человеку, влюбленному в мир растений.
На самом деле Мичуринский сад – это название опытного сада, принадлежащего лаборатории плодоводства Московской сельхозакадемии им. К. А. Тимирязева – всемирно известного вуза России. Назван он был в честь великого ученого-самородка Ивана Мичурина, превратившего свой питомник в настоящую генетическую лабораторию. Это ему принадлежат известные слова: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача». Сейчас эта лаборатория преобразована во Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина, где продолжают вести исследования по разработке методов выведения новых сортов плодовых культур.
Вот такие домашние лаборатории фанаты садоводства заводили тогда повсеместно. Что говорить о главном колхозном специалисте по растениям?! – тут вопрос ясен. У него был образцовый и передовой по своим сортам сад, перемежаемый овощными грядками.
Сравнить тогдашнюю увлеченность людей садами можно с нашим увлечением космосом – сейчас энтузиасты организуют на чердаках домашние обсерватории и устанавливают на крышах домов телескопы, а тогда высаживали сады на своих участках.
Но мой дедушка ведь был агрономом по образованию, поэтому занимался не просто разведением садов, а подходил к этому с точки зрения помологии. Это научная дисциплина в агрономии, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений, сортоведением. В нашем домашнем мичуринском саду можно было найти много такого, чему дивились другие.
Если взять яблони, то здесь росло четыре антоновки, молоденькие, ароматные; одна пепенка с гнущимися до земли ветками; два деревца с краснобокими плодами (одно начало плодоносить в 1957 году, когда папа отбывал наказание за драку); три дерева зимних сортов – разных; одно деревце раннего «белого налива», а другое – тоже «белого налива», но средних сроков созревания. Было даже деревце с райскими яблочками – дичка с твердыми сладкими плодами красного цвета.
Видимо, груши дедушка любил не так, ибо в саду их было меньше и сорта не повторялись. Всего пять деревьев – но, ах, какие вкусные на них росли фрукты! Одно из них походило на дичку, с роскошной могучей кроной и небольшим количеством мелких плодов позднего созревания, терпковатых и твердых. Из них получалось отличное варенье! Одно деревце – мы его сорт называли «дуля», но, скорее всего, это неправильно – тоже начало плодоносить на моей памяти, наверное, году в 1954-м.
Имелось четыре абрикосовых дерева, расцветающих по весне нашим степным флердоранжем. Три являлись наиболее старыми жителями сада, а одно начало плодоносить в год рождения Светы.
Посредине огорода росла одна роскошная слива, зрелая уже, с неповторимым вкусом – ренклод!
Вдоль южной границы усадьбы шел целый ряд вишен-шпанок, штук их там было с десяток, причем одна – с привоем ранней черешни.
А еще в зарослях межи росли две шелковицы: на южной стороне – молодая (рядом с нею рос молоденький стройный граб), а на западной – старая, встроенная в живоплот из желтой акации.
Ну а вся северная межа состояла из зарослей простой вишни с включениями яворов и белой акации.
Кроме того, на усадьбе имелась небольшая домашняя пасека, располагающаяся на прямоугольном участке, огороженном кустами чайной розы. Северной стороной она примыкала к грядкам с луком и чесноком, подходящим к задней стене колодца, а восточной соседствовала с участком, предназначенным для бобовых и выходящим на куриный двор. Западный край участка выходил на растущие в ряд абрикосу и грушу. Под этой грушей замертво упала моя бабушка, защищавшая сынов от угона на расстрел. Пасека располагалась недалеко от подворья, и запах роз заливал пространства, где я любила гулять.
После гибели маминых родителей пасека опустела, ухаживать за ней было некому. Папа сначала долго отсутствовал, а потом выяснилось, что он не любил пчел, и впоследствии, сколько ни пытался разводить их, дело кончалось полной распродажей пчеловодческого инвентаря. Вот и здесь несколько опустевших ульев, словно памятники, еще долго стояли на пасеке, трухлявея под дождями, ветрами и солнцем, пока древесина совсем не прогнила и не развалилась. Да и потом останки бывшего процветания, кажется, не унесли оттуда, а оставили догнивать и удобрять почву. Так мама продлевала для себя память о родителях.
Кусты розы разрастались, правда, не так быстро, как желтая акация, но все равно за ними надо было ухаживать, вовремя подстригать. Мама требовала от отца, чтобы все оставалось так, как при ее родителях. Нехотя он это делал, а потом начал корчевать кусты. Когда мы построили новый дом, а старый продали с частью усадьбы, то бывшая пасека, о которой напоминал лишь один чудом уцелевший куст розы да неиспользуемый участок земли, достаточно утрамбованной, отошел новой хозяйке. А она расправилась с этим наследием с еще более прыткой безжалостностью, чем мой отец.
Отец вообще не любил землю, приусадебное хозяйство, не умел его вести, просто терялся перед ним. Он не знал, что делать со старым садом, как его поддерживать и обновлять. И все предоставил времени. Из всех домашних занятий с особым удовольствием только куховарил. Поэтому он вовсе не расстроился, когда вышел хрущевский указ о налогах на плодовые деревья и кустарники. Еще до того, как по дворам пошла инспекция с описями садов, он под сурдинку вырубил почти все деревья, показавшиеся ему лишними.
Со стороны властей это был очередной поход против народа. Еще можно было понять Сталина, если бы он это сделал для пополнения казны в тяжелое послевоенное время. Но нет, Сталин поднимал страну из руин без изымания денег у людей. Налог был введен Хрущевым, когда после войны прошло больше десяти лет и страна прочно встала на ноги. Позже хрущевские идеологи, отрабатывая свой хлеб, придумали отговорки, что непопулярные меры принимались исключительно ради "искоренения мелкобуржуазной психологии". Тогда не только обложили налогом плодовые деревья и домашнюю живность, но заодно ввели ограничения на торговлю на колхозных рынках.
О том проклятом времени хорошо написал поэт Владимир Фирсов в стихотворении «Сады», оглядываясь на него из благополучных годов брежневской эпохи:
Все деревня забывает —
Горе горькое,
Нужду,
Будто весело срывает
Груши-яблоки в саду.
Будто не было печали,
Той непрошенной беды,
Будто вовсе
Не дичали
И не падали
Сады,
Будто бы она не знает,
Сколько лет прошло с тех пор,
Как, усталости не зная,
По садам гулял топор.
А топор
Нещадно рушил
Эдакую красоту!
Были яблони и груши
С ароматом за версту…
Все деревня забывает,
Было —
Поросло быльем…
Нынче снова вызревают
Яблоки в саду моем.
Нынче снова озорует,
Подрастая, ребятня
И, конечно же, ворует
Яблоки и у меня.
И, как солнце в чистом небе,
Мне понятна эта страсть.
Мне же в детстве было негде
Даже яблока украсть.
При усадьбах было пусто.
Только кустики видны,
Только редька
Да капуста —
Как над речкой валуны.
Все деревня забывает
Горе горькое
Нужду.
Пусть ребята обрывают
Груши-яблоки в саду.
Благодарные деревья
Тянут ветви за плетни.
И гладят глаза деревни
По-иному
В наши дни.
Было ли так задумано или просто совпало, но наряду с этим Хрущев усиленно начал переселять людей из коммуналок в малогабаритные квартирки. Худо-бедно эти квартиры, безусловно, нужные многим людям, успокоили страсти и предотвратили взрыв негодования.
Но речь о нашем саде. Первыми нашими жертвами Хрущевской политики стали все четыре антоновки – как самые высокие, которые обрезать и опрыскивать было неудобно. Эти деревья являлись настоящими рассадниками гусеницы, она плодилась на них с неимоверным размахом и азартом. Оборонять их от ее туго сплетенных гнезд представлялось делом безуспешным при всех папиных стараниях. Да к тому же и плоды антоновки, крупные и ароматные, при малейшей червоточине сгнивали еще на ветках и опадали уже негодными. Полакомиться ими успевала только я. Какой резон был бороться за эти деревья, занимающие немало места в саду?
Затем сложила голову дичка с красными райскими яблочками. Они были хороши для варений, но варенье мама заготавливала редко, на компоты хватало плодов с других падалок, а на что-то другое райские яблочки не годились. Следом пошла густолистая роскошная, красивейшая груша с мелкими терпкими плодами. На самом деле она была культурным деревом, только это был зимний сорт, выведенный для производства цукатов и фруктовой сушки. Такая его узкая «специализация» не служила популярности сорта, за что бедное прекрасное дерево и пострадало. Заодно папа снес и деревца простых вишенок, сопровождавших эту грушу – уничтожил весь восхитительный островок почти первозданных зарослей в нашем саду, где в жару я любила полежать с книгой на старых одеялах. Эх, жаль мне его! Недолго я там роскошествовала, а помню всю жизнь.
Следующим порядком пострадала зимняя яблонька, росшая в палисаднике между двумя абрикосами. Была она молоденькой, неокрепшей и с неудавшейся судьбой – росла в слишком затененном месте, закрываемом и более разросшимися абрикосами, и живоплотом из желтой акации. Пожалуй, у нее и не было бы счастливого будущего, хотя она успела несколько раз принести плоды, которые мы бережно снимали, укладывали в солому и хранили почти до весны. Я бы ей все-таки дала шанс, но кто у меня спрашивал...
Пепенка погибла позже – на ее месте возвели новый дом. Прямо над местом, где она росла, оказалась моя спаленка. Я всегда чувствовала ее присутствие, и, казалось, яблонька была благодарна мне за это. Свою комнату я любила, любила сидеть за столом и писать дневник, читать, больше не отдавая предпочтение саду.
Еще одна яблоня, приносившая обильный урожай хрустящих краснобоких яблок зимнего сорта долго сопротивлялась… На новой усадьбе она оказалась посредине куриного дворика, и куры, облюбовавшие ее вместо дневного насеста, подавили в ней жизнь.
Яблоньке с крупными краснобокими яблоками, по словам мамы, позже всех посаженной в саду, пришлось нести вахту у крыльца нового дома – в месте трудном, как любая граница. И она бы еще жила, но не стало ее хозяев, а новым она оказалась не дорога.
Не найти слов, чтобы сложить оду моему саду, дорогому моему уголку, поднявшему меня и окрылившему, где в уединении читала я сказки и стихи, где мечтала и готовилась к будущему. Окутывал он меня собою, своим живым трепетом со всех сторон, словно сказочный Рай, обитель фруктов и наитий, и казалось, что защищена я им была от всех бед и обид, от всех невзгод и горестей. Конечно, лишь казалось, но как сейчас недостает той чудотворной иллюзии! Низкий поклон ему за старания насытить меня плодами, укрыть в тени, защитить от ветра, и благодарность великая за любовь к Родине, которой он наполнил мое сердце так, что хватит до последнего часа.
Авария в Чернобыле
Тот черный день хорошо помнится. Не припоминаю я его, а именно помню – из-за произошедших тогда исключительных событий. Это была суббота, но мы работали за понедельник, чтобы удлинить первомайские праздники. Трудовая неделя получилась длинной, утомительной. Вечером последнего ее дня хотелось ничего не делать, а просто прийти домой и расслабиться, сесть и отдохнуть, вкушая радость подступающих торжеств с непременным маршем мира и дружбы по городу, который назывался демонстрацией.
Но это был не просто один из дней календаря, это был день нашего с Юрой рождения – нашей свадьбы. В 1986 году нам исполнялось семнадцать лет, юность семьи. И мы не могли не готовиться к нему.
Мы жили тогда на улице Комсомольской, в доме № 24 – эксклюзивном четырехэтажном доме для специалистов Шинного завода. Если бы наша квартира не была угловой и холодной, цены бы ему не было.
По дороге с работы домой к нам зашла моя сестра Шура, и мы, конечно, поужинали вместе и посидели за разговорами. В то время мы выписывали штук двенадцать толстых литературных журналов и все их прочитывали, так что поговорить всегда находилось о чем. Как раз разгорались перестроечные полемики, появлялись публикации, коим раньше не светило наше внимание, типа статей публицистки Натальи Ивановой, невестки Рыбакова, его же «Детей Арбата», «Зубра» Гранина, «Белые одежды» Дудинцева, «Новое назначение» Бека. Книга Александра Бека, правда, не перестроечного периода, она была закончена в 1964 году, но по причине художественных недоработок задержалась с изданием и впервые отдельными главами вышла в 1971 году в ФРГ. На такой шаг мог решиться только умирающий автор, ибо публикация за рубежом – это был приговор, после которого появление книги на Родине не могла быть осуществлено по цензурным соображениям, ей не нашлось бы места в советской литературе. Но, как говорится, «пришел Горбачев и все пошло прахом».
Засиделись допоздна, потому что Шуре спешить было некуда – ее муж Василий находился в командировке в Кирилловке, где с группой сотрудников готовил базу отдыха своего предприятия к началу летнего сезона.
Телефона у нее не было, и мы не знали, как она добралась домой и что случилось после этого.
А случилось то, что ее квартиру обнесли. Обворовали!
Соседи уже все знали, дежурили, поджидая ее на лавочках у подъезда. Сердобольные люди боялись пропустить пострадавшую, стремились предупредить об ограблении, не оставить наедине с бедой, чтобы не стояла она озадаченно ночью перед опечатанной входной дверью, чтобы не разбил ее там паралич от догадок, горя и страха. Спасибо им…
– Мы увидели, что ваша дверь приоткрыта, – рассказывали они наперебой. – А ведь знаем что Василий в командировке, а вы на работе.
– Да, – продолжила другая. – Собрались вместе. Начали советоваться. Некоторое время сомневались, а потом заглянули и, конечно, сразу поняли, в чем дело.
– Тогда-то и вызвали милицию.
– Ну, они мигом приехали, нас вот с Сергеевной посадили у порога, при нас все осмотрели, изучили. Зафиксировали положение дела в бумагах, мы подписались…
Возбуждение сестриных соседок не унималось – как же так: они целыми днями дома, обязательно на лавочке кто-то гуляет, обозревая окрестности, и не предотвратили преступление. Правда, есть тут такие, что видели чужака, выходящего из подъезда с баулом в руках, запомнили его… Так ведь кто же мог знать, что это вор?! И вообще, пока об этом – молчок. Милиции о таком важном факте доложено, а те сказали: «Если хотите жить, помалкивайте. Спросим – тогда повторите свои показания».
Пошли к квартире все вместе, вошли… Соседки потоптались у порога для приличия, а потом с извинениями и выражениями сочувствия откланялись и ушли. А сестра пошла дальше – изучать урон.
Все тут оказалось порушенным, опрокинутым, разбросанным. На кухню зайти было страшно: на полу – рассыпанные крупы, мука, макароны… на стенах и предметах – мазки от испачканных мукой рук… В комнате валялись вынутые и перевернутые ящики серванта, откуда забрали новый мельхиоровый набор столовых приборов. В пуговицах, высыпанных горкой на диван, видимо, искали драгоценности. Из одежного шкафа, стоящего в спальне, забрали Васину новую дубленку и норковую шапку. Исчезли самые хорошие костюмы сестры, платья, съемный норковый воротник, зимнее пальто с норкой на синтепоне. Даже трусы и ночнушки ворюга разбросал по комнате, нашел новые лифчики, купленные в «Березке» на боны от спекулянтов, и тоже унес. Больше ценного в квартире ничего не было, так что ошибся он адресом, войдя сюда. Чертыхался, наверное, что так неудачно у него получилось.
С замиранием сердца сестра подошла к серванту, посмотрела на полки, где на виду стояли чашки-плошки из сервизов, используемых для праздничного стола, и две большие чайные чашки, недавно подаренные ей кем-то из коллег. Тут все оставалось на своих местах. Прикрыв глаза, тронула рукой внутренность одной чашки – пусто. Тронула вторую – золото оказалось на месте!
Ну что же, подытожила, присев на убранный диван, она осталась без гардероба – только и всего. Походит в стареньком, пока опять где-то достанет модные тряпки. Никто и не заметит.
В воскресенье, наведя окончательный порядок в квартире, приехала к нам – сообщить неприятную новость. А что мы могли? Ну поохали… опять вместе пообедали.
О том, что в этот день случилась планетарная беда, что произошел взрыв атомной электростанции недалеко от нас, мы узнали уже после Первого мая. Правда, было какое-то волнение среди людей… И нам кто-то сказал, что надо набрать чистой воды в запас, потому что вот-вот к нам по Днепру придет грязная… Но что стряслось и почему такое могло произойти, не знали. Мы набрали полную ванну воды… Хотя, зачем, если из нее готовить было нельзя, а смывать унитаз и плохая годилась. Постояла эта вода в квартире все праздники, а потом мы ее слили. И только после этого узнали правду…
Вряд ли мою сестру утешило бы это более значительное горе – она не очень чутка к всеобщим категориям, особенно, если не видела за ними личных потерь или неудобств. А кто их тогда видел и понимал? У нас с мужем страха не было. Как-то мимо нас это прошло…
Зато эпопея с обворованной квартирой через полтора-два месяца продолжилась. По уже известным милиции приметам в Харькове задержали сынка одного из влиятельных руководителей силовых структур – не помню теперь: то ли судьи, то ли прокурора – спросили его вежливо, не он ли наделал гадостей людям, и он во всем сознался. Да, домушничал. Много на его счету оказалось обнесенных квартир.
Привезли преступника на место преступления, устроили следственный эксперимент.
– Я попал сюда случайно, ночевал у знакомых. Утром вышел на остановку, чтобы ехать домой, и заметил очень хорошо одетую женщину. Она меня заинтересовала, – рассказывал преступник.
Короче, в то утро он передумал ехать домой и последовал за сестрой дальше. Проехал троллейбусом до центра, несколько кварталов шел сзади до промежуточной остановки нужного автобуса, которым она добиралась в свое село на работу. Это был пригородный маршрут «Днепропетровск – Новоалександровка», изучить который не составило труда. Сел вместе с ней в автобус, провел до школы.
С тех пор начал следить за этой женщиной. Это было легко сделать, ведь он знал, откуда по утрам она выходит на остановку, чтобы ехать на работу. Знал также и куда ездит. Опыт…
Потом проследил, где именно она живет, в какой квартире, изучил расписание дня.
– Да, – сказал он, – старухи могли видеть меня выходящим из их подъезда. А что можно было сделать? Я и так долго ждал момента, когда они уберутся со скамеек, чтобы зайти спокойно. А при выходе видеть ситуацию я не мог.
Конечно, все украденные у сестры вещи он уже сбыл с рук.
Был суд. Учитывая его чистосердечное признание, что он не отпирался и соглашался со свидетелями, ему дали, по-моему, пару лет. Ну и присудили компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб.
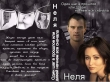
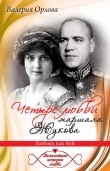

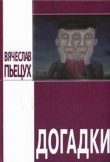
![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)