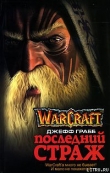Текст книги "С историей на плечах"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Annotation
Сложно, практически невозможно понять прошлое вне судеб тех, кто его творил.
М. Бердник
С историей на плечах
Любовь ОВСЯННИКОВА
После Сталина
Оттепель ли?
Соревнование с Америкой
Первый спутник
Денежная реформа
Два выходных дня
Дедушкин сад
Авария в Чернобыле
Глава 2. Мои кумиры
Пушкин у каждого свой
Прекрасный «Мичман Панин»
Советский Орфей
Не просто человек с гитарой
Заблудший рыцарь
Преданность Родине
Владимир Владимирович Путин
Иосиф Виссарионович Сталин
Создатель, бог и их олицетворения
ГЛАВА 3. Простые промельки
Образ спеси
Встреча со стихией
Принцесса Турандот
Герой из неудачного фильма
Волнительный голос Паганини
Нелюдь в человечьем образе
Прекрасный Сирано
С Аркадием Пальмом в душе
О, ярмарки книжные…
ГЛАВА 4. Их ауры сопутствовали мне
Уникальный шахматист
Олимпийская чемпионка
Волшебный владыка звучаний
ГЛАВА 5. Таллинская соната
Николай Георгиевич Гавриленко
Ильмар Романович Клейс
Йоханнес Хинт
Рис Вольдемар Фридрихович
Виталий Антонович Сацкий
ПРИМЕЧАНИЯ
comments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
С историей на плечах
Любовь ОВСЯННИКОВА
Глава 1. Остается память
Писать о своей жизни трудно и ответственно. Прекрасно об этом сказал И. С. Кон, известный антрополог: «Автобиография – очень коварный литературный жанр. Его обязательные правила: не лгать, не хвастаться, не жаловаться, не сводить счеты с покойниками (если ты кого-то пережил, это не значит, что за тобой осталось последнее слово), не увлекаться деталями, которые современному читателю непонятны и неинтересны, и не пытаться повлиять на мнение потомков (то, чего ты не смог объяснить при жизни, после смерти заведомо не удастся). Большинству мемуаристов это не удается. Но если паче чаяния ты сумеешь преодолеть все эти соблазны, то твой текст утратит обаяние личного документа и тем самым – право на публичное существование. Зачем же было браться за оружие?»
Но что делать…
Как и в прежних книгах, рассказ мой будет состоять из двух потоков: первый событийный – с кем и при каких обстоятельствах я встречалась, что делала и к каким событиям была причастна; второй мировоззренческий – перипетии моих взглядов и убеждений. А в подтексте – объединяющая мысль о необычайном везении жить при социализме, в пору пикового расцвета человеческой духовности. Это как флер, как то, чем я пропитана и от чего избавиться не могу, ведь я принадлежу к плеяде вершинных людей, к прямым наследникам Победителей, в чем состоит мое главное объективное значение. Как тут не гордиться? И кому, как не мне, рассказывать о том времени?
Нынче молодые люди, возможно, в моих словах увидят пафос. Только ведь они смотрят на наш прошлый мир с сегодняшнего дня. А я умею видеть его из тех дней, в каких он был реальностью! Оттуда мне нынешняя молодежь представляется, допустим, развязной и никчемной. Но… имея возможность сравнивать, я понимаю относительность вещей и вызывающее поведение незнаек, продиктованное тем, что у них нет исторического багажа и сравнивать им не с чем. Остается только поверить мне, что так, как я рассказываю, было на самом деле, такими мы себя ощущали, таким смыслом и духом наполняли свои суеты и деяния. Им остается только принять это и учиться у нас, иначе они пойдут под горку, вниз...
Не только я прекрасно понимала действительность, в которой жила, не только я осознавала свое место в происходящей истории и свое значение в человеческом прогрессе; это было присуще всем нам, тогдашним людям. Мы умели выходить за пределы частного (личного) и жить для всеобщего, для страны и народа. Это были обычные наши понятия. Мы видели в этом свое предназначение.
Опять сошлюсь на других мемуаристов. Например, южноуральский писатель Константин Бурцев писал: «Нашему поколению выпало счастье жить в великую историческую эпоху, быть в рядах активных строителей коммунизма, принадлежать к великой партии единомышленников-коммунистов, являющейся ведущей и направляющей силой советского общества». Конечно, звучит патетически – по нынешним меркам, когда уровень святости духа в массах понизился. А мы на самом деле были такими. Это не особенное настроение, сопутствующее торжественному моменту рассказа о молодости. Нет, для нас это было обычное воодушевление от жизни, это было наше рабочее состояние души. Это те убеждения, которые вели нас на незаметный ежедневный труд, который был приятен.
А уж тем более это не идеализация юности, в чем любят многие неискушенные в жизни упрекать мемуаристов, – я ушла из социализма еще достаточно молодой, чтобы предаваться ностальгии по нему. И с энтузиазмом отдавалась новому строю, пока не поняла, что пособляю не созиданию, а разрушению и преступлению против человечества, инициированному кликой Горбачева, низкого наймита американских спецслужб. И вот после основательного анализа обеих формаций, социализма и капитализма, попробованных на собственный зуб, узнанных на собственном опыте, излагаю тут то, к чему пришла, что стало моим итоговым взглядом на мир и его реалии.
Фундаментальные исторические дела, такие как утверждение передового социального строя, коллективизация, индустриализация, разгром фашизма, освоение пустынь, ледяных пространств Арктики, покорение воздушного океана, – были совершены предшественниками, дедами и отцами. Нам оставалось продолжать их дела. Наши задачи заключались в мирном труде, в развитии прогресса, в том, чтобы делать жизнь в нашей стране лучше: интереснее и комфортнее. Вместе со своим поколением эти задачи решала и я.
Романтика того времени вела меня в науки и литературу, туда, где обобщался дух народа, где получали довершение созревающие в нем интеллектуальные ценности.
После Сталина
Наставал март, самый белый месяц. Первый месяц весны соткан из надежд, исходящих и от таяния снегов, и от веселой говорливости танцующих ручейков воды, и от растущего дня, и от прибывающего тепла – от всего, что окружает человека. Даже от самой природы, ждущей, чающей цветения и плодоношения. С него начинается новый круг жизни. Март – он волей-неволей воспринимается как исток, как начало нового счастья. А тут... разразилось горе... Это было противоестественно. Когда все вокруг наполнено желанием делать и утверждать жизнь, терять нельзя, терять – не по-божески. Сочетание тяжелой утраты с исподволь наплывающей стихией надежд и устремлением к их осуществлению плохо переносится сознанием, ибо не является гармоничным.
Поэтому вполне закономерно, что после смерти Сталина люди сникли и притихли, почувствовали растерянность, словно заблудившиеся путники – это их состояние диктовалось не только внутренней природой произошедшего, но и объективностью космического момента. Люди не просто забыли о смехе и громких разговорах – а прекратили любые пересуды, притаились в предчувствии больших перемен словно перед ненастьем – так природа затихает звуками и движением перед затмениями светил, перед грозой… И не то что не до этого было, а не о чем стало говорить – беспокоило нечто непривычное для выражения вслух, да и трудно оно формировалось в слова, как и любая неясная то ли оторопь, то ли тревога. Ни с утра, когда люди группками шли на работу, ни вечером, когда возвращались домой и семейными коллективами вершили дневные дела, не слышался их обычный гомон. Даже и дети, неосознанно подражая взрослым, заражаясь их настроениями, не плакали, не капризничали и, если бегали во дворах и по улицам, то как-то вяло и беззвучно. Казалось, мир населяли тени, но не легкие и летучие, а придавленные к земле неизвестной тяжестью.
«Как оно будет дальше? Куда поведет?» – вот вопросы, от которых некуда было деться и на которые не находилось ответа. Все понимали, что будущее зависит не от высших сил, а от обычных людей, сконцентрированных возле власти, и от их интересов.
Тем временем продолжалась весна – укорачивалась ночь, исчезал мрак, под смелеющими лучами солнца ускорялся стук капелей, в воздухе победно носились запахи просыпающейся земли, прозрачности и чистоты. И хоть настроения не соответствовали этому состоянию природы, оставались по-осеннему сумрачными, беспроглядными, тем не менее первый шок проходил, и простые работяги начинали понимать, что жизнь продолжается. Да, неизбежны перемены и поэтому впору осмотреться и понять их. Трудно было предсказать, какие силы возьмут верх, куда поведут страну и как начнут влиять на общие и отдельные судьбы, но попытаться уловить новизну – надо было, дабы приготовиться к ней хотя бы душой. К месту или нет, но невольно оживала не остывшая еще память о пережитых временах, о неопределенности во власти, о зависимости от людских страстей и стихий. Смуты не хотелось. И это рождало беспокойство – что будет с народом, с самим государством, недавно отвоеванным у врага большой кровью, что будет с каждым из них...
Как и все, мы жили своими простыми заботами. Шел последний год моего детства, год подготовки к школе. Он был важен не только для меня, но и для родителей. В тесной связи с этим обстоятельством мама тоже хотела изменить свой образ жизни, рассчитывала покончить с ролью домохозяйки и возобновить общественную работу. Да и папа не против был хоть немного отбиться от безденежья, все-таки вдвоем легче обеспечивать семью, чем одному.
***
Нежеланный и непланируемый перерыв в маминой учительской деятельности случился в начале 1946 года. Вызван он был второй беременностью и рождением сына Алеши (1 марта 1946 года). А потом декретный отпуск продлился дольше обычных сроков из-за болезней: сначала маме пришлось восстанавливать свое здоровье, а потом бороться за жизнь младенца, выношенного не с самым легким сердцем. Впервые справлялась она с жизненными трудностями одна – больше не было рядом ее дорогих родителей, так преданно подставлявших плечо в любых обстоятельствах, не было и мужа, еще остающегося на военной службе.
Конечно, уходя в этот декретный отпуск, мама не порывала с трудовой деятельностью насовсем, а лишь временно уходила в другие заботы. Ничто не мешало надеяться, что все сложится хорошо и она скоро вернется в строй. А тут случились осложнения, болезни, неопределенность… – все, что считается тяжелым для молодой женщины, тем более оставшейся без попечения, оставшейся в одиночестве. И сам отпуск и то, что она в нем задержалась, ее досадовало, но думать об этом не приходилось. Так получилось, что ситуация с мамиными личными горестями объективно была на руку коллегам. Они решили заработать на этом немного больше денег для себя, для чего вместо мамы не брать нового учителя, а перераспределить ее уроки между собой.
Затем, 17 апреля, последовала смерть ребенка. Бедная мама, у которой все пошло не так, кругом чувствовала себя виноватой: и здоровье свое ослабила, и родила не в самое лучшее время, и ребенка не уберегла, и теперь в школу возвращается раньше срока, мешая подружкам воспользоваться ее отсутствием. Но что ей было делать, как жить?
Ясное дело, наплакавшись, мама поспешила встать в строй. Она вернулась в коллектив, на свое место, стараясь в заботах, в школьной кутерьме найти спасение от горя. Да не тут-то было! В школе мама встретила мягкое, но стойкое сопротивление – такого развития событий не желали те, кто ее подменял, получая дополнительную оплату. Дирекция школы оказалась в щекотливом положении, ведь подводить людей в столь деликатных вопросах, как деньги, опасно – волей-неволей это могло сказаться на отношениях, этом хлипком каркасе мироустройства. И решение нашлось быстро – во избежание конфликта маме предложили до начала нового учебного года поработать секретарем районного нарсуда, там тоже кто-то ушел в декретный отпуск и появилась временная вакансия. Конечно, она согласилась! Ссориться с людьми мама не любила.
Так с 29 апреля 1946 года мама оказалась вне школы.
Новая должность увлекла, хотя по утрам ей приходилось отводить старшую дочь к родственникам и бежать три километра на вокзал, чтобы еще полчаса ехать поездом в Синельниково, а дальше пешком добираться до места. Впервые мама оказалась во взрослом окружении, в серьезном государственном деле. И это ей понравилось. Бремена, связанные с отдаленностью работы от дома, показались пустяком. Зато теперь она не слышала школьного неумолкаемого гула – оказывается, учительствовать ей не нравилась!
К счастью, работа в суде задалась, что-то там случилось к лучшему и маму оставили работать на постоянной основе. Так она распрощалась со школой. Правда, вряд ли тогда полагала, что навсегда.
Но шли дни за днями, катя свой возок перемен. Не считаясь с желаниями людей, новые дни засыпали их то радостями, то печалями, словно снегом – то тихим и приятным, то вьюжным и секущим кожу. Неожиданно, не окончив учебу в военном училище, из вооруженных сил демобилизовался папа – прервалась его попытка стать кадровым военным, как будто сверху подсказано было, что ненадежный это хлеб. Он вернулся домой злым и пристыженным, снова резко и неожиданно изменив мамину судьбу, на этот раз совсем не так, как вообще желательно было. Но ведь война окончилась, и они остались жить! По сравнению с этим все казалось не главным.
Папа вернулся на завод, откуда был призван в армию еще до войны. А мама продолжала работать в народном суде, пока в их жизнь не постучалась я – 9 апреля 1947 года, ровно через год после начала работы в суде, мама ушла в отпуск по беременности. К сожалению, я родилась болезненной, по всему было видно, что мной надо заниматься основательно. И мама после декретного отпуска не вышла на работу, посвятив себя тому, чтобы не потерять и меня.
И вот в 1953-м году этот период остался позади. Я подросла, окрепла, и маме представилась возможность подумать о своей судьбе. Естественно, будучи учителем по образованию, она обратилась в районо. А там у нее потребовали предъявить диплом. Но…
Наш домашний архив во время войны пропал, весь, полностью. Пропали и мамины документы об учебе, и свидетельство о браке, и документы на родительский дом, и паспорта, и метрики – просто все-все. Сразу после Победы, когда главным приоритетом было сохранение жизни, это не казалось большим бедствием, но, когда жизнь наладилась, все изменилось. Потребовались документы.
Теперь мама кинулась восстанавливать утраченное. Всяческие бумаги и статусы, находящиеся в ведении местных органов, восстановила частью через суд, а частью – получением дубликатов, выданных на основе сохранившихся оригиналов учетных записей. Оформлять брак с папой пришлось заново – так было меньше хлопот и затрат. А вот диплом об окончании учительского института воссоздать никак не удавалось. Дубликат не могли выдать по той же причине того, что в огне войны сгорел университетский архив с довоенными данными. Мама обращалась и в сам университет, и по месту его эвакуации (сначала это был Кривой Рог, а дальше не помню...), искала соучеников, готовых подтвердить факт ее учебы... Но дипломы об образовании решениями судов не подтверждались, тут нужны были оригиналы реестров выдавшей стороны по прослушанным курсам и полученным оценкам. А их-то как раз и не было. Долго это длилось. Мама сражалась за признание официального образовательного ценза, пока не убедилась, что исчерпала возможности. Увы, все попытки оказались безуспешными. Самое большее, что ей обещали, это восстановить на учебу в университет, зачислив в течение ближайшего года на первый курс без новых вступительных экзаменов. Но разве при двух маленьких детях было до этого? Разве по силам и средствам было такое дело, да еще без помощи хотя бы кого-то из старших родственников? Нет, конечно. И мама не стала связываться с восстановлением на учебу, а просто вычеркнула память о прошлом как ненужную.
– Осталась я без куска хлеба, – сетовала она, когда они с папой вновь и вновь обсуждали эту проблему, сидя в тихой кухне после ужина. – Родители так радовались, что укрепили меня в жизни, а теперь их старания пропали. Без родителей не осилю я новую учебу, – мама горько заплакала от беспомощности, от обиды, что война не только оставила ее сиротой, но и забрала специальность, данную родителями в наследство.
Папа все помнил: и то, как мамины родители не рекомендовали дочери рано выходить замуж, и как настойчиво выталкивали на учебу, и как мужественно помогали во время учебы материально. Он понимал этих людей, поэтому и сам старался пособить ей в получении образования; когда они все-таки поженились, уехал с нею в город, работал, оплачивал съемную квартиру... Но прошли годы, и больше не было с ними умного Якова Алексеевича и настырной Евлампии Пантелеевны, унесла война их жизни... А без них мамина учеба превращалась в неподъемное предприятие.
– Скажи, – наклонив голову, спросил папа, – а сегодня тебя смогли бы взять на работу, допустим тем же секретарем суда, без высшего образования?
– Смогли бы, – сказала мама. – Там не требуется высшее образование. Но для этого те, кто принимает решение, должны знать кто я и на что способна. Нужна хотя бы рекомендация местных властей, как было в прошлый раз.
– А теперь тебя не порекомендуют?
– Кто? – в ответ спросила мама. – На подобные должности всегда найдется чья-то родственница. В первый раз мне просто повезло. Тогда ведь решающим было желание руководства поссовета избежать конфликта в школе... нашлись люди, заинтересованные определить меня в другое место. А теперь не то.
– Но это не последнее место, где можно работать без диплома, – сказал папа. – Надо искать работу помимо школы, вот и все.
– Надо…
В период ученичества мама не блистала успехами и большими знаниями. Они ей давались трудно, стоили напряжения сил и воли. Поэтому теперь, когда я выросла и шла в школу, получать образование заново, на этот раз заочное, она и не стремилась. Позже судьба Марии Майдан, маминой одноклассницы и подруги, окончившей с нею учительский институт, показала, что сожалеть о потере документов не стоило – ей все равно предложили бы окончить современный вуз и она все равно от этого отказалась бы. Но я забежала наперед.
***
Так вот, от обстоятельств, складывающихся подобным образом, моим родителям было совсем не весело. А тут еще некая новая смута в стране, неопределенность с руководством… Казалось бы, семья и страна – вещи разного масштаба, но внешние перемены в любой момент могли отразиться на благополучии отдельных лиц, так или иначе. Не раз так бывало.
Заученно, привычно ходили люди на работу, занимались бытом, домашним хозяйством, огородами. По вечерам больше не собирались на совместный отдых, не посещали самодеятельность, не ходили в кино – каждый сидел в своем уголке и пережидал безвременье. Энтузиазм победителей, с которым они поднимали страну из руины, со смертью Сталина иссяк. Не стало больше того, кто воодушевлял их и поддерживал, кто по-отцовски радел о них. Без Сталина сиротство распростерло крылья над народом.
На долгие дни и месяцы люди изменили образ жизни, закрылись в домах. Главные активисты нашей сельской самодеятельности – в том числе Г. Н. Колодный, Н. Н. Солоник, мои родители, Ю. Полуницкий, Е. Богданова и другие – после случившегося перерыва так и не вернулись к ней, да и вообще их задор поутих. В благополучные годы, наставшие при Л. Брежневе, самодеятельность значительно восстановилась, но того подъема, размаха и расцвета, что был при Сталине, уже не достигла.
Наш поселок, конечно, не был городом, а являлся захолустьем, затерянной степной провинцией, но тут жили рабочие, передовой класс, и поэтому интерес к событиям в далекой столице не ослабевал. Многие столичные новости каким-то чудом проникали к нам с молниеносной быстротой.
Мы знали, что новое руководство страны – говорилось без имен, ибо имен не знали – с первых же дней предприняло шаги, направленные против «злоупотреблений прошлых лет», а на самом деле – против народа. Хуже всего было то, что в конце марта амнистировали заключенных, чей срок не превышал пяти лет. Ведь получили свободу очень многие преступники, в частности несовершеннолетние бандиты и молодые уголовницы – самая энергичная и злобная их часть. Независимо от полученного срока вышли на свободу взяточники, ворье, расхитители и растратчики, административные и военные правонарушители – все те, кто наживался на простых людях, третировал их, унижал и обирал. Это были захребетники, явные враги трудящегося человека – хозяйственники и партработники, злоупотреблявшие служебным положением в трудное для страны время, не считавшие простых тружеников людьми. О них очень хорошо написал Михаил Стельмах в своих романах «Большая родня» и «Правда и кривда». Просто читаешь и видишь живые картины тех лет! Позже эти захребетники переврут свои истории, объявят, что были незаконно репрессированы Сталиным и законно отпущены Хрущевым. Они останутся верными своей кривде, будут замалчивать и отметать правду, и не признают, что получили по заслугам за банальный криминал, а не по каким-то иным статьям.
Сражаться с этой многоголосой сворой и оспаривать их люди тогда, собственно, как и теперь, считали бесполезным, ибо понимали: правда никогда не бывает так убедительна, как вранье, и не бывает так голосиста, как лай паразитов, разрушителей и приспособленцев. Так, могучее солнце и вся экосистема Земли не в состоянии спасти плод, то же яблоко, от червяка, проникшего в него. Паразита можно только раздавить на месте обнаружения.
Например, из славгородских «репрессированных», а на самом деле махновцев, осужденных за злодеяния в годы Гражданской войны, вернулись не многие. Кто-то умер на самом деле, как умирают люди везде, а другие просто уехали подальше от людей, знавших о них правду. Они скрылись навсегда от свидетелей их злодеяний. Они все сделали для того, чтобы те считали их погибшим. Таких, прячущих концы в воду, было подавляющее большинство. Случалось, что родные находили их на целине или на ударных стройках, но вернуть никого не удалось. Не для того скрывались… Напрасно старая баба Дуня Тищенко ежедневно поглядывала на горизонт, высматривая из заключения мужа и сестру с мужем. Не воротились они. Помню только, как появился в селе мамин дядя по отцу – Иван. Его посадили за пособничество фашистам, как служившего старостой. И хоть должность ту он принял по просьбе сельчан, которые на суде защищали его, дали Ивану Алексеевичу 25 лет лагерей. А теперь вот отпустили с богом.
Еще одной напастью, настоящим ужасом стало освобождение уголовников, блатных, босяков и гопников. Выйдя из тюрем, они создали на местах опасную обстановку, так что в темное время люди боялись оставаться на улице, даже днем страшились поодиночке ходить в малолюдных местах, гулять в парках, выезжать на природу. Папа, идя на вокзал, если надо было ехать поездом, брал с собой немецкий кинжал, длинный и массивный. Ведь дорога от заводских корпусов аж до самого вокзала была пустынной, и там на путников часто нападали грабители и убийцы из амнистированных. Вброшенные в мирную жизнь, почувствовавшие странную заинтересованность в них новой власти, они проявлялись повсеместно, как сыпь на здоровом теле, терроризируя обывателей, нарушая общественную стабильность, глумясь над нравственностью. Интуитивно чувствовалось, что к власти пришли силы, пособничающие преступности и нуждающиеся в запугивании народа и в хаосе в стране. Это не могло идти на пользу и быть благом для народа. Эти силы с самого начала были прокляты людьми.
Но это был еще не конец новшествам. Вслед за этим газета «Правда» объявила, что врачи-убийцы на самом деле не виноваты, что их «недопустимыми и строжайше запрещенными приемами следствия» принудили оговорить себя. Абсурд нарастал, люди терялись в догадках и на всякий случай лечились у бабок-шептух и знахарок, что находились в каждом селе.
Так продолжалось всю весну и начало лета. Но вот в июле, когда арестовали Берию, прорисовалось что-то определенное. Неслыханно – его обвинили в шпионаже в пользу Англии! Более точных известий не поступало. К концу года поползли слухи. Одни говорили, что состоялся суд, который вынес смертный приговор и Берию в конце 1953 года казнили. Другие – что он был расстрелян сразу после ареста, прямо под стенами зданий где-то в кремлевском дворике. Второй молве верили больше, уж не скажу почему. Видимо, мало веры было в то, что в первые лица выбились достойные деятели.
Ясно было одно: коли так повернулось дело с Берией, то победили силы, весьма вольно обращающиеся с законом, враждебные прежнему курсу, курсу Сталина. Людей сковал не страх, а горе – многие предчувствовали тяжелые для страны, а значит и для себя, времена.
Еще долго продолжалась борьба Хрущева и Маленкова, за которой население следило с тревогой. Дело клонилось к тому, что вместе этим двоим политикам не ужиться. Но вот к власти пришел Хрущев, больше не казавшийся верным последователем великого Сталина, как он об этом недавно кричал. В сентябре того же года его избрали первым секретарем ЦК КПСС, что было решающим для закрепления реальной власти.
Сейчас много говорят о Хрущеве как о предтече Горбачева, и этому есть основания. Параллелей много. Так, все помнят, что Горбачеву, дабы подтолкнуть его к нужным решениям по «перестройке» страны, устроили Чернобыльскую катастрофу. Тот же метод устрашения был применен и к Хрущеву: в октябре 1955 года в Севастополе потопили флагман Черноморского флота, линкор «Новороссийск». Важны и детали, оба злодеяния отмечены особым цинизмом, в чем угадывается рука американцев, любящих сатанинские символы и совпадения: Чернобыль взорвали в канун Первомая и Дня Победы, а «Новороссийск» – в канун Октября, да еще во время отдыха Хрущева в Крыму, что называется под его носом. Как тут не отметить, что руководимый заморскими хозяевами, пользующийся их античеловеческой моралью, Гитлер и войну против СССР развязал в день летнего солнцестояния, как бы перечеркивая сакральное значение великого очищающего света; сделал это в ночь выпускных вечеров, когда советская молодежь праздновала вступление во взрослую жизнь.
От Хрущева требовали предать великую историю СССР, очернить Сталина, изменить его курс и перейти от укрепления страны к созданию условий для ее будущего разгрома. Акция устрашения произвела нужный эффект.
А мы в селе, конечно, ни о чем не подозревали, а только оплакивали погибшего на «Новороссийске» Юрия Артемова, прекрасного парня и первого красавца. Мы соболезновали Нине Столпаковой, его невесте, от горя потерявшей разум, и читали вслух письма Николая Горового (Сидоренко), присланные матери. Он служил на крейсере «Ворошилов» и участвовал в ликвидации трагедии с черноморским флагманом. Мы были не рядом с той большой политикой – а в ее эпицентре, в самом вихре, и несли ее последствия на своих плечах. Позже по следам тех событий я написала книгу «Нептуну на алтарь», и слава богу, что это пришло мне в голову, ведь сейчас уже нет в живых многих, на чьи рассказы я опиралась.
Люди ждали очередного съезда партии, понимая, что он будет решающим – что-то же им скажут из того, что сварилось в кремлевских кабинетах. Многие приникали к приемникам и ловили зарубежные «радиоголоса». К сожалению, они верили, что «из-за бугра» к ним пробивается не ненависть и злорадство бывших белоэмигрантов, недобитых гитлеровцев, американцев (этих откровенных врагов с синдромом завистливой алчности), а слово правды и дружеской помощи. Как ни прискорбно, верил в это и мой отец. Рано утром или поздно ночью, когда мы спали, он с видом радиста-нелегала ловил из эфира хриплое вещание, захлебывающееся неславянскими акцентами, и пытался понять «проливаемый свет истины».
Это типично русская болезнь – уповать на кого-то, кто придет со стороны и поможет. Русским тогда и в голову не приходило, что вместо истин им подсовывают духовный яд. Неизбалованные историей и судьбой, они вообще склонны были всякую мелкую услугу возводить в ранг спасения от смерти. Возможно, поэтому в среде слишком благодарных фронтовиков, настрадавшихся от войны, взрывов и ран, и родилась легенда, что без американской тушенки они бы не победили. А ведь тушенку-то они ели сомнительную... не ту, что попадала на столы самих американцев!
И вот наступило 14 февраля 1956 года, в этот день открылся ХХ съезд КПСС... Как всегда, папа припадал ухом к репродуктору – слушал новости, стараясь что-то уловить между слов, найти в интонациях, понять в недосказанном. После акции устрашения, связанной с потоплением «Новороссийска», Хрущеву хватило чуть более трех месяцев, чтобы подготовиться к выступлению в том русле, которое устраивало «международную общественность», которого от него вымогали. Правда, критика Сталина с развенчанием культа личности и осуждением «массовых репрессий» прозвучала не в основном докладе, а на закрытом заседании ЦК КПСС, уже после съезда, но все же она состоялась и стала сигналом для деструктивных сил, что им дорога открыта. Теперь можно было злословить о нашем славном прошлом на законных основаниях, принимая лжеученый вид.
Это стало началом десталинизации, десоветизации и вообще концом наших побед. В дальнейшем победы если и случались, то лишь благодаря той великой мощи, которую набрала страна при Сталине и на инерции которой прожила еще почти тридцать лет.
Оттепель ли?
Не лишне бросить ретроспективный взгляд и отметить явления, которые на той странице истории простыми людьми воспринимались как подметание новой метлой. Перед этим, как бывает везде и всегда, в стране надо было создать хаос, чтобы завуалировать новые шаги, совершенные против народа или прежней идеологии.
Вот поэтому нового хватало, причем не только огорошивающего. Шокирующие начинания и новости, такие как разоблачение «культа личности Сталина», запуск спутника, денежная реформа и другие, в немалой степени служили ширмой для перемен более фундаментальных и опасных, протекающих исподволь и направленных на изменение мировоззрения людей, на извращение их истории и ценностей и, следовательно, на формирование нового будущего. Эти тенденции медленно насаждали непривычный климат в обществе, будоражили душевный покой, вызывали любопытство и, казалось бы, не влияли на конкретные судьбы. Но старики и битые люди, опытные в житейских делах, здоровой своей природой понимали, что это не так. Происходящее им очень не нравилось. То и дело можно было слышать, как об этом шептались дедки на скамейках, врытых у ворот, во время вечерних посиделок. Эти престарелые вояки уже ничего не боялись, они прошли свои тернии и теперь могли говорить то, что хотели.
Нынешняя пропаганда преподносит дело так, что все подчистую радовались наступившим после ХХ съезда партии переменам. Некоторые радовались, да, – в основном, наивные, полагавшие, что теперь у них все заладится, ибо новый руководитель страны сам лично приедет устраивать их дела и жестоко мстить за их обиды. Они не понимали, что власть – лишь климат, а местную погоду создает окружение, и как ты в него впишешься, такая погода у тебя и установится. Иными словами – при любой власти благополучие человека зависит от умения договариваться с друзьями, товарищами, соседями и просто людьми, живущими рядом, а не от первых лиц государства.




![Книга Найти себя [СИ] автора Вера Чиркова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nayti-sebya-si-34381.jpg)