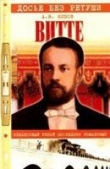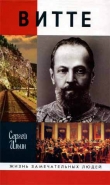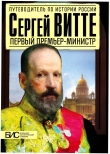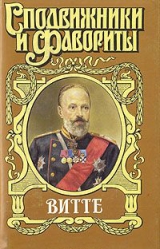
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
На корреспондента лондонской «Таймс» американца Джорджа У. Смолли Сергей Юльевич произвел особенно сильное впечатление. Говоря честно, он и сам приложил к этому кое–какие старания. Так или иначе результат был достигнут, доказательством чему стали публикации этого поначалу настроенного в пользу японцев журналиста. Нет, недаром некоторые в Петербурге искренне считали Витте гипнотизером.
Вместе с коллегой по редакции сэром Дональдом Уоллесом, признанным русофилом, они отправлялись в Америку, так же как и Витте, на «Кайзере Вильгельме». Однако, в отличие от коллеги, не ожидая от переговоров никакого толка, Смолли ехал без особой охоты. Знакомый с российским политиком, сэр Дональд предложил представить коллегу, будет в любом случае любопытно. Но тот предпочел, чтобы прежде сэр Дональд прощупал почву, пожелает ли этого Витте. Симпатии Смолли могли быть ему известны.
На третье утро плавания сэр Дональд подвел его к бородатому русскому. Тот медленно привстал из глубокого кресла во весь свой впечатляющий рост и как‑то нерешительно протянул руку.
– Вы представитель «Таймс» в Вашингтоне? – спросил на корявом французском.
– Совершенно верно.
– Ваши корреспонденции не особенно приязненны России?
Смолли не удивился вопросу:
– Скорее они дружественны Японии, месье. Но должен заметить, что симпатии к России вообще наша традиция, в отличие от японофильства.
Американцу показалось, что пристальный взгляд русского пронзил его сверху вниз почти что враждебно. Потом он так описал поразившую его внешность этого «удивительного человека», мощь которого сразу же ощутил в этом взгляде из‑под крутого высокого лба: широкие губы, нос даже не вздернут, а словно провален, как сломан у переносицы, что часто бывает у профессиональных боксеров, неправильные черты, татаро–славянские (по разумению журналиста), да и скроен нескладно, чересчур длиннорук даже при этаком росте… Одет был свободно и просто, в чем‑то поношенном, мешковатом, сильно смахивая на какого‑нибудь управляющего фабрикой, выбившегося из низов, этакого селфмейдмена, как называют таких в Штатах, самого себя сделавшего мужчину.
Впрочем, долго рассматривать он себя не дал:
– Что вы думаете о том, чтобы прогуляться по палубе?..
Прогуливались довольно долго. Эту первую их беседу
трудно было назвать открытой. Приглядывались друг к другу, прощупывали на нейтральных темах. Представитель потерпевшей военное крушение стороны совершенно не похож был на удрученного человека. Напротив. Был явно невозмутим и самоуверен, хоть и не скрывал своей озабоченности предстоящим ему делом. Зажигал от одной папиросы другую, то и дело перезаряжая свой прокуренный деревянный мундштук.
Его интересовало, как в Америке смотрят на русско–японские распри.
Впрочем, не преминул в разговоре заметить:
– В этой русско–японской дуэли были, как полагается, свои секунданты. У нас – Франция и Германия. У японцев – Альбион и, прошу прощения, Америка!..
Его занимала личность американского президента. Когда выяснилось, что Смолли давно и близко знаком с Тедди, сказал:
– Не стану выспрашивать про то, чего вы все равно не захотите говорить. Но ваш президент – патронпредстоящих переговоров, и, что бы вы мне ни рассказали, я выслушаю с большим вниманием.
Собеседник, конечно, тоже не мог обойтись без вопросов, иначе какой бы он был журналист. Ему не раз приходилось слышать расхожие характеристики, раздаваемые мистеру Витте как главному уполномоченному на переговорах о мире: бесспорно, человек очень способный, но дипломатического опыта не имеет, не Талейран, отнюдь.
Однако от разговоров о собственных намерениях «не Талейран» с неизменной ловкостью уклонялся. В затруднительных случаях его выручал французский язык, который они употребляли в беседе, чужой обоим, так что каждый мог коверкать его по–своему…
Все же при расставании Витте пообещал:
– Вам, Жорж, – он на французский лад произносил его имя, – конечно, захочется знать, что будет происходить на конференции. Заходите ко мне, я откровенно расскажу вам, что можно.
Его благосклонностью Смолли не пренебрег, он держал слово, но ни положение его, ни обстоятельства не позволяли пускаться в излишнюю откровенность. Прекрасно отдавая себе в этом отчет, под конец он сказал американцу:
– Если обратно опять поедем одним пароходом, я многое смогу вам открыть, чего пока что касаться не вправе…
До обратного пути было, однако, еще так далеко. И каким он окажется, этот обратный путь, тоже было скрыто от глаз, точно в океанском просторе… И никак невозможно было того исключить, что окажется возвращение очень и очень скорым. Сергей Юльевич старался особенно не показывать, что настроен весьма недоверчиво к предстоящим переговорам. Только секретаря своего, из «одессистов», уже попросил справиться о расписании пароходов, следующих из Нью–Йорка обратно, и наверно не из одной своей неизлечимой слабости к расписаниям вообще…
Но… переговоры все‑таки начались, и более или менее в назначенный срок.
Разумеется, ход конференции невозможно было держать в совершенном секрете, да это просто и не было ни в чьих интересах. А российских уж точно. Не раскрывая конкретных подробностей, мистер Витте рассуждал с журналистами на общие темы, что ни в коей мере не нарушало условий переговоров. Например, на опыте наполеоновских войн или более близкой франко–прусской войны выяснял, как наука международного права трактует такое понятие, как военная контрибуция… То, что, именно эта проблема стала камнем преткновения на мирных переговорах, сразу сделалось секретом полишинеля [5]5
То, что, в сущности, не является секретом.
[Закрыть]. Так же как трехкратное обращение – и все по этому поводу – знаменитого своим упрямством американского президента [34] к императору всея России. Рузельвельт, как почему‑то президента Теодора Рузвельта упорно называл Витте (быть может, позволяя себе милую безобидную причуду великого человека, а возможно, по какой‑то иной причине; известно, Сергей Юльевич – мало было одесского говора – любил иногда ввернуть еще и заковыристое словцо), Рузельвельт так Рузельвельт, Бог с ним, поддерживал долго японскую сторону…
До поры, однако, до времени. Потому что, пока настойчивый Тедди донимал своими посланиями государя, Витте завоевывал американскую прессу…
Японцы же, те вели себя замкнуто, с высокомерием. Победители!
Сергей Юльевич как‑то заметил с усмешкой тому же Смолли:
– Ваши японские друзья даже американскую публику не желают знакомить со своими делами!..
5. Не в лаун–теннис…Завоевывал американскую прессу, пренебрегши предложением какого‑то предприимчивого мистера повернуть ее в российскую пользу за… два миллиона. Да еще при условии – миллион вперед. Предложение содержалось в одном из писем, приходивших пачками в адрес русской делегации в Портсмуте, чаще прямо на имя Витте. Здешней почте пришлось‑таки попотеть. Писали лавочники и авторы книг, состоятельные дамы и защитники белой расы. Желали успеха, просили автографы и давали советы. Предлагали средства от пьянства, за которые русский царь якобы обещал награду, и средства от комаров, донимавших участников переговоров. Некий доброхот прислал медаль времен американской Войны за независимость. Текст на ней, до странности актуальный, был из заявления их посланника Талейрану: «Миллионы для обороны, ни единого цента для контрибуции»… Ясновидящая из Нью–Йорка пересказывала свои кошмары желтой опасности и, ссылаясь на евангельские пророчества, заклинала заключить мир и ввести реформы, а иначе бедствия ожидают Россию!.. И на все на это Сергей Юльевич почел необходимостью отвечать, когда не сам, то через секретаря. Помимо протоколов на заседаниях в обязанность секретаря входило объясняться с корреспондентами и еще вести подробный дневник.
– Для истории пригодится, – уверял его Сергей Юльевич.
О ней, так внезапно распахнувшей перед ним свои двери, он и тут, естественно, не забывал.
Местом исторических переговоров американцы выбрали помещение адмиралтейства в военной гавани, находившейся под охраной. Журналистов и иных любопытных (а таких здесь водились стаи) в ворота не пропускали. Располагалась гавань на окраине городка, за рекой, что служила границей между двумя штатами. Жили в штате Нью–Гэмпшир, заседали же в штате Мэн. Тут, как видно, тоже имелся резон, равно как в выборе этого Портсмута, штат Нью–Гэмпшир. От него поблизости находилось поместье Рузвельтов, летняя резиденция президента.
Тедди вырос здесь, в Ойстер–Бэй (то есть в Устричной бухте). Рассказ Жоржа на пароходе Сергей Юльевич выслушал, как обещал, со вниманием. Запомнил и на ус намотал: потомок первых поселенцев–голландцев, основателей будущего Нью–Йорка, по–американски, стало быть, аристократ, кончил Гарвард, лучший университет. Что не помешало ему при повороте судьбы поселиться в прериях, среди ковбоев, разделить (и описать) их вольную жизнь. А потом уже, спустя много лет, вновь оставить столицы, где к тому времени сделал карьеру, и, набрав из друзей–ковбоев отряд волонтеров, прославиться на испано–американской войне из‑за Кубы… Возвратившись, «герой Сантьяго» повел другую войну – против непомерно жиреющих трестов. И против притеснителей негров. Так что еще неизвестно, кого больше нажил, сторонников или врагов. И тем самым сделался как‑то ближе новоявленному российскому дипломату, самому обладателю такого таланта – и сторонников наживать, и врагов.
…В помещении адмиралтейства хозяева конференции подготовили просторный чертежный зал, оснащенный спасительными в здешнем пекле электрическими веерами. Прелесть этого достижения цивилизации можно было оценить еще до первого заседания, на приеме в честь открытия переговоров, когда зал был увешан флагами, играл оркестр, даже пушки салютовали, и все местное начальство и общество приветствовали гостей.
Ах уж эти приемы в честь миротворцев! Вслед за адмиралтейским устроили в городе, в штате, а еще раньше в поместье у президента и в живописной Устричной бухте на президентской яхте… Сергей Юрьевич даже взмолился: сколько можно заставлять работать желудок, когда же наконец примутся за дело мозги?!
Он, конечно, изрядно лукавил. Потому что уже первую встречу за завтраком с «Рузельвельтом» – и семейством его – сам назвал вызывающим дебютом. Потребовалась двухчасовая беседа, чтобы растолковать президенту, что он судит односторонне о настроениях русских, считая их побежденными в войне. И кажется‑таки убедить его в том, что Россия ни на какие унизительные условия не согласится, как ни серьезно ее внутреннее положение.
– Оно не может заставить великую Россию отказаться от самое себя! – не без пафоса заявил Сергей Юльевич, и барон Розен, посол в Штатах, перевел это президенту.
Похоже, тому это не слишком понравилось.
– При подобных взглядах соглашение едва ли возможно! – отрезал он, но тотчас взял себя в руки. – В интересах обеих сторон окончить войну, – сказал примирительно, и барон Розен перевел это Сергею Юльевичу. – В свою очередь я советую японцам проявлять умеренность в требованиях. Даже если не удалось бы договориться сейчас, надо так разойтись, чтобы не захлопнуть двери… для новых переговоров.
– На сей счет мы имеем инструкции, – заверил Витте, и барон перевел.
…В оживленной, залитой светом Устричной бухте президентская яхта «Мэйфлауэр» – тезка парусника первопоселенцев – среди многих судов выделялась расцветкою флагов. Рядом с синим, президентским, развевались на мачте японский – восходящее солнце – и русский. Тут пушечным салютом не обошлось. Пока добирались по заливу до яхты, их отчаянно приветствовали с берега фабричные гудки…
За завтраком в кают–компании после церемонных представлений друг другу (враг врагу?) Тедди в роли хозяина обхаживал и этих и тех, все же явно предпочтение отдавая Витте, единственный свой тост произнес, обратившись к нему, и потом они еще побеседовали по–французски, обойдясь при этом без баронских услуг. А когда после завтрака на палубе появился фотограф, то Рузвельт пригласил русского великана встать по правую руку, по другую встал маленький рядом с ними обоими японец. Подобно тому как барон Розен прежде, до Америки, был российским посланником в Токио, этот щуплый барон Комура перед войной представлял своего императора в Петербурге. Сергей Юльевич, кажется, его и раньше встречал.
Если Розена не было рядом, во многих случаях выручал полиглот Диллон, журналист; тот самый, что передал беспроволочную телеграмму с середины Атлантического океана. Участвовать в официальных заседаниях он, однако, не имел права. С пониманием там обстояло даже и в этом смысле не так‑то просто. Разговаривали на четырех языках. По–русски и по–французски Витте, по–японски и по–английски – Комура. Один из помощников переводил ему с французского на японский (или обратно), один из секретарей Витте – с английского на русский (и обратно)…
Удивительно, как все эти сложности предугадала некая дама из Массачусетса: заранее прислала мистеру Витте по почте международный словарь. Жаль, что Диллона он не мог заменить.
Куда прискорбнее, впрочем, оказался дефицит понимания по существу. Из предъявленных в виде дюжины пунктов японских условий половина была неприемлема для России.
Адмиралтейский телеграф отстукивал без передышки: Портсмут – Петербург – Петергоф; Петергоф – Петербург – Портсмут. (И своим чередом, разумеется, в Токио и оттуда.) Телеграммы быстро, при всех, Сергей Юльевич строчил в перерывах; тут же срочно их шифровали, проклиная его почерк попутно. А открытые тексты чуть не каждый день исправно отправлялись в Виши, где ждала их Матильда Ивановна: жив, здоров, все благополучно… вне зависимости от того, что происходило в действительности…
Иван Павлович Шипов, советник по финансовой части, предложил уже было пари, что мира не будет. Но опять же само собой в перерыве. Ну а в зале в конце заседания Витте подчеркнуто громогласно обратился к секретарю:
– Пожалуйста, узнайте, голубчик, расписание пароходов в Европу!..
Барону Комуре тут же, разумеется, перевели.
– Вы говорите постоянно так, будто бы вы победители! – не сдержался однажды главный японец.
А Витте в ответ как отрубил:
– Здесь нет побежденных, а потому нет победителей!
Журналисты подкарауливали секретаря в гостинице.
После обеда. На лестнице. В коридоре.
Тот в подробности не вдавался:
– Уступаем все время мы. А об успехе спрашивайте у партнеров, это от них зависит.
Но партнеры отмалчивались надменно.
В американских газетах мрачно предсказывали разрыв и упражнялись в карикатурах. Сергей Юльевич просил их для него вырезать. К примеру, такую. Великан из‑за ширмы передает карлику по частям свое платье: галстух, рубашку, брюки…
Не отставали фельетонисты, потешаясь над бодрым ничегорусских и при успехе, и при неудаче и их вечным завтра.
За неделю, даже за полторы каждодневных утомительных встреч переговоры почти не сдвинулись с места… в самом деле будто бы на краю обрыва застыли. Покуда, после этой никчемной недели, не счел нужным вмешаться в них, паузу выдержав, «Рузельвельт».
Ранним утром поднятый с постели телеграммою президента посол Розен, живший отдельно от остальных на даче, выехал к нему в Ойстер–Бэй – получить (было сказано в телеграмме) конфиденциальное сообщение для мистера Витте. Едва вечером Розен появился в гостинице, его, как назойливые комары, облепили изнывающие от жары, безделья и любопытства корреспонденты.
– О чем с вами говорил президент?!
– Мы беседовали о славянских литературах, – отвечал невозмутимый лифляндский барон, – мы ведь оба интересуемся ими…
Передавая Сергею Юльевичу это самое конфиденциальное сообщение с рекомендацией взаимных уступок, компромисса на застопорившихся переговорах, рассказывал, что получил их на площадке для игры в лаун–теннис, где с утра, за игрой, застал президента с ракеткой в руках и в костюме из белой фланели.
– Разговор происходил в перерывах игры, – с усердием излагал посол.
Сергей Юльевич пропустил эти мелочи мимо ушей.
Перед ним были деловые соображения, и он немедленно принялся изучать их. И сразу же оценил эти предложения делового человека деловому человеку.
Впрочем, Розену рассеянно ответил из вежливости:
– Жаль, не я был на вашем месте, мы бы с Тедди сразились, я ведь тоже не прочь был попрыгать в лаун–теннис…
Сразиться предстояло не на этой площадке.
…Если бы из четырех пунктов, по которым согласия не получалось, от 10–го и 11–го отказались японцы, а от 5–го – русские, то остался бы один лишь 9–й… Его можно было бы отдать на третейский суд, например французскому президенту, другу России, и королю Англии, склонной к Японии (секундантам в русско–японской дуэли, тут подумалось Сергею Юльевичу; положа руку на сердце, президентская четкость пришлась ему по душе). А пока суд да дело, Япония не стала бы продолжать войну ради денег…
Загвоздка в том заключалась, что пункт 5–й означал уступку Сахалина Россией, а в 9–м речь шла о возмещении японцам военных расходов.
Сергея Юльевича взорвало:
– Вот если бы они Москву заняли, тогда еще можно было бы о контрибуции рассуждать!..
6. СделкаТедди Рузвельт был не из тех, однако, кто поворачивает с полдороги.
Витте тоже был не из этих.
Тедди Рузвельт стремился к первенству всегда и во всем – от политики до охоты на бизонов.
Витте тоже на вторые роли не подряжался.
Американец, точно маклер на бирже, играл то на повышение, то на понижение, смотря по обстоятельствам. Но во что бы то ни стало хотел добиться для Японии поболее денег.
Русский не желал платить ни рубля.
Репортеры тем временем занялись ловлей блох, пытаясь оценить обстановку. Японцы отдали взятый в гостинице напрокат несгораемый шкаф, а русский Шипов потребовал собственное белье из стирки! – ну разве это не признаки близящегося разрыва?!
Впрочем, президент не ждал у моря погоды. Затеял дипломатическую перекличку европейских столиц по поводу своих предложений о компромиссе. Париж, «секундант» российский, настаивал на том, чтобы не закрывать переговоры; в крайнем случае, только прервать.
Витте, со своей стороны, выжидал:
– Пускай вина в срыве будет японской!..
Президент передал через Витте новые предложения для
царя.
«…Если бы я был русским государственным деятелем и патриотом, я бы с величайшей радостью заключил мир», – писал он, излагая новые условия японцев: половина Сахалина, при уплате именно за эту территорию.
– Что‑то вроде того, что было заплачено за Аляску, – не без насмешки прокомментировал своим помощникам Сергей Юльевич, – с той лишь маленькой разницей, что не нам заплатят, а мы.
Не надеясь, очевидно, на сговорчивость Витте, то же самое послание в то же самое время президент направил царю через американского посла в Петербурге.
В телеграммах царь уже настаивал на разрыве. Он явственно опасался, как бы Витте не пошел на попятную – лишь бы из самолюбия, из тщеславияне упустить мира. Впрочем, неукоснительно следуя высочайшим инструкциям, глава русской делегации велел секретарю расплатиться по гостиничным счетам… При этом, правда, с резкими заявлениями не торопился. Продолжал держать свою паузу.
У него сомнения не было: «Рузельвельт» действует по уговору с японцами. Не составляло большого Секрета, что университетский его товарищ по Гарварду, другой японский барон, Канеко, как бы служит приводным ремнем к движению тойстороны. Витте определенно поставил ее в затруднительное положение: контрагентыпризнали фактически, что ведут войну ради денег!.. Под свою тактику Сергей Юльевич, как нередко, подвел и теоретический фундамент: пусть японцы запутаются в собственной аргументации!..
Секретарь старательно вырезал для него из газет все новые карикатуры. Комура с Витте за игрою в карты, пытаются подглядеть один у другого. На картах Комуры написано: «Крайний минимум». И – «Максимальные уступки» у Витте… За хвост медведя уцепился японец. Один говорит: «О, если б я мог удрать с честью!» – а другой: «Ах, если б я мог отпустить его с выгодой!..» И еще: разъяренный медведь (понятно – Россия), которого на ремне едва удерживает ковбой (Тедди), волочит его за собой прямо в пропасть, где написано «Война»…
Задумываясь над тем, а ради чего, собственно, американский‑то президент из кожи лез вон, подталкивая упиравшихся противников к примирению, Сергей Юльевич находил на это ответ в целом ряде причин – политических, коммерческих, наконец личных. Разделить их не всегда было просто; кто‑кто, а уж Витте мог о том судить по себе… Все же главное ему виделось гак: стремясь вырваться за пределы западного полушария, из той обособленности, на какую до сих пор география обрекала его страну, «Рузельвельт» для Америкихотел на Дальнем Востоке хорошего мира – и хорошего рынка, при каком ослабленная войною, финансово зависимая от Штатов Япония закупорила бы выход в Тихий океан ослабленной войною России. Потому‑то откровенный нажим с его стороны почти с одинаковой силой испытывали и микадо [6]6
Титул императора Японии.
[Закрыть]и царь.
И должно быть, по тем же мотивам не изменяла выдержка Сергею Юльевичу. Ведь нетрудно было понять, что провал сделкиозначает и для маклераличный провал, тогда как успех принесет ему новые дивиденды. В политике нет друзей, в ней есть интересы. И покуда они совпадали, следовало обождать хотя бы еще чуть–чуть, японская шпага… или, может быть, сабля – вот–вот должна надломиться.
И она таки надломилась.
В тот день в ответ на новую телеграмму из Петербурга о немедленном прекращений переговоров Витте возразил, что должен выслушать новые условия – дабы вину за разрыв не взвалили на нашу сторону.
Проведя бессонную ночь и после длительных проволочек просовещавшись пол–утра с Комурой почти что один на один, он вышел в это прекрасное утро к своим сотоварищам, взволнованный и торжествующий, позабывши, что еще ночью себя уговаривал, что будет лучше, если судьба отведет его руку. Ибо всю тяжесть этого мира петербургские доброхоты и даже сам государь взгромоздят на его плечи…
– Мир, господа! Поздравляю! Японцы уступили во всем!!
Засим последовало нечто, совсем не предусмотренное дипломатическим протоколом: объятия, поцелуи.
А Розен, невозмутимый, хладнокровный, рассудительный Розен за всех крикнул:
– Молодец, Сергей Юльевич!
И вновь гремели над Портсмутом пушки в честь мира. А на президента, на царя и микадо посыпались поздравления глав других государств, монархов и президентов. И только реакция Петербурга, держа в напряжении, оставалась Сергею Юльевичу неизвестной. Его величество счел за благо показать характер [35], прежде чем прислать свою поздравительную телеграмму.
В Атлантическом океане, на обратном пути в Европу, прохаживаясь, по обыкновению, взад–вперед по палубе «Кайзера Вильгельма Второго» и из длинного мундштука дымя очередной папиросой, словно с пароходными трубами на пари, споря с ними не только дымом, но, пожалуй, и ростом, и выполняя обещанное по пути из Европы, он рассказывал Джорджу Смолли из лондонской «Таймс»:
– Эта сморщенная мумия барон Комура приехал надменно диктовать нам свои условия как победитель. Мы же прибыли на переговоры. Окончательные японские требования оказались для нас неприемлемы. Это был критический момент. Конференция зашла в тупик. Все, что можно было сказать, было сказано раньше. При гробовом молчании я вынул портсигар, достал папиросу, закурил. То же следом сделал Комура. Переговорам, судя по всему, настал конец, и опять в свои права вступала война… Шестьсот миллионов долларов контрибуции мы платить наотрез отказались, я даже торговаться не стал. Докурив папиросу, я начал другую. То же сделал Комура. Только он мог сказать что‑то новое, очередное слово в этом дипломатическом торге принадлежало ему… Уступая пол–Сахалина, мы поставили его перед выбором: если воевать дальше, то почти исключительно ради получения с нас контрибуции!.. Я, конечно, не слыву дипломатом, но в деловых, а тем более в финансовых спорах–переговорах, как у нас говорят, съел собаку. В этих торгах нужна отменная выдержка. Наконец Комура сквозь зубы предложил отложить решение на три дня. На отсрочку я согласился. Отсрочка давала возможность снестись соответственно с Токио и с Петербургом. Рузельвельт ваш тоже даром времени не терял. Он вмешался, и притом совершенно иначе, чем прежде. Вам известно, Жорж, из оперы «Фауст»: люди гибнут за металл? Однако же проливать кровь, свою и чужую, на войне, неприкрыто, лишь ради денег… этого в цивилизованных странах могли не понять… Словом, когда мы сошлись опять через три дня, то Комура сразу же заявил, что Япония отказывается от требования контрибуции!..
– Ну а если бы пришлось продолжать войну? – спросил журналист. – Вы бы не раскаялись в своей выдержке?
– Передержки в торговле, разумеется, никогда нельзя допускать, – усмехнулся политик, вышагивая по палубе посреди Атлантического океана, и выдохнул струю дыма. – У нас считается: лучшее – враг хорошего… Тем более в России сильная партия высказывалась за войну. Я, понятно, не принадлежал к ней. Я добивался мира. Но при этом никогда не думал, что Россия сломлена! Японцы не протянули бы долго. В крайнем случае до весны. Они ограничены в средствах, это вам финансист говорит. У них тогда было уже все заложено и перезаложено… кроме, может быть, жен… Поверьте, они не хуже нас это знали!
– Да вы отдаете ли себе отчет, месье, – воскликнул взволнованный журналист, – что за зеленым столом вы добились того, на что их генералам потребовалось столько кровопролитных сражений?! Вы разбили их наголову – несомненно, дома вас ожидает триумф!
Сергей Юльевич не стал разочаровывать американца.
Зачем было выносить из избы российские домашние неурядицы? То, к примеру, что еще накануне Цусимы царь твердо намеревался продиктовать условия мира в поверженном Токио, как это предрек ему архиерей Серафим, прозорливец уже оттого, что святому Серафиму Саровскому соименник. И что по этой безусловной причине одни только жиды и интеллигенты могли, дескать, думать другое.
Он лишь ответил американцу совсем не веселым тоном:
– Вы не можете даже вообразить, как много предубеждений и враждебных влияний скопилось против меня… и как близко они проникают к престолу!..