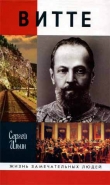Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Среди своих сторонников доктор Дубровин публично распространялся о якобы посетившем его видении. Перед слушателями представали рисуемые в папиросном дыму картины ужасного для всякого патриота будущего. В ранних питерских сумерках синие докторские очки в золотой оправе сверкали при этом в особенности зловеще.
… Ночь. Зимний дворец. Козлобородый фавн гнусавым голосом читает «Бориса Годунова»…
«Достиг я высшей власти…»
Он вспоминает, что царь Борис начинал всего лишь спальником при царе Иване, подавал одеться. Сказочное возвышение!.. Почти такое же, как у железнодорожного служащего…
«Я покину этот дворец! – обещает он с угрозой кому‑то, кто за стенами, должно быть, не может его услышать, – Я недолго здесь пробыл, но я вернусь! И вернусь навсегда!»
А рука его в воздухе чертит: Сергий, Сергий…
Но вот хмурую картину Зимнего вытесняет освещенная круглая зала другого дворца. Таврического. Эта сцена заседания Государственной думы, она отвратительна. Крикливые речи полны лицемерия и еврейскогозадора. От них мутит, от этих речей… замутили всея Россию – и евреев, и финнов, и поляков, и грузин. Но только не козлобородого… Он, злой гений, уже где‑то далеко отсюда, в Европе, на Западе, он доволен и радуется: во всем его воля и его друзей!..
А потом, воротясь с Запада, затаился в своем белом домев ожидании близкого торжества, тогда как повсюду беснуются толпы, громят города, зверствуют, убивают, а в погромах особо изощряются евреи!.. При бездействии власти все злые демоны сорвались с цепей, а из них главный лишь потирает руки. «Еще шаг, и у ног моих ляжет Россия, утопив в крови заповеди Истории, променяв их на обеты масонов».
И уже в кровавом тумане возникает глумливый образ демократической республики, когда в «белом доме» кагалбиржевых королей, жрецов Ваала, Каинова семени, возглашает: «Что медлишь? Будь первым президентом России! Точно новый Моисей, раздели с нами пир на разрушенных стенах Иерихона!..»
Но Сергий Каменноостровский, хозяин дома козлобородый, возражает на это: «Ошибаетесь, почтенные господа, не пришел еще этот час, повременю, он еще впереди. Я еще обожду, пока жалкие пигмеи не перегрызутся, пока вожаки партий не истребят друг друга. Вот когда ото всех этих президентов народ о царе затоскует, когда сметет их могучей метлой, – тогда уж наступит мой час…»
…И выбрали первого президента Российской республики – господина Милюкова–речистого. Но кто нетерпимее демагогов, добившихся власти! Меняют президентов, меняют! В речах бешенство. На улицах кровь. Виселицы. Разруха. Никто не хочет работать.
Когда уже нечем стало платить проценты по займам, вмешался кредитор–Запад, банкиры–жиды, навязавшие России свои миллиарды. К границам придвинулись армии и флоты.
Страна на краю погибели, а в Таврическом дворце все сотрясают воздух безумными словесами.
И – доспорились. Доигрались. Допрыгались!
Поднялся народ, подхватился. Как в судорогах, сметал все, что на пути попадалось. И культуру и цивилизацию заодно. Одичалая Россия точно отпрянула назад лет на триста. К царю Годунову!..
Прощай, разгромленный Петербург!
В Московском Кремле – торжества воцарения. Достиг своего черный ворон земли русской. С высокого соборного крыльца под перезвон могучих колоколов обращается триумфатор, спасительРоссии, гнусавым своим голосом: «Народ московский!..»
Словно бы под воздействием этой мрачной фантазии тягостные густые сумерки совсем размазали очертания обширного дубровинского кабинета. И тут, слава Богу, наступил конец наваждению.
Стоило доктору только умолкнуть, как полутьму до краев залило общим воем:
– Сме–ерть! Витте–е-е!!
Но кто‑то догадался повернуть выключатель, и, пораженные светом, все враз онемели.
Тогда тишину нарушил чей‑то одинокий голос:
– Выслушайте и меня теперь, господа мои, судари. Фантазию куда менее страшную, зато реальную… Вот какой разговор прислышалсямне, когда государь будто бы наконец соизволил назначить правителя государства – скромного полковника Иванова Шестнадцатого. Такого же, как сотни других офицеров…
Пошуршав извлекаемым из кармана листком, говоривший начал читать по бумажке:
– В приемной, в Зимнем дворце, дожидался императорского уполномоченного граф Витте.
Прошли в кабинет.
«Я вам очень признателен, генерал, что вы изволили меня вызвать. Мой опыт, мои знания к вашим услугам».
«Я вызвал вас не за этим, – сухо остановил Витте диктатор. – Считаю вас главной причиной революционной смуты в России. Как министр финансов, вы вашей политикой разорили Россию и подготовили положение, в каком нас застала японская война. Вы развратили правительство, печать, общество, убили народную честь и совесть. Вы заключили преступный мир в Портсмуте. И наконец, устроили ряд анархических выступлений, чтобы вырвать у царя несчастный Манифест 17 октября. Все вместе дает столь ужасную картину предательства и измены, что я не затруднился бы расстрелять вас в двадцать четыре часа!..»
Прерывая чтение, аудитория взвыла снова. Но довольно было короткого жеста Дубровина, чтобы восстановился порядок.
А читавший продолжил:
– «Я умолял государя разрешить предать вас суду, с вас начать очищение… К несчастью, государь на это не дал согласия. Но поручил предложить вам покинуть Россию. Немедленно и навсегда».
«Я этому решению не могу подчиниться, – отвечал Витте. – Не признаю за собой таких вин! Я действовал по совести, разумению, чувству долга, всегда с высочайшего одобрения. Каждый шаг известен был государю. Я требую суда над собою и там сумею оправдать свои действия!»
«Известно, вы запаслись документами, – усмехнулся диктатор, – как доподлинный бюрократ устраивали себе прикрытие на каждом шагу. Теперь хотите сделать государя своим соучастником, всю вину свалить на него?! Знайте, я бы этого не побоялся. Я сумел бы показать на суде, как вы обманывали, как предавали государя! Понимаю, вы рассчитываете на бессовестную печать, чтобы создать себе новую мировую рекламу. Государь это хорошо взвесил. Вам такого торжества дать нельзя! Сколько вы желаете сроку на сборы?»
«А если я не поеду?»
«Вы будете арестованы немедленно, и прямо отсюда с вами отправится мой адъютант, которому вы передадите документы вот по этому списку!..»
Восседавший за просторным столом под собственным поясным портретом в солидной раме Дубровин гулко захлопал в ладоши, словно подавал команду. Следом слаженно зарукоплескали другие.
Настроение собравшихся, омраченное поначалу, повеселело явно и бесповоротно.
7. Дружина со спискомНа масленицу господа эти собрались на блиныв составе всех партий «Русского собрания», и питерских и московских. Просторное помещение Конногвардейского манежа было полно. Известный русский человек Грингмут, оратор признанный, редактор «Московских ведомостей», а в прошлом галицийский, что ли, еврей, на невообразимом своем русском языке громя графа Витте, буквально наэлектризовал собрание. Соревнуясь с уважаемым москвичом в резкости, доктор Дубровин заявил, что Витте посадил царя в клетку. Эффект превзошел всяческие ожидания. Любители блинов, повскакав с мест, кричали:
– Где живет Витте?! Идемте! Убьем его!!
Но и на сей раз дело как будто ограничилось криками – в том по крайности, что касалось видимой его стороны. Потому что уже и невидимая существовала, покамест мало кому ведомая, конспиративная, тайная сторона союзного дела. Заключалась она в организации боевых дружин. Все в «Союзе» считали – во всяком случае, кто был посвящен в тайну, – что идея принадлежала Дубровину, тогда как в действительности этим осуществлялась задумка Рачковского: террор на террор, однако Петр Иванович, как всегда, предпочел остаться в тени. Иное Дубровин. Тот стремился всечасно быть на виду, а тем паче с тех пор, как самому государю стал лично известен. И хотя по уставу «Союзом» управлял совет, действительным главарем, полновластным хозяином даже, сделался он. Располагая пухлым карманом – все субсидии, пожертвования собирал без посредников сам, на сей счет проявил талант недюжинный, и ни в приходах, ни в расходах отчитываться не любил, делал то, что считал нужным, и не терпел возражений. Ему уже побаивались противоречить…
Дружин в Питере создали несколько, наряду с городской – районные: нарвскую, путиловскую и другие. Денег на оружие не жалели. Револьверы хороших систем большими партиями доставляли в деревянных ящиках, главным образом из Финляндии или из Царства Польского. Их хранили в специальной комнатке на нижнем этаже дубровинского дома. Народишко в дружины насобирался всякий, зачастую сомнительный, и весьма, с такими отпетыми головорезами во главе, как Мишка по прозвищу Душегуб или Сашка Косой, готовыми и на вымогательство, и на шантаж, а то и на неприкрытый разбой. Доктор Александр Иванович, можно сказать, лично гарантировал боевикам безнаказанность.
За Невской заставой они облюбовали чайную в Прогонном переулке. Там, среди своих, не стеснялись. Только и речи было что о расправах да об убийствах, говорили, что сам Дубровин наставляет бить до десятого пота.
– А коли поймают, какая разница, сколько присудят, потому как все одно после помилуют!..
Граф Витте там тоже поминался нередко: виновник всего! Его первым положено снять.
– Я бы сам его пристрелил, как собаку! – на всю чайную обещал сгоряча один завсегдатай.
– Кого на это назначат, тот и пойдет, – сумрачно умерял его пыл другой.
Не всем, впрочем, по душе оказалось, что от «Союза» стало сильно отдавать уголовщиной. Но помалкивали из боязни, как бы самим под кулаки не попасть, когда не под выстрел… кому охота!
А покуда сорвиголовы упражнялись в похвальбе да постреливали себе помаленьку, головы посветлее, сойдясь на секретное совещание, втихомолку составили длинный список приговоренных к снятию… Притом против каждой фамилии со старанием наклеивался портрет, чтобы в нужный момент вернее узнать жертву в лицо. Лиц таких набралось сорок три; номера же им вытаскивала, можно сказать, судьба. Номер первый достался, таким образом, Герценштейну. Предназначаться‑то первый номер должен бы, по общему мнению, графу Витте – с графом, однако, судьбе было угодно распорядиться иначе. Ее волей и вторым оказался не он, а московский журналист Иоллос. В длинном списке значились думцы Родичев, Набоков, Милюков, Винавер, журналист–правовед Гессен, адвокат Грузенберг, все по большей части кадеты… Аппетиты далеко выходили за рамки первоначального замысла: в список ни один террорист не попал. Либералы, многоглаголящие краснобаи – да! Конституционалисты! Впрочем, вполне вероятно, Рачковский допускал и это в своих расчетах, одномерными никогда, в сущности, не бывавших. В числе целей, похоже, задумывал и такую – нагнать страх на так называемое общество… Или, больше того, – обзавестись под рукою как бы собственной, постоянно готовой к действию боевой организацией по образчику той, что имелась в распоряжении одного (его имя нельзя было произнести) полицейского агента в среде социалистов–революционеров… [41] с обратным, разумеется, знаком.
8. Две сетиТрудолюбиво, тщательно и по возможности беспрерывно, точно паук, вил незримые свои нити Петр Иванович Рачковский, сплетал в паутину агентурную сеть. После стольких лет вынужденного антракта из‑за дворцовых интриг его видимая карьера возобновилась в январе девятьсот пятого, за Кровавым воскресеньем следом, когда Дмитрий Федорович Трепов спешно возвратил его в Петербург, чтобы поставить во главе политического сыска. Лишь с такой высоты Рачковский сумел разглядеть и оценил в полной мере гениальность варшавского, да, впрочем, не только варшавского, своего знакомца–агента. Того самого, что появлялся в Варшаве наездами и коего заподозрил тогда Петр Иванович в причастности к судьбе Плеве.
Было время, сотрудник из кастрюлидаже считался как бы его воспитанником. Именно такова стала первая кличка предложившего полиции свои услуги студента из германского университета в Карлсруэ, по недослышке переиначенного крючком канцелярским в кастрюлю, что и было им начертано на обложке личного дела Азефа.
Как глава заграничной агентуры, Петр Иванович, понятно, не мог не ценить успехов удачливого агента, однако главное в нем, разгаданное тогда в Варшаве, в полной мере открылось Рачковскому уже в Петербурге. А именно двойственная и притом выдающаяся его роль. Полицейский осведомитель в то же время, будучи членом центрального комитета, возглавлял боевую организацию эсеров!
Однажды к концу лета, вскоре по возвращении из‑за границы, где провел чуть ли не год после гибели Плеве (это лишний раз подкрепляло предположения Петра Ивановича на его счет), он явился к Рачковскому с подметным письмом, полученным питерскими его товарищами по партии. Точнее, с копией полученного письма.
– Вот почитайте‑ка!
Петр Иванович пробежал бумагу глазами. Чем дальше, тем она делалась интересней. Речь шла о предателях в партии, виновниках многих провалов. Следовало исчерпывающее их перечисление, и названы были два имени. Одно – инженер Азиев. Далее была просьба письмо уничтожить, не делая ни копий, ни выписок, а предостеречь товарищей устно.
– Ну, что скажете? – поинтересовался агент, и ни жилка не дрогнула на каменно тяжелом его лице. – Вы, конечно, поняли: Азиев – это я.
– Что вы намереваетесь с этим делать?! – напрягся старый проказник, почуяв достойного партнера.
Никто ведь не заставлял его приносить рискованное письмо в департамент.
– А что бы вы посоветовали, Петр Иванович?
– Хм, хм… С какой стороны ни взгляни, так и так вы открыты… Но где, скажите, та сволочь…
Агент не дал шефу развить тему. Прервал:
– Вот и повезу это в Женеву. Центральному комитету. А что? Уж лучше пускай клевета попадет к товарищамиз моих рук!..
Без участия Азефа не обходился ни один сколько‑нибудь заметный террористический акт, осуществленный или проваленный. И он держал в руках рычагу, определявшие выбор. Вместе с товарищами они намечали очередную мишень. Определяли жертву. Выносили ей приговор. Ну а дальше ее судьбу – казнить или миловать – решал, в сущности, он сам. Мало кто обладал такой властью над людьми, над их жизнью и смертью. Жизнь сановника и жизнь террориста… и обоих их вместе зависела от него. Само собой, содержание – и не скудное, получаемое от ведомства, – значило для провокатора много. Но в какое сравнение с деньгами могла идти сладчайшая, тайная, почти безграничная власть… И кто же лучше Рачковского в силах был оценить это…
Помнится, когда впервые увидел Агента (с большой буквы!), внешность этого человека поразила его. Ухватил наметанным глазом – в мгновение ока – толщину, сутулость, тяжелую голову почти что без шеи, низкий лоб и суженный череп, поросший темными, жесткими даже на вид волосами, одутловатое лупоглазое лицо с приплюснутым носом и под узкими усиками вывороченные жадные губы. Низость, порочность этой наружности невозможно, казалось было, скрыть. И мелькнуло тогда у Петра Ивановича подозрение: уж не в отместку ли за собственную монструозностьчеловек этот выдает, продает, предает… уничтожает других?! Впрочем, на подобных психологических изысках не позволил себе застревать. Этот монстр вызывал в одно и то же время отвращение, уважение, страх… И матерый сыщик, по холодном раздумье, вывел, что у иуды тоже есть чему поучиться! Смог, сплетая черносотенную паутину, понять, что не может упустить подвернувшийся случай заплести параллельную, в революционной среде. Собственную, свою! Параллельную той, дубровинской, и одновременно – азефовской, ибо гений на то он и гений, что способен вырваться из‑под присмотра. Но тогда уже точно не собака завиляет хвостом, а хвост собакой! И вообще говоря, разве худо, если чуткие, покорные ниточки станут слушаться как правой твоей руки, так и левой?.. И притом чтобы правая ведала, что творит левая!
А также наоборот.
«Подвернувшийся случай» представился Петру Ивановичу в виде печально знаменитого вожака рабочего шествия в Кровавое воскресенье. После Девятого января поп Гапон бежал за границу. А где‑то в ноябре, ввиду октябрьского Манифеста, вернулся. Когда графу Витте в Зимнем дворце доложили об этом, он поручил Манасевичу–Мануйлову, тогда при нем состоявшему, уговорить расстриженного попа, для его же пользы и для пользы рабочих, чтобы немедленно убирался во избежание ареста. И суда за Девятое января. Словами первый министр не ограничился. Подкрепил их пятьюстами рублей из личного своего кармана. Стремление же Гапона восстановить разгромленные рабочие организации без внимания не оставил. Поднадзорные, подобно зубатовским, полицейскому ведомству, они, на его взгляд, заслуживали одобрения – дабы использовать их в собственных видах, для успокоения забастовок и смуты. Гапону, убравшемусяв Париж, даже переслали от Витте шпаргалку, по какой следовало составить воззвание к рабочим в поддержку Манифеста 17 октября и созыва Думы, чтобы больше не проливалось рабочей крови – «и так ее достаточно пролито». Рачковский был, ясное дело, прекрасно об этом осведомлен, равно как о том, что глава правительства распорядился отпечатать воззвание порядочным тиражом на средства департамента полиции… В конце декабря Гапон, однако, опять объявился в Питере: перед тем незадолго графу Витте от него передали, будто бы он готов раскрыть властям боевую организацию эсеров, и Манасевич–Мануйлов в связи с этим был отправлен за ним в Париж.
Увы, у Петра Ивановича это была не самая счастливая полоса. Жизнь, конечно, приучила его к тому, что полосы чередуются – за черной когда‑то наступает и светлая… Но все же, все же… Недовольный его деятельностью в Москве, куда его отправили для ареста бунтовщиков, министр по возвращении вскоре от службы в департаменте его отстранил, хотя и поручил переговоры с Гапоном. От успеха их, таким образом, во многом зависело, восстановится ли его положение. Минует ли черная полоса…
Поначалу они скрытно встречались у Мануйлова на квартире. Тему обсуждали одну – возобновление гапоновских организаций, отделов, как он их называл. Их с десяток насчитывалось в Петербурге.
При втором разговоре, однако, стоило хозяину отлучиться из комнаты, Рачковский быстро проговорил:
– Этот Мануйлов – балда. С ним не следует иметь дела!
И дал номер своего телефона: четырнадцать, семьдесят четыре.
– …Домашний, звоните в любое время…
Нетерпеливый Гапон позвонил назавтра же:
– Ну как там с моими отделами?
– Надо свидеться лично, – ответил в трубку Петр Иванович. – Жду вас в ресторане Донона, в девять вечера. Спросите Иванова.
При свидании он постарался, как обыкновенно в подобных случаях – а сколько таких у него было, – расположить к себе собеседника, подлещивался к нему. Тот, впрочем, отвечал тем же. Петр Иванович не скрыл, что уполномочен министром. И что и министр, и граф Витте считают Гапона человеком талантливым, но в то же время опасным. Побаиваются, как бы опять не устроил какой‑нибудь вспышки, вроде Девятого января. Гапон уверял, что взгляды его изменились. Он и раньше склонялся в сторону мирных действий, теперь же совершенно отказывается от резкостей, тогда высказанных в прокламациях, и сожалеет о них. Петр Иванович в этом Гапона одобрил, но сказал, что не имеет гарантий.
– Вам бы следовало написать министру и все, мне здесь сказанное, изложить.
Гапон заметно заколебался.
– Без такого письма, – сменив тон, как меняют на столе блюдо, жестко сказал Рачковский, – нечего и просить возобновления ваших отделов. Ведь министр не может обратиться к государю с пустыми руками. Необходим оправдательный документ.
Поп–расстрига перестал набивать себе цену. Отодвинув тарелки, тут же принялся за требуемое письмо.
Задумчиво потягивая из бокала, полицейский полковник молча за ним наблюдал. Господин тщился выглядеть хорошо одетым. Знаменитую по Девятому января бороду заменил модною эспаньолкой, на помятом лице сверкали алчно глазищи. Он, скорее, смахивает на коммивояжера, нежели на народного трибуна, отметил про себя Петр Иванович.
Мельком глянув не витиевато подписанное письмо, обещал передать его по назначению и попросил согласия прийти на следующую их встречу с крайне интересным, талантливым (и добавил про себя: толстокожим) коллегой, возможно первым по этим качествам во всем департаменте. Полковник Герасимов очень желает видеть Георгия Аполлоновича Гапона.
Георгий Аполлонович Гапон согласился.
Даже самые переговоры с ним недешево обходились казне. Рачковский приглашал на обеды в дорогие рестораны – и притом в отдельные, естественно, кабинеты, – заказывая лучшие блюда у Контана, у Кюба на Морской, у Донона на Мойке. Стол ломился от яств и питий… На такие расходы в департаменте не принято было скупиться.
И на следующий раз был заказан стол у Кюба на три персоны…
Незнакомый Гапону полковник, разумеется в штатском, обрадовался встрече столь бурно, что полез обниматься, между прочим ощупывая карманы Гапона, и даже похлопал его пониже спины, чтобы верней убедиться в отсутствии револьвера. Убедившись, принялся расспрашивать о жизни революционеров, и Гапон охотно стал хвастаться, чтобы произвести впечатление, будто он все знает и может.
За обедом Петр Иванович передал впечатление начальства от его письма.
– Знаете, что сказал граф Витте? «Гапон хочет меня поиметь, но это ему не удастся!..»
Кусок едва не застрял у Георгия Аполлоновича в горле.
Сам же Петр Иванович по–прежнему осторожничал:
– Вы бы нам доказали, что не имеете старых замыслов. Вы бы нам помогли… Рассказали бы, к примеру, о боевых дружинах…
– Нам известно, ваш друг Рутенберг занимается ими, – проговорил в свой черед Герасимов. Ловцы–полковники опять составляли дуэт. – Но прячется хорошо. А словили – пришлось отпустить, улик не было… Вот вы, похоже, нуждаетесь, – добавил он безо всякого перехода, – а друг на рысаках разъезжает, кутит. Большими деньгами распоряжается, видно…
– Вы бы нам вот этого соблазнили! – подхватил Петр Иванович.
И тут пошел торг между ними.
Сбивая цену, Петр Иванович сникал на глазах, даже дрожь в голосе появилась, артист!.. Казалось, еще чуть–чуть – и заплачет.
– Я стар, а заменить меня некем. Вот вы бы показали себя… Нам нужны такие, как вы. Возьмите мое место!..
Соблазнительны посулы полицейских полковников! В ответ Гапон подтвердил: он готов исполнить обещанное графу Витте. Но для этого надобны деньги… большие, господа, деньги! Сами заметить изволили: Рутенберг тратит свободно. Тут мелочью не обойдетесь. Между тем он уверен: крупной суммой Петра Рутенберга удастся заинтересовать!.. Тот руководит боевой организацией, да потерял веру в победу…
И назвал свою цену. Пятьдесят тысяч ему и столько же его другу, тому, кто спас его жизнь в Кровавое воскресенье.
На таких условиях он, Гапон, обещает поехать в Москву к Рутенбергу.
Об этом заманчивом плане Рачковский без промедления доложил министру. Министр внутренних дел Дурново посоветовался с председателем Совета Министров.
Сергей Юльевич рекомендовал соблюдать осторожность с Гапоном, но за платой ему особенно не стоять.
В итоге Гапон отправился, как обещал, в Москву.
Рачковский же велел кому следует проследить, как Гапон исполнит свое намерение встретиться с Рутенбергом; и ему вскорости сообщили, что эти двое действительно свиделись в Москве, в «Яре»… И когда на следующем завтраке у Кюба вернувшийся в Питер Гапон доложил шефу, что наверное Рутенберг согласится с ним побеседовать, у Петра Ивановича не было оснований в том усомниться.
Наполеоновский его замысел, похоже, приближался к осуществлению.
И снова была назначена встреча втроем – на сей раз второму полковнику предпочли террориста.
В девять вечера, в субботу 4 марта, в ресторане Контан.