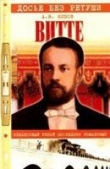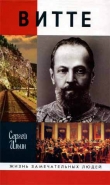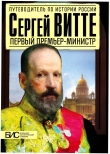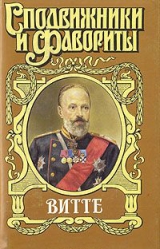
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
И еще досказал:
–…При той политике, которую вы ведете, боюсь, в настоящих условиях вам не избежать… – тут он явно замялся, – не избежать встречи с каким‑нибудь вооруженным фанатиком.
Помрачнев от этакого предсказания, Плеве, однако, и тут не возразил ничего.
И охотно, хотя и достаточно вежливо, пожал протянутую ему руку.
Разговор этот на Плеве, конечно, мало подействовал. Да и Сергею Юльевичу не многое прояснил. Впрочем, нет, явный холод, что буквально сквозил от Плеве, подтвердил подозрения о причине отставки. А вернее, о поводе, подтолкнувшем ее. Потому что причина не вызывала сомнений. Кто же мог допустить, что министр внутренних дел ведет политику вопреки царю?! Несогласие с Плеве означало несогласие с государем.
В самом деле, проявлялось оно во всем, чего ни коснись.
Хоть политики на Кавказе;
Или вопроса крестьянского.
Или еврейского.
И действий дальневосточных тем более.
Потому что именно Плеве стал невидимым стержнем того течения, что стремительно сносило Россию к войне и – стало быть – к революции, укрепляя в царе уверенность, что с легкостью расколотим этих макак…
А когда, уже во время кампании, генерал Куропаткин [28], за военные неудачи смещенный, упрекнул в этом Плеве, тот ему с невозмутимостью возразил, что генерал плохо знает внутреннее положение. И закончил фразою, которой суждено было стать крылатой: чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.
14. ИнтригаКак‑то раз князь Мещерский попросил Сергея Юльевича принять полицейского полковника Зубатова [29]. Эта просьба не вызывала восторга, но и отказывать старому знакомому не хотелось.
Князь Вово был влиятелен во дворце и неповторим в своем роде. Внук историка Карамзина, в свое время он был товарищем детских игр рано умершего цесаревича. В память брата император Александр III выказывал особую благосклонность Мещерскому. Да и знал его с детства. Но при всем том князь Вово при дворе не был принят, равно как и в свете. Когда Сергей Юльевич, человек в Петербурге в ту пору новый, случайно познакомился с князем, то был незамедлительно остережен – то ли добрыми людьми, то ли злыми языками, как разберешь, – что князь этот грязная личность и в порядочные дома не вхож. В чем грязь его заключается, люди добрые объяснили не сразу… С императором князь виделся крайне редко, но исправно писал ему письма, обращаясь на «ты», что мало кому дозволялось, и Александр III иногда отвечал князю. Его влиятельность, собственно, этой перепиской и объяснялась. При Николае II она совсем было прервалась, пока при посредстве Сипягина, князю родственника, не возобновилась. А с нею и влиятельность тоже.
Содержание писем напоминало как бы дневник политических новостей. Помимо прочего, известный как публицист, Мещерский издавал и редактировал газету, не менее того известную своим направлением. Субсидировал издание сам государь. Став министром финансов я по долгу службы выплачивая из казны Мещерскому суммы на его «Гражданина», Витте волей–неволей узнал его ближе. Тем более князь Вово, в ряду многих других, искал дружбы с министром финансов…
Ну а что до полковника из полиции… К любимой затее Зубатова – рабочим организациям под опекой– Сергей Юльевич не питал симпатий. Хотя бы по той причине, что своими претензиями к фабрикантам они затормаживали накатанный ход производства. Впрочем, нельзя было не признать, как важен противовес влиянию на рабочих всяких социалистических и анархистских течений. Так или иначе, карьеру полковник Зубатов сделал на этом, под покровительством весьма высоких особ. Министр Сипягин, правда, не принадлежал к их числу, Зубатов вошел в силу уже после него. Однажды Плеве даже сказал Сергею Юльевичу, что в руках Зубатова спокойствие государства…
Естественно, министр финансов ожидал от полицейского чина каких‑то обычных денежных ходатайств. Однако в своих предположениях на сей раз ошибся. Разговор получил оборот на удивление непривычный. Посетитель, которого Сергей Юльевич разглядывал с любопытством, завел речь о том, в каком состоянии находится нынче Россия.
– Все бурлит, – со знанием предмета говорил круглолицый плотный господин в сюртуке, сильно смахивающий на семинариста своей бородкой, очечками, зализанными волосами, – все бурлит, и одними полицейскими мерами революции не удержать. А своей политикой Плеве загоняет болезнь внутрь, что ничем хорошим не кончится!..
– Зачем вы все это рассказываете мне?! – словно бы в изумлении всплеснул руками Сергей Юльевич, не без оснований опасаясь полицейской ловушки. – Вы должны говорить это Плеве!
– Поверьте, говорил, и говорил не единожды! Предупреждал даже, что он головой рискует, ведь я его уже в нескольких случаях спас.
– И что же Вячеслав Константинович?
– А ничего. Взявши полицейский курс, отойти от него он не хочет. Или не может…
Для Сергея Юльевича все это было и без Зубатова ясно. Если быть откровенным, он и сам мог все это сказать… Да, собственно, и говорил в глаза Плеве. Мог и этому господину… но перед ним сидел профессионал–провокатор, прекрасно осведомленный обо всем. Иначе бы не пришел искать в нем союзника против собственного министра – подстрекать? вербовать?.. А возможно вполне, и явился‑то по его поручению.
– По–хорошему, мне бы следовало отправиться на Фонтанку. Передать Плеве наш разговор, – так сказал Сергей Юльевич неудобному своему посетителю. – Но не стану вредить вам. Давайте считать, что никакого разговора не было между нами…
А немного спустя они встретились снова и как бы случайно. На сей раз в Гродненском переулке, у князя Вово Мещерского дома.
Даже зная непостоянство князя Вово, трудно было понять, каким образом он принял сторону Зубатова против Плеве. Сергей Юльевич знал. У него на глазах отношение князя к Плеве однажды уже совершило, так сказать, полный поворот «кругом». Незадолго до гибели Дмитрия Степановича, помнится, втроем обедали у Мещерского, они в каком‑то родстве состояли. Сипягин сетовал на трудности своего положения, признавался, что порой даже готов просить императора об отставке. Заговорили о возможном преемнике. Когда выплыло имя Плеве, то Сипягин сказал, что этот человек, став министром, будет действовать только в личных видах и принесет большие несчастья России. С чем Мещерский вполне согласился. Однако после смерти Сипягина, повидавшись с Плеве, написал государю письмо, что, по его мнению, именно Плеве единственный достойный кандидат в министры внутренних дел, способный задушить революционную гидру, поразившую светлой памяти министра Сипягина.
Назначение состоялось. И естественно, началась дружба у князя Мещерского с новым министром.
Отчего же Зубатов, по сыскной службе сведущий обо всех и про вся, от Сергея Юльевича подался к князю Вово со своими рискованными разговорами? Не оттого ли, что вынюхал, что их дружба с Плеве дала явную трещину из‑за событий, связанных с японской войной? Надо князю отдать справедливость, он был против авантюры на Дальнем Востоке, за которую так ратовал Плеве. Это, в сущности, отдалило его и от Плеве и от государя. И, само собой, примирило с ним Витте. Только это обстоятельство и позволило со вниманием вникнуть в хитрый замысел против могущественного министра. С простой целью – свернуть ему шею. Политику можно уподобить игрушке, калейдоскопу, такой был в детстве у дочери Матильды Ивановны… и Сергея Юльевича. Фигуры сбегаются, разбегаются… Вчерашние противники становятся союзниками, и напротив… Простая цель объединила Мещерского, Зубатова, Витте, всех троих вместе, хотя у каждого из троих на то имелись собственные резоны. План интриги придумал Зубатов.
– Ничего сложного, Сергей Юльевич, – объяснял, посмеиваясь и указывая на Зубатова, князь Вово, – вот Сергей Васильевич сочинит письмецо и случайно, будто бы при перлюстрации, его обнаружит. Письмецо как бы от одного верноподданного к другому с осуждением Плеве, который‑де обманывает царя и подрывает веру в него в народе. И что одному только Витте, по уму и преданности царю, под силу оградить государя от бед и придать блеск всему царствованию… Со своей стороны я берусь, Сергей Юльевич, поставить в известность о таковом письмеце его величество и подать при этом совет прислушаться к гласу народа!..
Услышанное не возмутило Сергея Юльевича. В этот вечер, вопреки обыкновению, он больше молчал. Впрочем, участие в подобной интриге, весьма попахивающей провокатурой, разве с его обыкновениями сочеталось… Что поделаешь, когда дух провокаций витает в государстве Российском? Ах, политика и мораль – между ними не много общего. Все равно что корень квадратный и поросенок с хреном! Да и цель была благородной – перевести российскую стрелку с гибельного пути. Искушение подействовало чересчур сильно… И молчание – знак согласия, кто тут спорит. Совсем немного времени понадобилось, чтобы он засожалел о содеянном. Не раскаялся. Пожалел. Нет, тут дало не в угрызениях совести… Просчет! Недопустимый, непростительный при его‑то опыте, по–мальчишески грубый. Вспоминать о своих просчетах Сергей Юльевич не любил, изобрел свою версию происшествия. Но так или иначе, а государю донесли‑таки про их сговор!
15. РасплатаУ каждого министра был назначенный день недели для всеподданнейшего доклада. У министра финансов – пятница.
В четверг вечером Сергей Юльевич получил от царя записку, чтобы завтра привез с собой в Петергоф управляющего Государственным банком.
Как обычно, докладывал Сергей Юльевич около часа, делая некоторые предположения на будущее, и государь их милостиво одобрил.
Сергей Юльевич уже стал прощаться, когда услышал вопрос, привез ли он государственного банкира.
– Он в приемной комнате.
– Каково ваше мнение о нем?
– Наилучшее, – при всей своей быстроте еще не вполне понимая, к чему клонится разговор, сказал Сергей Юльевич. – Это один из моих ближайших сотрудников…
Тогда государь поднялся и с внезапной торжественностью произнес:
– Сергей Юльевич! Я прошу вас принять пост председателя Комитета Министров! А на должность министра финансов я хочу назначить управляющего Государственным банком.
Государь имел склонность к сюрпризам в этаком роде и; растерянностью Витте явно обрадованный, покрутив ус, прибавил:
– Разве вы не довольны этим? Ведь место, вам предлагаемое, есть самое высшее место в империи!
– Это высшее место вернее было назвать самым бездеятельным в империи. Почетная ссылка; Проглотите, Сергей Юльевич, позолоченную пилюлю. В комитет, как на административную свалку, сплавляли третьестепенные и спорные, рискованные, рогатые, как их называли, дела – для обсуждения время от времени собиравшимися господами министрами.
Он вернулся в тот день к себе на дачу на Елагин остро» обессиленным и разбитым. Распустивши ворот рубахи, рухнул в кресло.
Еще по дороге, на Балтийском вокзале, отвечая ожидавшему его из Петергофа Колышке, приближенному лейб–журналисту, что такое случилось, обошелся единственным словом:
– Выгнали.
И выразительным телодвижением пояснил: пинком в зад!..
Заслужил после десяти с лишним лет беспорочной верноподданной службы! Озолотил Россию и получил за это спасибо, благодарность за укрепление бюджета, не только избавленного от дефицита, а, напротив, с избытком доходов над расходами, достаточным для накопления свободной наличности; и награду за громадные финансовые операции с займами на строительство железных дорог и проведение денежной реформы; воздаяние также за развитие железнодорожной – кровеносной! – сети и промышленности под защитой протекционной системы и с поощрением в то же время иностранных капиталов; знак признательности, наконец, за расширение коммерческого и технического образования…
В голове между тем неотвязно вертелось: что же все‑таки такое произошло, почему для пинкаулучен был именно этот момент?..
Несомненно, тут едва ли могло обойтись без Плеве. Накануне он являлся к государю с докладом. Министр внутренних дел докладывал по четвергам. Но какой же ход он придумал, чтобы окончательно склонить государя на свою сторону?..
Догадка на сей счет у Сергея Юльевича мелькнула не сразу, а лишь только когда услышал, что отправлен в отставку и – того более – под арест и в ссылку один из столпов департамента полиции Зубатов.
О случайном совпадении наивно было бы думать.
Вот, значит, на чем Сергея Юльевича переиграл Плеве. Всеподданнейше доложил об интриге министра финансов… От кого же узнал Плеве? Сговаривались втроем, так что, по логике, предательство третьего несомненно. Поехал к недавнему приятелю и все рассказал, не умолчав, само собой, и про то, что начал Зубатов с посещения Витте… И сколько впоследствии весьма осведомленные лица ни уверяли, что проболтался Зубатов, Сергей Юльевич стоял на своем. Иного логика не допускала.
В четверг Плеве сделал доклад государю.
В пятницу государь отправил Витте в отставку.
Ему потом не раз попеняли на то, что не должен был перед войной оставлять свой пост, дескать, так патриотыне поступают.
– Да я не ушел, а меня прогнали, – оправдывался он в таких случаях, не вдаваясь в рассуждения по поводу патриотизма (а было что сказать).
– Потому и прогнали, что вы всегда спорили и возражали. Подчинились бы, не прекословя, так не прогнали бы!..
Старая песня ревнителей непогрешимой власти.
… – Одно из двух: или наш государь самодержец, или не самодержец, – сказал ему однажды один из опальных министров в доверительном разговоре. – Коли я считаю, что да, значит, моя обязанность, сообщив свое мнение, как бы государь ни решил, затем в меру сил постараться выполнить его волю!
А Сергей Юльевич спорил, не мог себя побороть, петушился, отстаивал собственные подходы, и, по мере скатывания к войне, его несговорчивость все сильнее раздражала царя. К тому же и доброхоты подливали масла в огонь, Плеве первый. Желание хлопнуть дверью возникало, признаться, у Сергея Юльевича не однажды. Он его в себе всякий раз подавлял. Уйти самому казалось уступкою Плеве…
Но после отставки кто‑то спросил у лица, весьма приближенного к государю, что сказал он, когда все это разрешилось.
Приближенное лицо ответило кратко:
– Государь сказал «уф–ф»…
Без малого через год под карету министра Плеве анархист швырнул бомбу. Вячеслава Константиновича разорвало на куски. Портфель же с бумагами остался цел–невредим. При полицейском осмотре рядом с докладом, с которым министр торопился тем утром к царю, нашли донесение от тайного агента. О замышляемом покушении на царя, в подготовке к коему принимает участие бывший министр Витте. Должно быть, погибший намеревался прочитать это государю. Идея Зубатова, таким образом, как будто бы не пропала втуне: Сергей Юльевич выяснил верно, под чью диктовку писался донос.
Ну а плюс к тому в кабинете у Плеве, в столе, обнаружили пачку перлюстрированных писем. Там к скопированному письму Витте, ругавшего политику Плеве, приложены были письма неких никому не известных людей друг к другу, судивших–рядивших о близости Витте к жидомасонами, стало быть, по их разумению, к крайним революционерам (ну просто‑таки Зубатов наоборот!). Тут же в сопроводительной Записке к царю сам Плеве наводил адресата на мысль – хоть прямо не утверждал, – что, поскольку его политика есть политика государя, правы те, кто в Витте видит революционера… Бумаги успели побывать во дворце, поскольку собственною царской рукой на Записке начертано было: «Как тяжело разочаровываться в своих министрах».
Пусть это не по–христиански, Господь милостив… Сергей Юльевич не очень‑то горевал по убиенному Плеве.
В освободившееся же столь трагическим образом кресло ему усесться, разумеется, так и не довелось.
16. Савва Мамонтов. Судьба банкротаМинистров Сергей Юльевич подразделял на больших и на малых. К большим относил: военного, иностранных дел, финансов. А первым из них в этой табели признавал министра внутренних дел. В его кресло как магнитом тянуло многих важных особ. И как там присяжные остроумцы ни насмехались над тем, что «горе мыкали мы прежде, торе мыкаем теперь», на самом деле горе было тому, кто окажется поперек дороги, пусть случайно, хоть ненароком. Бюрократические жернова грозили перемолоть недотепу в труху. Савву Мамонтова затащило туда нежданно–негаданно, в страшном сне такое привидеться не могло.
А ведь был толстосум, без сомнения, фигурой приметной, хотя, само собой, и не в этих кругах. Миллионщик, предприниматель, железнодорожный деятель не из последних. Не с пустого места, не с нуля, как некоторые, начинал, но сумел унаследованное от родителя приумножить. С ним когда‑то вдвоем дотемна просиживали возле Ярославского тракта, все подводы считали, сколько их там протащится туда и сюда. Примерялся Мамонтов–старший, оправдает ли себя железная ветка, коли к Сергиеву Посаду от Москвы протянуть… На полсотни верст протянули – и дальше продлили, загребли на этом довольно… Только Мамонтову–младшему, Савве, показалось мало семейного дела для того, чтоб себя занять целиком. Компаньоны знали: не о деле Савва Иванович горазд рассуждать, не о трезвой наживе, а, к примеру, об оживлении русского Севера, – разумеется, во благо России. Идеальничал через меру. Обихаживал живописцев, дружбу с ними водил. А к тому еще пьески театральные пописывать успевал, даже оперы режиссировать!.. И что, главное, интересно – не один он такой купец был в Москве: Морозовы, Бахрушины, Третьяковы, меценаты, покровители изящных искусств, Сергею Юльевичу не вполне понятная публика, не щадили ни времени, ни капиталов, опекая богему. Он не мог понять такого разброса, самому вечно некогда было; драму, оперу, и азартные игры, и страсти – все вмещало в себя его дело!..Уж на что граф Толстой всем известный писатель, а ведь времени не хватало, чтобы толком его сочинения почитать… Нет, свои, питерские воротилы, все больше из банковских да из чинов министерских, приходились ему куда ближе, даром что с Саввой Мамонтовым – при подготовке выставки в Нижнем, – сказать прямо, изрядно сошлись, и в его Частной опере вместе с Матильдой Ивановной наслаждались Шаляпиным в «Князе Игоре», в «Годунове», в «Юдифи»…
Так что удивляться особенно было нечему, что прогорел со своей широтой сумасбродной. Не такие тузы в трубу вылетали… Савва даже угодил за решетку. И тут без участия Сергея Юльевича не обошлось… Мамонтов вернулся из‑за границы по вызову министра финансов – и хлоп, пожалуйте на казенный кошт!.. [4]4
Содержание.
[Закрыть]
Со стороны поведение Витте в этой истории могло показаться двусмысленным, необъяснимым. Сперва крепко выручил, просто‑таки спас запутавшегося в делах Савву Ивановича. Помог выбраться из финансовой ямы, в которую тот, по нерасчетливости, угодил. А спустя недолгое время сам же его в эту яму спровадил.
К числу тех, чье любопытство разбередила загадка подобного поведения «большого» министра – финансов, с известных пор примкнул министр «малый» – юстиции – Муравьев [30].
Случилось так, что вскоре после ареста обанкротившегося московского богача Сергей Юльевич отправился в Крым, на ялтинское побережье. По обыкновению, туда на бархатный сезон съезжался весь Петербург.
Муравьев уже находился в Ялте, когда Витте приехал, и Сергей Юльевич, согласно приличиям, счел нужным его гам навестить.
Всегда было интересно и поучительно побеседовать с Николаем Валерьяновичем. Блестящего ума человек.
Обменялись столичными и государственными новостями, и Муравьев, к слову, неожиданно проговорил:
– Вы, Сергей Юльевич, без сомнения, знаете, что Горемыке вот–вот придется оставить свой пост, так у меня к вам нижайшая просьба. Не проводите на его место Сипягина!..
– Откуда вы взяли, что это случится? – выказал Сергей Юльевич искреннее удивление, – И почему думаете, Николай Валерьянович, что меня спросят об этом?
– Ну как же! – Муравьев рассмеялся. – Прошлый‑то раз вы высказались за Сипягина! Это многие знают…
– Но почему же вы уверены, что такое случится?! Горемыка ведь за границей…
(Они как раз с Рачковским раскатывали по Европе.)
– Сергей Александрович мне верно сказал [31], – не стал Муравьев таиться. – И перед государем уже замолвил… чтобы меня назначить!.. Посодействуйте и вы, Сергей Юльевич!
– Не сомневаюсь, что великому князю виднее… Только я про это, поверьте, первый раз слышу!.. Прошлый раз действительно посоветовались со мной… Но поступили же наоборот, – в свой черед усмехнулся Сергей Юльевич, и разговор об этом как‑то сам собою увял.
Но осталась между ними неловкость, чувствовалось: Муравьев ему не поверил. Предсказание же его исполнилось в точности. Не успел Сергей Юльевич вернуться из Крыма, как прочел указ о смешении Горемыки и о назначении Сипягина на его место.
В результате министр юстиции затаил на него обиду и от сплетен, связавших Витте с плутнями Саввы Мамонтова, министерских ушей не замкнул. Того более, проявил объяснимое любопытство. Не сам, разумеется, никоим образом не сам. Только от Сергея Юльевича не укрылось, что судебный следователь стал упорно выспрашивать у арестованных по мамонтовской панаме про подробности их с Саввой Ивановичем отношений.
Спору нет, отношения между ними сложились… ну не то чтобы дружеские или приятельские… вернее было бы назвать их благожелательными. Не однажды начинания Саввы Ивановича находили сочувственный отклик у Сергея Юльевича, и в свою очередь пожелания Сергея Юльевича неизменно встречали понимание со стороны Саввы Ивановича… Взять, к примеру, покупку казной у Мамонтова построенной им Донецкой железной дороги в обмен, как бы это сказать, на встречную покупку Мамонтовым пришедших в расстройство казенных Невских заводов в Питере… Сергей Юльевич, со своей стороны, старался в долгу не остаться. Когда, выполняя просьбу его, Савва Иванович весьма поспособствовал представлению на Нижегородской выставке работ лучших художников, не только своей коллекции, других собирателей тоже, – то был за свои усилия высочайше пожалован орденом… И когда так и не поднявшиеся Невские заводы потянули за собою на дно главное мамонтовское предприятие – Московско–Ярославскую железную дорогу, а заправилы обоих обществ, пытаясь спастись, пустились, ради видимости благополучия, на всяческие извороты (перекладывали, скажем, деньги ничего не подозревавших акционеров из железнодорожного кармана в заводской, из Москвы – в Петербург, как если бы владели собственным частным банком), то Сергей Юльевич, будучи об этом осведомлен, не только закрыл на проделки глаза, но и бросил было тонущим спасательный круг. Не один даже. Сначала известный своей к нему близостью питерский банкир, Ротштейн, ссудил попавшего в затруднительное положение Мамонтова под залог его акций солидною суммой, а вскоре, опять же не без ведома, разумеется, Сергея Юльевича, москвичи получили выгоднейшую концессию. Сооружение железной дороги Петербург – Вятка сулило им солидные барыши… и, стало быть, покрытие прежних ущербов!..
Вот тут‑то и произошло непонятное на первый взгляд превращение. Метаморфоза. Не успели дельцы перевести дух, казалось выбравшись из трясины, как то же самое министерство, попечению коего они обязаны были концессией, вдруг потребовало ее у них отобрать!.. Для отмены высочайше одобренного решения пришлось министру Витте проявить незаурядную ловкость. А куда ему было деваться, если яма, в которую Мамонтов угодил, оказалась намного глубже, чем представлялось? При приемке вновь построенного участка дороги на Север такие вскрылись непорядки и перетраты, что запахло прокурорским расследованием. А тут подоспел и срок возврата ссуды Ротштейну.
Не в яму Савва Мамонтов угодил, а в петлю.
Потом, на следствии, он говорил, что Ротштейн, предложив эту ссуду, нарочно подстроил ловушку, чтобы завладеть его акциями. Заранее знал, – мол, денег ему будет неоткуда взять. На самом же деле тот, наверно, не думал, что дела столь плохи, Сергей Юльевич тогда в глаза заявил Савве Ивановичу, что он обманул их с Ротштейном… Заявил – и тут же попытался второй раз его вытащить, казалось бы, логике вопреки. В действительности логика, как всегда, ему ни на йоту не изменила. Крах Мамонтова грозил утянуть за собой кредиторов!.. Концессия и должна была стать вторым спасательным кругом, с условием, что в Обществе железной дороги заменят правление, сместив Савву Ивановича с первых ролей. Но, увы, и концессия не вынесла тонущих на поверхность… впору было выручать Ротштейна. Только тут Сергей Юльевич отступился. Того более, с его ведома было начато уголовное следствие обо всех их плутнях. Привело же это к тому, что катастрофически упавшие в цене акции мамонтовских предприятий скупила задешево казна, а на выгодную концессию хищно нацелился сэр Базиль, тогда как Мамонтова ждала скамья подсудимых.
В его действиях, правда, не столь корыстный умысел проступал, сколь грубые деловые просчеты… Доверился проходимцам. Вот что значило вместо дел отдаваться опере и прочим художествам, поделом ему, просвистал! Что дойдет до суда, в своих собственных (закулисных, само собой) комбинациях Сергей Юльевич допускал, однако, едва ли. Он Саввиной крови не жаждал… И наверное, по его бы и вышло… когда бы любопытства не проявил Николай Валерьянович Муравьев.
На все, что случилось в дальнейшем, легла мстительная его тень.
Известие, что следователи на допросах безнаказанно треплютего, Витте, имя, послужило для Сергея Юльевича сигналом опасности, и немалой. Кто‑то верно заметил, что ум наш алгебраическая величина, перед которой нравственная сила ставит знак свой – плюс или минус. Всеми признанный ум Муравьева был отмечен явственным отрицательным знаком, репутация его не оставляла в этом сомнений. Даже дядя его, знаменитый граф Муравьев–Амурский [32], умирая бездетным, при такой репутации графский титул племяннику, как бы следовало, не передал… Впрочем, Бог с нею, с частною жизнью. Важнее, что в прокурорской своей карьере Муравьев бывал и безжалостен и беззастенчив. Не один Сергей Юльевич знал примеры! Совсем молодым человеком он прославился, когда выступил обвинителем первомартовцев–народовольцев, окаянных убийц Александра II, и всех до единого подсудимых отправил на эшафот. Ему поручали самые запутанные и самые сомнительные дела, и он с ними неизменно справлялся. С такими, как громкий уголовный процесс «червонных валетов», в свое время взбудораживший всю Москву и умело сколоченный прокурором из разрозненных, мало связанных между собой происшествий. Московский генерал–губернатор, дядя царя Сергей Александрович, в самом деле с давних пор Муравьеву благоволил, в особенности же после того, как, расследуя ходынскую катастрофу (тогда, в день коронации Николая II, погибли в давке едва ли не две тысячи человек), он не обнаружил виноватых среди московских властей…
Одним словом, под пристальным взором «малого» министра юстиции «большой» министр финансов вступаться далее за разоренного Савву Мамонтова не решился.
И дело Мамонтова продвигалось заведенным чередом. А он при том и помыслить, наверно, не мог, что расплачивается не только за собственные прегрешения, но и за бюрократические интриги между сильными мира сего.
…Когда вызванного министром финансов с карлсбадских вод вчерашнего толстосума, не успел он вернуться, схватили, то во время обыска при аресте полицейские обнаружили у него заготовленную, видно авансом, записку: «…в моей смерти прощу не винить…»
На поступок, однако, мужества недостало. Уж больно Савва Иванович был жизнелюб…
А вот другой купец первой гильдии и коммерции советник, харьковчанин Алчевский, банкир, заводчик, шахтовладелец, приехавши в Петербург за кредитами и заказами для спасения лопнувших своих фирм и получив от министра финансов от ворот поворот, кончил счеты с жизнью под поездом на петербургском Варшавском вокзале. А обесцененные акции его предприятий с благословения Сергея Юльевича, того более с его помощью, в которой он каким‑то месяцем раньше отказал – вполне обоснованно, впрочем, – попавшему в отчаянное положение харьковчанину, все достались почти что задаром москвичам Рябушинским.
Возле хищных железнодорожных тузов, таких как Блиох, Вышнеградский, Губонин, Кербедз, отменную все ж таки деловую выучку прошел в свое время «юго–западный железнодорожник»…