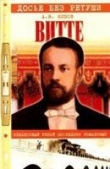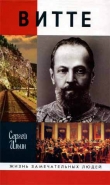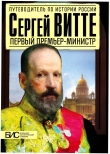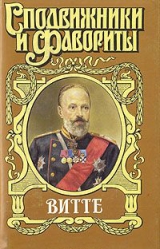
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Все проделано было без сучка без задоринки. Как положено, установили за виллой на Женевском озере наружное наблюдение, терпеливо дождались, когда профессор убудет, и в его отсутствие преспокойно обчистили дом, озадачив местную полицию неразрешимой загадкой, что за воры такие: ни на что не польстились, кроме никому не нужных бумажек.
А вот Петр Иванович к сим бумажкам отнесся с большим любопытством. До того как отправить по назначению в Петербург, погрузился надолго в их изучение. И не напрасно. Беспокойный профессор, известный в России как Илья Фаддеевич Цион, а в Париже как Эли де Сийон, плодовитый писатель и памфлетист, составил себе имя совсем на другом. Сделал крупное научное открытие в физиологии, занял кафедру Сеченова в Медико–хирургической академии. Что Циона заставило променять науку на публицистику, даже Петр Иванович толком не знал, зато знал, что повсюду это имя сопровождали скандалы. Академию он оставил после поднятого против него студентами бунта, в Министерстве финансов (куда по протекции отставного профессора взяли) он впутался в какую‑то историю и, покинув следом Россию, печатно набросился на прогнавшего его министра (Вышнеградского, предместника Витте), а потом, с нараставшим ожесточением, и на Сергея Юльевича самого… Уже здесь, в Париже, ославился громким бракоразводным процессом, бросив жену (еврейку, кстати, и из Одессы) ради красотки–актрисы. И конечно, для Петра Ивановича имело значение, что этот ревнитель православия, славянофил, был и сам вор прощеный, еврей–выкрест.
Поговаривали, что Витте отказался возвратить изгнанника я министерство, отчего на него тот и взъелся. Статью за статьей, за брошюрой брошюру, по–русски и по–французски, когда с намеками, а по большей части впрямую, в выражениях не стесняясь, принялся строчить филиппики против него. Возможно, не мог ему также, подобно многим, простить измены – прежнему с ними единомыслию. Вошедший в силу Витте нападки недолго терпел, по его настоянию пасквилянталишили российского подданства. Тот в ответ лишь сильней разъярился, его новые памфлеты стали жалить прямо с обложки: «Куда временщик Витте ведет Россию?», «Витте и его проекты злостного банкротства…». Заткнуть брызжущий ядом фонтан не удавалось. Вот Сергей Юльевич и решил обратиться к полицейскому гению Петра Ивановича…
Ну а Петр Иванович со свойственной ему любознательностью почерпнул кое‑что примечательное из раздобытыхна швейцарской вилле трофеев. По Циону (Сийону) выходило, что «главный самодержец России в данную минуту», он же «кровный нигилист» Витте, подготавливает катастрофу с целью подвергнуть Россию… социалистическимопытам. И делает все, чтобы ускорить отплыв русского золота за границу. Каковы же наступают последствия от расстройства финансов и экономического разорения, показала‑де история французской революции!..
Еще более того занимательными показались Петру Ивановичу ционские изобличения циническихспособов завладения властью, излюбленных, по его разумению, Витте. Чем‑то повеяло от этих рассуждений бесконечно знакомым, все эти мысли о величайшей силе золота на земле, о хозяевах капитала и биржи, прививающих вольнодумство, скептицизм, дух коммерции и спекуляции… путем подкупа управляющих прессой… Ах да, разумеется, Петр Иванович вспомнил, еще бы ему не вспомнить: речь раввина на еврейском кладбище в Праге из того немецкого романа, что не так давно сам использовал для Записки о тайнах еврейства. Составляли для питерских сферв скором времени после суда в Париже над Дрейфусом [16]. Вор прощеный, видать, из того же источника черпал… впрочем, нет, или, вернее, не только лишь из того. Перебирая свои трофеи, Петр Иванович наткнулся и на другой. На аккуратные, по–профессорски, выписки из (надписано было) сатиры Мориса Жоли на императора Франции Наполеона III под названием «Диалог в аду». Разглагольствовали духи двоих мудрецов. О деспотизме и либерализме, о государстве, формах правления и природе власти. И опять: сила золота, капитал, возбуждение к ниспровержениям…
«…Государственный переворот, который я совершу, я ратифицирую народным голосованием… С помощью голосования я установлю абсолютизм одним росчерком пера… Я учредил бы громадные финансовые монополии, от которых все частные состояния зависели бы настолько, что были бы поглощены на другой день после политической катастрофы… В этом обществе нет другого культа, кроме культа золота… Власть должна привлечь к себе, все силы и таланты, окружить себя публицистами, юристами, администраторами… Как бог Вишну, моя пресса будет иметь тысячу рук, и эти руки будут дотягиваться до самых разных оттенков мысли… Имеет ли политика что‑либо общее с моралью?!»
Что какой‑то француз Жоли, целясь во французского императора с его «макиавеллизмом XIX века», вложил в уста Макиавелли и Монтескье (один из которых оставил этот свет задолго до появления другого), тем ционские мудрецы слово в слово поражали ненавистного Витте! А поскольку в профессорских выписках мудрецы изъяснялись понятно что по–французски, то невольно и Петр Иванович по–французски же стал размышлять над заемною проницательностью сийонскихмудрецов… покуда в голове у него не мелькнуло: здесь, поблизости, в Швейцарии, в Базеле, о сю пору заседает конгресс сионистов… вот уж где диалоги в аду! – и с проказливого языка сам собою слетел каламбур: не сийонские – сионские мудрецы!
Перед тем как добытые бумаги отсылать в Петербург, Петр Иванович заказал себе копию этих выписок из Жоли, углядев в них желанное объяснение мировых неурядиц. Заправилам зловещего заговора против христианского мира слова об изощренной тактике овладения властью прямо так и просились в уста!
Лукавое воображение разыгралось вовсю. Будто бы не с дачи борзописца–профессора удалось выудить измышления озлобившегося ума, но секретнейший документ из сверхтайного хранилища! Главной канцелярии сионской!! Протокольную запись тайных заседаний с речами, в которых ораторы благодаря профессору с умом рассуждают о могуществе денег, установлении монополий, о подкупе прессы и экономических войнах… Ай да ловко придумал Рачковский!
Оставалось подобрать изготовителей с бойким пером, ну, этакой публики среди парижских агентов не приходилось искать, было б чем расплатиться. Обреталась между ними и достойная дама, якобы раздобывшая секретнейший документ в Ницце, этой столице иудейской… а на самом‑то деле для переброски в Россию ей врученный – самолично Рачковским!..
А там уж пошло–поехало.
Петр Иванович радовался, потираючи руки, значит, так, ха–ха, получилось. Первым делом какой‑то Жоли потревожил великие тени, дабы куснуть императора побольней. Затем профессор–подлец перелицевал Наполеона III а Витте. А уж Петр Иванович в свой черед, ха–ха, в мудрецов сионских… Ай да каверзник, ай да Рачковский! И поди‑ка следы отыщи. Быть замеченным по служебному положению не полагалось, тут уж, как говорится, увольте! Ни в каком случае, а тем паче в подобном!
Так что даже когда к Витте сие произведение в конце концов и попало, откуда ему было знать, что имеет к тому касательство сыщик Рачковский, и не только он; косвенно, через Рачковского, через его дружескуюуслугу, и сам, не ведая того, Сергей Юльевич… Здравый смысл, однако, вынудил его, по прочтении сразу же, усомниться, обратиться к присяжному поверенному, известному ходатаю по еврейским делам, с просьбой высказать мнение, впрямь ли подлинны эти злокозненные, мистические «Протоколы…».
9. Среди воротилМинистр свой заказ получил, но, похоже, благородства сыщика не оценил в должной мере.
Парижская позиция главы заграничной агентуры открывала исключительные возможности для налаживания необходимых связей… и их использования. Цели этого могли быть весьма далеки от служебных, но от этого вовсе не менее, а частенько даже куда более важны… В те годы небывалого промышленного подъема в России строительство железных дорог, и в первую очередь Великой Сибирской, равно как питающих его заводов железоделательных, паровозных, машиностроительных да Бог весть каких еще, Жаждало капиталов и капиталов. Выручка от хлебного вывоза оказывалась для этого совершенно недостаточной… А европейские дельцы в то же время, промышленные и банковские, рыскали в поисках приложения своим франкам, маркам и фунтам. Российский предприниматель ринулся им навстречу в рассуждении, у кого бы занять повыгоднее и побольше. Правительство стало всячески поощрять иностранные займы. «Сибирская магистраль возводится на деньги европейских кухарок», – острил Витте. В фокусе, в эпицентре взаимно пересекающихся интересов оказался Париж. И надо было быть действительно Дурачковским, чтобы не поживиться на этом.
Одно дело сорвется – наклевывается другое.
Гудящим роем вились возле российских министров привлекателитолстых карманов. Рачковский, один из таких, посредничал в «Княжеском деле» – проекте князя Белосельского–Белозерского (знакомого еще по «Священной дружине») построить паровозный завод в имении близ Сибирской дороги. Комиссионные при успехе сделки не шли ни в какое сравнение с сыщицкими доходами. Главное, что требовалось от него, – обеспечить правительственный заказ… Даже страсть Матильды Ивановны Витте к аристократическим знакомствам была пущена в оборот. Ее ловко свели с княжной Белосельской… Ловко‑то ловко, однако же тщетно… Дамы вдосталь пощебетали об общих знакомых, о модах и театральных премьерах и об отдыхе на водах… Для продвижения к цели княжна не проявила достаточно изощренности, а Матильду Ивановну никто не мог упрекнуть в нехватке ума. Она без труда раскусила, в какую комбинацию ее попытались вовлечь… Без сомнения, ее Сергей Юльевич был, должно быть, наиболее деятельным сторонником притока капталов из‑за границы, высмеивая доводы тех, кто опасался порабощенияиноземцами матушки–России. По его разумению, за патриотической маской скрывалась, как правило, простая боязнь конкуренции… При всем том министр финансов вовсе не допускал, что процесс может происходить сам собою, стихийно. Но – и тут была зарыта собака – контролировать иностранный капитал желал сам, минуя лишних посредников…
Он показывал это наглядно и недвусмысленно. Показал, к примеру, в деле Кругопетербургской железной дороги, где также не обошлось без Петра Ивановича Рачковского.
Проект такой дороги вокруг Петербурга представил некий молодой инженер. Среди прочих выгод постройки особо заманчивым выглядело избавление города от наводнений – дорога потребовала бы засыпки низменных мест в гавани, на Смоленском поле, – фактически сооружения дамбы, которая защитила бы от вечной угрозы. Помимо технической продумана была и не менее важная финансовая сторона. Предприимчивый инженер не просто подкрепил свой проект идеей акционерного общества с иностранным участием, но о том договорился с самим Базилем Захаровым, «людишки» Рачковского свели их между собой в казино в Монте–Карло… За предприятием, поначалу увлекшим самого государя, все явственнее проступала фигура патрона Рачковского, министра внутренних дел Горемыкина (министром, кстати, в свое время назначенного вопреки совету Сергея Юльевича).
Сын русского и гречанки, торговец оружием, компаньон фирмы «Виккерс», поставщик военного и морского ведомств, миллионщик, авантюрист, сэр Базиль Захаров вскоре явился в Петербург собственною персоной. Принимали тороватого гостя и Горемыкин и Витте, от которого, как от министра финансов, зависели правительственные гарантии создаваемому синдикату. Без гарантий вкладывать капиталы было бы, по деловому канону, неоправданным риском. Однако Сергей Юльевич с гарантиями‑то как раз и не захотел торопиться. Довольно‑таки бесцеремонно вторгаясь в виттевскую епархию, на сей раз, по мнению Сергея Юльевича, «его высокобезразличие» Иван Логгинович Горемыкин проявлял излишнюю прыть.
У министра финансов имелись в Европе собственные глаза и уши. В то время как Горемыкин приказал Рачковскому наладить слежку за агентами Министерства финансов, имея в виду подпортить марку чересчур много взявшему на себя Витте, Сергей Юльевич в свой черед дал своим агентам встречное поручение… Сэр Базиль же, оценив ситуацию, выделил ни много ни мало тринадцать миллионов из собственного кармана на… одоление бюрократических рифов. Не забыт был при этом ни Горемыкин, ни петербургский градоначальник, ни даже Витте… Чтобы к нему подступиться, стратегипридумали замечательный ход. Предложили всего лишь три миллиона… лейб–акушеру, близкому к царскому дому и одновременно к семейству Витте, дабы расположил Сергея Юльевича в их пользу. Для профессора задача оказалась посложнее вспоможения при родах или пользования женских недомоганий. Тем более что лондонский агент Министерства финансов проявил себя куда более расторопным, нежели парижские агенты Министерства внутренних дел. К моменту, когда их министр в сопровождении пышной свиты прибыл на переговоры с сэром Базилем и на борту роскошной его яхты наслаждался обществом сэра в компании самого греческого короля, Сергей Юльевич уже располагал уличающими Ивана Логгиновича документами… В итоге тот из своего турне воротился без министерского кресла.
Обскакал Рачковского лондонский агент Витте…
Этот Татищев был весьма колоритной фигурой, дипломат, публицист, историк, личность своенравная и авантюрная. Служа в российском посольстве в Вене, фактически им управлял, однако не слишком стеснял себя дипломатическим этикетом. Открыто сожительствовал с опереточной дивой, на коей, впрочем, впоследствии и женился. Когда началась война с турками, не счел нужным скрывать неприязнь к Германии и под давлением Бисмарка [17] вынужден был с веселою Веной расстаться. Отправился на войну. «Георгия» на грудь заслужил. Вернувшись, сотрудничал в «Новом времени» у Суворина [18] и написал объемистую историю царствования Николая I. И все, что ни делал, получалось будто играючи… Тянулась за ним и неясная тень от продажи каких‑то бумаг иностранцам, и этому, впрочем недоказанному, обвинению поверил царь Александр III… А Витте столь двусмысленному человеку предложил стать своим агентом. И он Сергею Юльевичу исправно рапортовал, как путешествует по Европе Горемыкин со свитой, к которой в Париже пристал и Рачковский. Как входит в соглашения с промышленными фирмами, за что свита получает существенные промессы [2]2
Обещание вознаграждений, посулы.
[Закрыть], и Горемыкину, по меньшей мере, про то известно… Словом, лихо использовал старый свой, еще до дипломатии – и до Горемыкина, – опыт службы по Министерству внутренних дел и раздобыл выразительные документы. Среди них, кстати, письмецо Рачковскому от его доверенного агента с любопытными характеристиками и Горемыкина, и самого Сергея Юльевича… Так что Петр Иванович свою партию проиграл вчистую, одно утешение было, что достался ему достойный соперник.
Из добычи Татищева, в частности, следовало, что за сотрудничество синдикат сэра Базиля вознамерился добиться концессии куда более важной – на сооружение железной дороги Петербург – Вятка. Эта линия была предназначена в конечном счете для соединения Петербурга с Великим Сибирским путем… В скором времени на Мойке, в Министерстве финансов, не без ведома, само собой, Сергея Юльевича повел на эту тему переговоры инженер из Англии, доверенное лицо сэра Базиля. С российской стороны занимался с ним сею тонкой материей Александр Николаевич Гурьев. В самом факте переговоров, как и в намерениях иностранных дельцов, ничего необычного, в сущности, не было. И в совместно составленном в их итоге соглашении тоже… Если бы не одно особое обстоятельство. Дело в том, что прежний концессионер в ожидании суда пребывал за решеткой. Не какой‑то очередной проходимец, не рыбешка – акула, первогильдийный купец и покровитель искусств Савва Мамонтов.
В деловых кругах поговаривали в открытую, что к разорению Саввы Ивановича определенно приложил тяжелую руку Сергей Юльевич.
10. Вкус денегВкус денег он распробовал смолоду. Впрочем, правильнее бы сказать, если только такое возможно, не самих денег вкус, а отсутствия их.
Ему едва исполнилось восемнадцать, когда умер отец. Печальная весть настигла их с братом Борисом по дороге на вакации после первого года в университете. Отец, изучавший когда‑то горное дело, управлял казенными Четахскими заводами и рудниками поблизости от Тифлиса. Он принял их под нажимом наместника в плачевном, и весьма, положении. В надежде такое положение выправить истратил массу денег, своих и жены, наделал долгов и неожиданно умер. Беда одна не приходит. На членов осиротевшей семьи был сделан за долги огромный начет. Спустя много лет, уже управляя Юго–Западными дорогами, Сергей Юльевич все продолжал выплачивать эти деньги…
Тогда же, до окончания университетского курса, кавказское наместничество назначило бедным братьям по пятьдесят рублей стипендии в месяц. К столь скудному существованию дворянские отпрыски хоть беспоместные, хоть захудалые, а все же не привыкли. А тут еще веселящаяся Одесса искушает своими соблазнами, да и в поджаренном бифштексе с картошечкой в кухмистерской у Ящука отказывать себе не хотелось. Пришлось, одним словом, искать приработка, как каким‑нибудь разночинцам… Что ж, студент–математик стал неплохо пробавляться уроками в обеспеченных семьях. В числе учеников оказались и сыновья Рафаловича. Известного всей Одессе банкира поминали нередко, когда кто‑нибудь умничал через меру. «Ты что, умней Рафаловича?!» – мог сразить одессит одессита: или муж жену, или учитель ученика, или компаньон компаньона…
Почтенный глава дома, из выкрестов, посещал церковь возле скромной гостиницы «Неаполь», где обитал репетитор его сыновей. Даже церковным старостой состоял. Ну а фирма его была из лучших в Одессе. У старика неожиданно обнаружилась слабость к обстоятельным беседам с мосье студентом. Мосье обучал молодых Рафаловичей премудростям обращения с числами, а сам, таким образом, потихоньку набирался житейской хватки обращения с деньгами.
– Или хотите скопить себе капиталец, молодой человек, – наставлял его старик Рафалович, – так не ложите бумажки в комод, а идите купите что‑то там золотое… или часики, например, или ложечку даже!..
Старик таки усвоил на долгом опыте, в чем разница между золотом и ассигнациями. Как ни странно, впоследствии Сергею Юльевичу неоднократно пришлось убеждаться, что эта разница далеко не для всех очевидна.
Мосье студенту до этого, впрочем, пардон, было минимум интересу, но, надо отдать ему должное, он обладал завидным качеством вбирать в себя новое, точно губка.
Так было потом, на железной дороге, где он честно, хотя и стремительно, пересчитал на служебной лестнице чуть не все ступени. Разумеется, вверх! Отсиживал в кассах, грузовых и билетных, в помощниках и в начальниках станции бегал, катался контролером и ревизором, и так далее, не перечтешь должностей, пока не стал управлять всей Одесской дорогой… а после и всеми Юго–Западными дорогами. В те годы в работе построенных наспех железных дорог отмечалась масса всяческих неправильностей,все держалось, прямо сказать, на живой нитке. Но деньги там бешеные крутились, одесскому Рафаловичу, наверно, не снились такие. Конечно, в первую очередь на строительстве. Однако и при эксплуатации тоже. Особенность частных железных дорог (а тогда едва ли не все были частными) заключалась в том, что они гарантировалиськазной, казна, иными словами, покрывала убытки. На десятки миллионов за год! Щелей, куда проваливались миллионы, имелось немало, но, похоже, наиболее широкую представляла собой неразбериха в тарифах. Провозную плату каждая дорога назначала сама. Чем будет дешевле, тем больше желающих прибегнуть к ее услугам. Лишь слепой не увидел бы здесь возможности нагреть руки. Вы желаете отправить свой груз? А конкурент, признайтесь, хотел взять с вас по два рубля? Я готов это сделать за рубль… Ну а разницу пополам!.. Вот за этакую игруна понижение железнодорожных тарифов и расплачивалась казна. «Юго–западный железнодорожник» слеп не был. И вчерашний математик к тому же, на досуге задумавшись над теорией этой крупной игры, в свободные дни на отдыхе в Мариенбаде сочинил про принципы железнодорожных тарифов целую книжку (писал ее, как нетрудно догадаться, не сам, роль пера с успехом исполнил знаток Шекспира, критик и журналист, по дружбе пристроенный им на Одесской дороге). И нежданно–негаданно это самое сочинение открыло перед ним семафор к дальнейшей карьере!..
Он пытался на первых порах отказаться от предложенной ему чести стать директором департамента в Петербурге по финансовой части всех российских железных дорог. Из тех же финансовых соображений, прежде всего. Когда имеешь годовое содержание в пятьдесят тысяч – и это в Киеве, где жизнь несравненно дешевле столичной! – а на должности в Петербурге полагается жалованья тысяч восемь каких‑то… больно дорого обходится сия честь. Но, увы, назначить его пожелал, как ему передали, сам государь и пообещал доплачивать еще столько же из собственного его величества кошелька…
Этой должности суждено было стать на пути к министерскому креслу решающим перегоном. Так что жертва с его стороны не оказалась напрасной… Кто же, впрочем, мог такое предположить?! «Юго–западный железнодорожник» исходил совсем из другого. Из масштабаон исходил. Ведь, в конце‑то концов, что его юго–запад? Только угол огромной России. А железным дорогам, в том был Витте уверен, предстояло стянуть ее всю, точно обручами [19], воедино скрепить гигантское тело… чтобы, скажем, Дальний Восток не достался японцам или китайцам, подобно тому как досталась Русская Америка Северо–Американским Штатам… В три десятка лет тридцать тысяч верст железных линий исполосовало пространства России. Но настолько они велики были, эти пространства, необъятны, безбрежны, что предстояло еще строить и строить. А на это требовались капиталы и капиталы. И вдобавок – еще капиталы.
Между тем он попал в министры после страшного голодного года [20], и в казне было пусто, хоть шаром покати. Сгоряча он придумал строить Сибирский путь на особые рубли, сибирские, с этой целью отпечатанные специально. Его прежние единомышленники, партизаны патриотизма, встретили проект на «ура», еще бы, обстроить Россию на свои, на кровные, безо всякого там заемничанья за окоёмом! Он их скоро разочаровал. И потом никогда не любил вспоминать завиральной своей затеи и конфузился страшно, когда кто‑то случайно о ней упомянет, потому как она говорила, сколь он мало тогда разбирался в науке финансов, куда менее, чем старик Рафалович в Одессе, и не более землевладельцев–помещиков, продававших хлеб за границу и принявших золотую валюту в штыки. Им казалось, чем рубль дешевле, тем выгоднее для кошелька, ведь на то же количество франков, вырученных за свой хлеб, они больше положат в карман рублей. (А того, что самим соответственно дороже обойдутся покупки, этого сообразить не могли.) Черт возьми, бумажные деньги в самом деле обладали привлекательным для них свойством: дешевели с годами. Хоть не плавно теряли в цене, а зигзагами и скачками, но обесценивались год от года. Что ассигнация, что кредитный билет… Подноготная открылась Сергею Юльевичу только на министерском посту. Как казна ни крепилась, а от выпуска необеспеченных денег не всегда могла удержаться.
Едва успел он усесться в высокое свое кресло, как является директор казначейства с известием, что очередное жалованье платить нечем. Что же делать, говорит ему новый министр, придется выпустить кредитных билетов этак миллионов на двадцать… Сказано – сделано. И тогда приходит к министру почтеннейший Бунге [21], прежде тоже в его кресле сидевший.
– Вы, – говорит, – уважаемый Сергей Юльевич, становитесь на ужасный путь. Печатание по мере надобности новых денег приведет к полнейшему расстройству финансов!
Сергей Юльевич принялся было его уверять, что это вынужденная, чрезвычайнаямера, что в дальнейшем он прибегать к ней не станет!..
И вот что мудрый Николай Христианович отвечал:
– В пашей искренности у меня нет причин сомневаться. Но, к сожалению, при этом на ум приходит та француженка, которая согрешила, а в ответ на упреки клянется, что такое с ней первый раз в жизни и более не повторится… Я, простите, не могу ей поверить. Так же в точности, как министру финансов, отпечатавшему на двадцать миллионов ничем не гарантированных билетов!..
Сколько раз он потом помянул эту ветреницу–француженку недобрым словом… до тех самых пор, пока не удалось ему восстановить в России золотое денежное обращение.
Не он первый задумался над реформой российских денег. Чтобы ее подготовить, прежде всего требовалось наполнить казну. Создать, таким образом, для реформы запас и основу. Ах как прав был одесский старик Рафалович: если хочешь скопить капиталец, покупай золотишко! У предшественников министра это не очень‑то получалось. Когда же все‑таки удавалось заключить иностранные займы, часть их шла на расплату по старым долгам, остальные – на неотложные нужды… Да и условия займов не слишком‑то выгодны были, ведь с пустою казной приходят просить, как с протянутою рукой… Русским золотом служила пшеница. Часть доходов от хлебного вывоза в виде пошлин перепадала казне. «Недоедим, а вывезем!» – кинул клич предшественник Сергея Юльевича Вышнеградский. И вывозили и недоедали, покуда хозяйство российское не давало иных источников. Даже в голодный год вывозили… А наличности все равно не хватало!
И питейная монополия внесла свою долю. Что ни говорилось бы об этом впоследствии (Сергеем Юльевичем в том числе), дескать, мера была введена ради уменьшения народного пьянства, – перво–наперво она приносила доход. Спору нет, открыли сколько‑то чайных взамен кабаков, и комитеты народной трезвости шевелились, и улучшилась пригодность пития, только в море водки, заливавшей Россию, было все это каплей. Не больше. А главное, если не лицемерить, заключалось в выручке для казны, в пьяном бюджете… Трудно было не сознавать порочности такого пути, да другого способа свести концы с концами покамест не находилось.
Даже так государственные доходы едва покрывали расходы. Статьи государственной росписи сводились со скрипом, накоплений недоставало. Получался заколдованный круг. Чтобы добиться устойчивости валюты, надо было переходить на золотую основу. Чтобы на золото перейти, необходимо было наполнить казну. Даже финансовые фокусы пошли в ход, лишь бы вырваться из этого круга. Одолеть эту стену. Фокусничалив государственной росписи: заранее уменьшали статьи доходов, чтобы в действительности выручить сумму поболе и в остатке чтобы оказалась наличность… Она, вожделенная дама сердца!..
…Когда все это было уже позади, когда он уже проломил стену и мог чувствовать себя на коне – от свободной наличности едва не в четыреста миллионов лопался государственный кошелек, – ему сделали лестное предложение прочитать курс лекций для наследника–цесаревича великого князя Михаила Александровича (это было еще до рождения цесаревича Алексея) о народном и государственном хозяйстве – политическую экономию и финансы. Нешутейное дело, в особенности для него, с его давним и притом математическим факультетом. Без палочки–выручалочки Гурьева ему бы худо пришлось. Одна наука финансов потребовала полутора десятков занятий…
Но всякий раз он приносил императорскому высочеству заранее составленный «пером министра» конспект. С такой подготовкою можно было позволить себе развернуться!.. И, оглядываясь далеко–далеко назад, для начала поведать о Медном бунтев царствование Алексея Михайловича, когда чеканка медной монеты с ценою серебряной или золотой довела до денежного расстройства, вздорожания всех товаров и – мятежа. И о том, что после таких событий стали осмотрительнее относиться к выпуску медных денег. Не разменные на серебро, они дешевели, и если на медяке было выбито «5 копеек», нельзя было верить глазам своим, поскольку медному пятаку цена была серебряная копейка.
После этого сама логика (с типографской техникой вкупе) привела к бумажным деньгам. Ассигнации, при Екатерине Великой обеспеченные на первых порах равной суммой вложенных в банк металлических денег, с каждым новым выпуском также начали дешеветь, даром что печатались лишь по крайней нужде; таким образом, к концу Отечественной войны за рубль ассигнациями едва давали двугривенный серебром… Тогда попытались их частью выкупить – на деньги, занятые за границей, – в расчете, убавив количество, тем самым как бы удорожить, поднять курс. Успех этой хитрости оказался ничтожен… И уже потом, при Николае I, предпочли избавиться от них вовсе, заменив на кредитные билеты; эти новые, опять же бумажные деньги опять же должны были размениваться на звонкую монету (для чего в очередной раз создали разменный фонд). Однако новая война, теперь Крымская, подкосила и новую денежную систему. И… сказка про белого бычка продолжалась. Который раз то же самое повторилось во время войны турецкой… Поистине бесконечную эту, разорительную, по рукам и ногам сковывающую долгами цепь могла разорвать только решительная реформа!
Так что далее Сергей Юльевич был готов приступить к рассказу на больную тему о том, каких неимоверных трудов ему, Витте, стоило озолотитьРоссию…