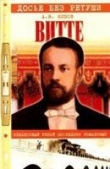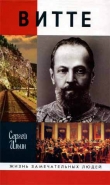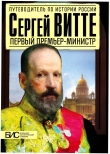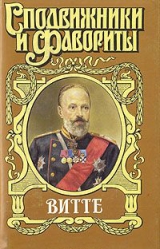
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Два обывателя проживали в начале девятьсот седьмого года в Москве под весьма редким, прямо сказать, по здешним широтам именем.
Из них первый еще прошлой весной лишился законного своего паспорта. Присел в Сокольниках на скамейку, пригрелся на солнышке, положил рядом с собою пальто, а в нем, в кармане, между прочим, и паспорт. А потом, отойдя, паспорта в кармане не обнаружил, хотя вроде бы близко и не было никого. Однако же, воротясь к злополучной скамейке, ничего ни на ней, ни возле нее не нашел… Пришлось после этого Казимиру Олейко–первому, не подозревавшему, впрочем, что он не единственный, подавать заявление о пропаже в полицейскую часть.
Без каких‑либо проволочек и осложнений скоро ему прислали из любезного Царства Польского абсолютно новенький паспорт.
Казимир же Олейко–второй в феврале поселился в доме Добролюбова на Большой Грузинской улице под номером 36 в квартире из четырех комнат, а затем еще снял неподалеку, на Большой Пресне, в доме Водо, кузнечное заведение с квартирой для служащих.
Если бы Казимиру–первому по случайности когда‑нибудь довелось увидать документ Казимира–второго, он, конечно, без всяких сомнений признал бы в нем тотчас свой потерянный – либо украденный – старый паспорт. Но такой случайности, разумеется, произойти не могло.
Запутанную биографию старого паспорта Казимира Олейко восстановило лишь расследование таинственного убийства Александра Казанцева.
Уже после получения Казимиром–первым нового документа полицейское дело о пропаже старого было передано в соответствии с правилами – купно с паспортом, который все ж таки в конце концов каким‑то образом отыскался, – из участка в охранное отделение, где его, как положено, списали в архив. И никто никогда бы в это плевое дело не заглянул, если бы не сказанное убийство. А тогда, из архива извлекши, в него заглянули наметанным глазом. И нежданно (а быть может, как раз и жданно) открылось, что все бумаги в деле аккуратно, с дотошностью канцелярской подшиты, за единственным исключением: нету паспорта самого!.. Хотя в протоколе о передаче скучного дела из участка в охранку он указан и, как отмечено, «препровожден, вследствие выправления Казимиру Олейко нового паспорта»…
Ну а как он к Шурке оттуда попал… об этом приходилось только гадать. Разгадка в общем‑то была запрятана не так уж глубоко, но что до подробностей, то их можно разве вообразить… как без лишнего шума изъяли документ из архивного дела по приказу захудалого полицейского чина, а затем передали агентуиз рук в руки, да так, чтобы свидетелей не осталось…
Зато до чего же удобно жилось с ним Шурке Казанцеву! Кому надо, внушал, что чужая фамилия позволяет вернее выслеживать разных смутьянов; кому надо, пускал пыль в глаза, что партия требует от максималиста прикрываться чужим именем для конспирации. И двойная такая, а то и тройная игра как нельзя лучше пришлась по сердцу Шурке с его авантюрным душком.
А узнать, что полицейское следствие как бы против собственной воли установило, каково в действительности происхождение Казимира Олейко–второго, – Шурке Казанцеву так в жизни и не довелось.
16. Петербург из БиаррицаВ субботу под вечер «старый железнодорожник» сел в спальный вагон скорого поезда на парижском вокзале Монпарнас и, благополучно проспав Орлеан и Тур, Ангулем и Бордо (разумеется, до мелочей изучивши весь этот маршрут), утречком в воскресенье уже сошел на станции, от городка километрах в трех. Не прошло получаса, как он обнимал свою Матильду Ивановну и внука, полной грудью вдыхая бодрящий воздух.
С появлением внука семейство Сергея Юльевича стало проводить здесь каждое лето. И вилла, в которой они поселились на живописной главной улице городка со звучным названием рю де Франс, скоро получила известность в округе как вилла Нарышкин. Дочь Вера с мужем Нарышкиным, обитавшие постоянно в Брюсселе – Кирилл служил там в российской миссии, – тоже частенько наведывались в Биарриц…
Французы давно оценили курортное местечко в Нижних Пиренеях на берегу Бискайского залива. Здесь не было, разумеется, блеска и великолепия Ниццы и всего Лазурного побережья, но это искупалось иными достоинствами. Начиная с императрицы Евгении, супруги Наполеона III, многие отдавали предпочтение Биаррицу. Русская публика тоже облюбовала его пляжи, воздух, природу… Любителей острых ощущений вводило в соблазн казино, азартная Матильда Ивановна порой тоже была не прочь туда заглянуть. В игорных комнатах – бакара и маскотт, род рулетки. Танцевальные вечера. Изредка концерты заезжих артистов. И до Байонны с ее развлечениями рукой подать… Жуиры, как правило, стекались в Биарриц ранней осенью, так что сентябрь – октябрь, до самого празднества основных местных жителей басков, почитали здесь русским сезоном. Даже церковь построили на щедрые русские деньги, прелестную, православную. А в летнюю пору здесь было сонно, спокойно, тихо, жару смиряли дожди и морские ветры.
После лихорадочного Петербурга последних месяцев, со всеми его встрясками, судорожными передрягами, туманами, насморком и моросящим дождем, одно это уже благодатно действовало, как лекарство. А к тому еще утренние морские купания, Гран–пляж на северной стороне, спускаясь к которому по извилистым аллеям смакуешь душистый настой сосновой хвои и цветников…
Мальчишка возится не песчаной отмели под надзором Матильды Ивановны. Здесь море почти всегда неспокойно, и баски–беньеры, купальщики, за небольшую плату оберегают барахтающихся в волнах клиентов. Кто предпочитает тихую воду, тому лучше пройтись на юг вдоль кромки ее под нависшими над головой скалами до Вье–Пера. Там залив глубже и нет волны. А крутой берег – Берег Басков – уходит вдаль, в Пиренеи, до самой Испании…
Словом, в полном равновесии духа, восстановленном уже через несколько дней по приезде, Витте смог почти что бесстрастно оценивать российскую обстановку. Вопреки видимой, в особенности вблизи, разнородности, отсюда, издалека, в череде происходящих событий, как ни странно, яснее обнаруживались подспудные связи.
Впрочем, и прежде утверждал не колеблясь: роспуск Второй Думы и последовавший переворот имеют целью получить наконец послушную Третью. Достаточно ознакомиться с новым выборным положением. На четыреххвостке, оглашенной после 17 октября, – всеобщее, прямое, равное, тайное голосование – оно ставило крест. Какое уж тут народное представительство, когда единственный голос помещика равен чуть не тремстам голосов крестьян и пяти с лишним сотням – рабочих… Одно это придавало Думе позу «Чего изволите?»! Голос масс разве мог быть в такой Думе услышан!..
Так вот, чтобы общество восприняло возврат к самовластию как насущную необходимость, требовались предварительные события, которых в реальности не происходило.
Волны смуты, революции, противоборства усмирило не только оружие, полагал Сергей Юльевич. Не одна винтовка–трехлинейка образца 1891 года. Но, в не меньшей степени, честная четыреххвостка образца 1905–го… Ну а волны если где еще и бурлили, то в законном парламентском русле… Власть надумала это русло перегородить, и, пожалуйста, вот вам заговор. Поужаснее, пострашнее! В результате – правительственное сообщение: о преступных сообществах, посягнувших на жизнь царя!.. и великого князя главнокомандующего!.. и Столыпина тоже!.. А вослед и другое: о раскрытии замысла членов Думы социал–демократов ниспровергнуть существующий государственный строй!! «Если Бога бы не было, его следовало выдумать!..»
В умиротворяющем своем далеке Сергей Юльевич лишний раз утверждался в справедливости собственных выводов: Столыпин воспользовался довольно‑таки туманными желаниями этих эсдеков, чтобы с помощью опытных поваров из Министерства внутренних дел обратить эти желания в умысел. Произвести тем самым на общество впечатление грозящей опасности. Как следует перепугать! Чтобы оно, наконец, безропотно переварило приготовленную ему пищу…
Как ни странно на первый взгляд, куда более скромное блюдо, а именно покушение на самого Сергея Юльевича, по его сведениям, входило в то же меню. И готовилось теми же самыми поварами. Правда, данные, какими он располагал, большей частью были отрывочны, как ни старался хотя бы в копиях раздобыть документы неповоротливого следствия, или, вернее сказать, следствий, – ведь попытка взорвать его дом в январе, убийство Казанцева и подготовка к майскому покушению выяснялись разными следователями. Следователи‑то разные, расторопность их одинакова… Из того, что все‑таки удалось разузнать, по крохам, по зернышку выклевывая изо всех кормушек, – где правдой, где по знакомству, а когда и по–российски за мзду, – возникала при всей мозаичности впечатляющая картина. Черносотенец, агент охранного отделения, маскируясь под социалиста–анархиста, готовил убийство руками всамделишных социалистов–анархистов. Ну, казалось бы, много ли значила опальная персона графа Витте по сравнению с самим государем или даже великим князем?.. Но нет! Коварство замысла в том состояло, чтобы показать обществу – а оно, увидев, откуда ему грозит наибольшая нынче опасность, ужаснулось бы накануне преднамеренного переворота. Если уж отца конституциине пощадили сии кровожадные головорезы, то чего ожидать другим… Ergo: пока не поздно, пора немедленно наводить порядок!.. Твердой рукою!
Так, похоже, все увязывалось в тугой узел.
И одновременно на расстоянии, издалека, когда глаза не засыпает песчинками мелочей, явственнее виделась Сергею Юльевичу показавшаяся поначалу даже симпатичной столыпинская фигура.
17. Истинно русский граф БуксгевденМежду тем труп, найденный в лесочке у станции Ржевка, очень долго лежал неопознанным, хотя лицо убитого молодого человека вовсе не было обезображено до неузнаваемости.
В официальном протоколе значилось, будто «никаких данных, кои могли бы послужить указанием к обнаружению личности убитого, добыто не было», хотя и предъявляли его для опознания чуть ли не пяти тысячам человек… Не надоумила полицейских прозорливцев и найденная в кармане убитого записка с телефонными номерами, которую они тщательно переписали в свой протокол. Номера, к примеру, были такие: 1-28 – генер. губер.; 133-27 – Климович; 31-40 – Гофштэтер… Из них первый номер в пояснениях не нуждался, а принадлежность второго и третьего нетрудно было проверить, заглянувши в московскую телефонную книгу. Тогда, возможно, открылось бы, что убитый, по меньшей мере, вступал в разговоры с начальником охранного отделения и с чиновником Министерства двора, известным своими связями особого толка. (Последние, впрочем, в телефонной книге не отмечались.)
Однако не надоумила, не проверили, не открылось… Все это с трудом поддавалось объяснению, если бы не одно очевидное обстоятельство. Полицейские власти явно не хотели поднимать шума. Только это одно позволяло объяснить их поразительную недогадливость. Надо думать, у них на то имелись причины. Слишком много нежелательных для полиции фактов могло бы открыться какому‑нибудь чересчур дотошному следователю. Ну а так – не опознан, втихомолку похоронили, кого – неизвестно; все свои неприятные тайны унес, как говорится, с собой навсегда.
И по тем же или, по крайней мере, сходным причинам предпочел бы избежать ненужного шума граф Александр Анатольевич Буксгевден, чиновник по особым поручениям при московском генерал–губернаторе. Происходил граф из рода, когда‑то пришедшего с крестоносцами в Лифляндию. Его дальний предок был основателем Риги, немало родни, баронов и графов Буксгевденов, служило по разным ведомствам в Петербурге; благодаря одному из них породнились, через жену Петра Аркадьевича, со Столыпиными… Особо почитался граф Федор Федорович, фаворит Павла I, тогдашний петербургский генерал–губернатор, а позднее присоединительФинляндии… Что до самого Александра Анатольевича, то он казался личностью малопримечательной. Так, во всяком случае, отозвался о нем прежний его патрон Дубасов, отвечая на расспросы Сергея Юльевича, впервые услыхавшего о московском графе в связи со всем этим следствием. Да и достатком сей Буксгевден похвастать не мог. Вечно был опутан долгами. Из квартиры на Новинском бульваре графа попросту выселили по причине неуплаты… Но с тех пор, после неприятности этой, минул всего год, а граф занял квартиру куда дороже на Никитском бульваре и завел прислуги семь человек. А когда случилось у него прибавление семейства – и какое: графиня преподнесла графу двойню, – восприемниками крестными у двойняшек согласились быть и супруги Климовичи, и сменивший Дубасова генерал–губернатор его высокопревосходительство Сергей Константинович Гершельман, и даже ее императорское высочество великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убиенного великого князя Сергея Александровича, родная сестра царицы… Вот вам и неприметный чиновник! Достаточно было сделаться участником монархического движения, ветвившегося по Москве, чтобы оказаться тем самым под покровительством генерал–губернатора, весьма благоволившего к хоругвеносцам и им подобным… Того более, стал доверенным человеком при сношениях генерал–губернатора с начальством охранки, благодаря тому что доставлял всевозможные слухи о готовящихся выступлениях – преступлениях! – революционеров. В свой черед, как особо доверенному, ему препровождались оттуда разрешения разным лицам на право ношения револьверов. Посещал генерала Климовича запросто, сдружились домами, кумовьями стали с Евгением Константиновичем и его супругой. Для начальника охранной полиции, само собой, не составляло секрета, что у кума Александра Анатольевича под началом имеется частная, а вернее, неофициальная, охранительная дружина, которая берет на себя заботу о различных видных особах как из правительственных сфер, так и «Союза русского народа»; кстати, не единственная такая. Ведь в Москве еще в пятом году в ноябре, до восстания, появился отделборьбы с анархией и революцией… Доверялись куму Александру Анатольевичу и куда более деликатные, нежели простая охрана, вещи. Было бы большой наивностью полагать, будто графский подручный по собственному своеволию затевал снятиепресловутого Иоллоса… И не только московский Буксгевден и петербургский доктор Дубровин при подобных действиях присутствовали за сценой. Телефон Климовича оказался в кармане Казанцева, надо думать, отнюдь не случайно…
Познакомился Шурка Казанцев с графом на собрании монархической партии минувшей зимой и сумел‑таки произвести необходимое впечатление. Это было в его манере. Порассказал о себе, и с избытком. О том, что для содействия власти вступает в революционные партии и вот–вот собирается в Питере раскрыть один заговор… Граф не захотел упустить столь деятельного помощника, стал и сам давать ему поручения подобного рода. И Казанцев не подводил, приносил весьма ценные сведения, каковыми граф затем усердно снабжал охранное отделение. И не только в Москве, в Петербурге также! Казанцев же в свой черед получал от графа рубликов по тридцать, а то и по сто на расходы либо в награду… Да и вообще сделался у графа, можно сказать, своим человеком, особенно после того, как обнаружил подпольный склад бомб. Петербургские связи графа за этот год упрочились, как никогда прежде. Довольно того, что, наезжая в столицу, теперь заглядывал обязательно к полковнику Герасимову Александру Васильевичу на Петербургскую сторону в охранное отделение, и градоначальник Лауниц Владимир Федорович [43] его почти как приятеля принимал… Кстати, именно Лаунииу обязан был петербургский «Союз русского народа» своим расцветом. Градоначальник не только вступил в него, но взял под покровительство, помог боевые дружины создать и снабдить их оружием. Вечерами передняя его большой квартиры на Гороховой, 2, полна была дружинников–боевиков. Он даже отказывался от полицейской охраны.
– Меня охраняют мои русские люди, – гордился перед графом Александром Анатольевичем, – настоящие русские люди, связанные с простым народом, хорошо знающие его настроения, думы, желания. Беда, что мы с ними мало считаемся, а они все знают лучше нас!..
Так высказывался о русских людях Буксгевдену (и разумеется, не ему одному) фон дер Лауниц, понимая, что тот в Москве передаст его слова Гершельману.
Александр Анатольевич знал, конечно, что питерский градоначальник далеко не единственный покровитель дубровинского «Союза». Однако в сближении Александра Анатольевича с доктором Дубровиным Лауниц сыграл немаловажную роль. Это он фактически благословил их совместные действия и по мере сил прикрывал их, начиная с убийства Герценштейна… Не в том ли заключалась причина его собственной гибели совсем недолго спустя, даром что, говорили, градоначальник стал носить панцирь не хуже боевика… От пули не уберег ни панцирь, ни «русские люди». Случилось это еще в правление Витте, и кое‑кто испуганно утверждал, что тут без его злодейства не обошлось…
Судебные следователи не тревожили ни Александра Ивановича Дубровина, ни графа Александра Анатольевича. Один раз, правда, вынуждены были допросить его как свидетеля по делу об убийстве Казанцева, тут уж просто некуда было деться… Высокопоставленные заступники, к счастью, еще оставались. И столичные связи Буксгевдена не оборвались после гибели Лауница. Равно как и московские связи Дубровина.
Как‑то раз они встретились на завтраке у градоначальника московского, Рейнбота. Гостей было много, однако это не помешало Дубровину вести себя совершенно свободно, прилюдно хвастаться, что имеет в Петербурге два склада оружия, о которых полиция знает, и к тому еще третий, которого полиции ни за что не найти. Разошедшись, еще объявил, что в его власти устраивать погромы! Нажмет, мол, одну кнопочку– погром в Киеве, нажмет другую – погром в Одессе…
Многие «союзники» утверждали – не громко, конечно, а перешёптываясь между собой, но до Александра Анатольевича докатилось, – что доктор, в особенности после царской к нему обращенной депеши, совсем закусил удила. Но на себе Буксгевден почему‑то этого не ощущал.
Так или иначе, в день назначенного и, увы, несостоявшегося взрыва в доме на Каменноостровском, 5, граф Александр Анатольевич изволили пребывать в Петербурге.
18. В Биаррице о СтолыпинеСаратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин занял пост министра внутренних дел в правительстве Горемыкина, сменившего Витте накануне открытия Думы. Она не пробурлила и трех месяцев, и на другой же день после ее разгона в кресло Горемыкина был усажен Столыпин. Сергей Юльевич публично высказывал свое этому одобрение, поскольку, со слов знакомых, почитал его за человека порядочного, либеральных воззрений. Все же, положа руку на сердце, испытывал‑таки чувство, близкое к ревности… Во власть опять не его, не графа Витте, призвали. Он ощущал себя наподобие генерала резерва, в постоянной готовности к спасению России – как было в Портсмуте или перед 17 октября… Только мало кому признался бы в этом.
Оратор школы русских губернских и земских собраний, новый первый министр обещал улучшить положение крестьян и инородцев, и полную веротерпимость, и расширение образования… Но – судите не по словам, а по делам его!.. С каждым месяцем Сергей Юльевич разочаровывался все более. Дела и слова никак не сходились, либерализм выветривался и на глазах таял. Говорит либеральные речи и, по наблюдению Сергея Юльевича, привечает «Союз русского народа»… ОседлавМанифест 17 октября, честный и решительный всадник погнал коня по обочине, далеко от законов, точно законы – это одна дорога, а исполнение их – другая, так что можно объезжать их по собственному усмотрению. На бумаге они стали существовать сами по себе, а жизнь пошла сама по себе, при нем так повелось…
Сергей Юльевич находился в Париже, когда террористы, именующие себя максималистами, обрядившись в полицейскую форму, взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове. Произошло это спустя всего месяц после возведения его в премьеры. Пострадали неповинные люди, среди них его бедные дети, сын и особенно дочь. Узнав про это, Сергей Юльевич тотчас отправил Петру Аркадьевичу сочувственную телеграмму… Покушение очень сильно повлияло на Столыпина, это многие отмечали. Знаменитые «столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны» появились, должно быть, не без воздействия этого. Сергею Юльевичу верно передавали, будто и сам он сего не оспаривал. Когда его упрекали в перемене образа мыслей, с какими приехал из Саратова в Петербург, признавался близким, что бомба на Аптекарском острове сделала его другим человеком. По–человечески это можно было понять, простить даже… но было ли такое позволительно государственному деятелю?!
Сергей Юльевич судил других строго, без снисхождения. Трудно было ему согласиться и с программой Столыпина по крестьянскому переустройству, этому капитальнейшему делу в крестьянской стране, начатому еще Александром II Освободителем и было продолженному Особым – виттевским– совещанием незадолго до несчастной войны, но, к сожалению, на полдороге не по своей воле оставленному… Доброжелатели, все эти патриоты собственных карманов, из своих, кстати ложно понятых, помещичьих интересов не позволили ему достичь цели, и кто лучше Сергея Юльевича представлял себе перипетии тогдашних баталий!.. Позднее, в бытность премьером, он попытался к этому делу вернуться, предложив подробнейшую программу дальнейших действий, но на практике в отведенный ему краткий срок ничего не успел. Теперь же по его, Витте, следам за это с присущей ему энергией взялся Столыпин, используя труды виттевского совещания и, на взгляд Сергея Юльевича, порядком коверкая их. Введением принудительного, не по добровольному согласию, выхода крестьян из общины принципиально перекроил весь проект, задался целью путем разрушения, уничтожения общины насильственно насаждатьчастную собственность (зато и помещичьи земли умно предусматривая не трогать)…
Логику его действий Сергей Юльевич так толковал. Чем больше станет в стране частных собственников, тем больше народу будет заинтересовано в защите собственности и, стало быть, в спокойствии. Соображение, на оценку Сергея Юльевича, полицейское. И притом, заметьте, ни малейших поползновений к уравнению в гражданских правах!.. В итоге спешная и необдуманная реформа не к успокоению грозила подвинуть, а к хаосу, к нарождению из крестьян пролетариев числом миллионы и миллионы… Полицейская голова, по всему судя, не в состоянии была такое предположить…
Не подобное ли оригинальное мыслительное устройство, заподозрил Сергей Юльевич, побудило в свое время саратовского губернатора ничтоже сумняшеся, со свойственной ему отвагой принять министерство с делами высшей полиции, от чего сам Сергей Юльевич, возглавив Совет Министров, наотрёз отказался?.. Он тогда ведь во всеуслышание заявлял, что не может занимать сей пост именно ввиду незнакомства с секретною полицейскою службой!.. Ах, Сергей Юльевич, Сергей Юльевич! Заявлять‑то вы заявляли, нет спору, только некому было вам в далеке вашем европейском напомнить (да едва ли кто б и решился из знавших… разумеется, кроме вас самого), как стремились к сему портфелюеще во времена Горемыкина, Плеве, Святополк–Мирского, наконец… Или впрямь запамятовали, ваше сиятельство?!
Нет, пожалуй, не память в данном случае его подвела, вообще он не жаловался на память. Не сумел Сергей Юльевич подавить обиду, досадуя, что Столыпину удалось то, что так долго не удавалось ему самому и на что, в конце концов, в бурное время недостало у него безрассудной отваги…
Но что верно, то верно. Возглавляемая первым министром полиция чуть ли не рядом усаживается в высокое кресло, подминая под себя даже судебную власть. Что Сергей Юльевич ныне вынужден познавать на собственной шкуре, столкнувшись со следствием волей–неволей. Дело о покушении прекращено «по причине смерти одного обвиняемого и неразыскания других»! Убийство же просто попытались замять. Да как на грех убийца сам объявился. Пришлось‑таки судебно–полицейской улите трогаться с места… едет… Когда‑то будет?!
В один прекрасный, как, впрочем, и большинство других в Биаррице, день, на пляже, на северном, где песок и волны, к Сергею Юльевичу неожиданно подошел (а точнее, колобком подкатился) один из его «лейб» – Руманов, из Питера прямо. Подобные неожиданности здесь случались не так уж и редко; эта, пожалуй, была из приятных.
Руманов застал его полулежащим в шезлонге за чтением родимого румановского «Русского слова».
– Как поживаете, Сергей Юльевич, как здоровье? Я вижу, не забываете нас, грешных!
– Что вы, что вы! Жду от вас питерских новостей!
Он попытался из шезлонга подняться, но Колобок его удержал:
– Так вы же их знаете из газет!
– Это верно, на третий, на четвертый день узнаю…
Своей привычке Сергей Юльевич не изменял, где бы ни находился, газеты исправно пересылали ему.
– …Да кто лучше вашего брата знает, что жизнь всегда шире газет…
– На это нечего возразить. Тем более щель между ними растет и растет… То ли ширится жизнь, то ли зажимают печать.
– А на ваш взгляд, что именно происходит?
– Петр Аркадьич, они на глазах свирепеют…
Вставлять между прочим громкие имена, словно речь о добрых знакомых, в этом был журналистский шик, Сергей Юльевич прощал своим «лейбам» безобидную слабость. Тем паче так вот язвительно сдобренную этим ядовитым «они».
– От нихвсе бабье в восторге, – откликнулся он вполне в тон, прозрачно намекая на дворцовую камарилью, – они и держатся в юбках! – И довольно похоже передразнил (газетчик догадался кого): – «Они замирили… они успокоили!..»
– На самом‑то деле и в нынешний год что ни неделя, то выстрелы. Или взрывы. Слава Богу, не все достигают цели… Бог спас государя, великого князя, Столыпина, наконец, но несколько губернаторов убиты – в Александрополе, Пятигорске, Пензе, и начальники тюрем, а уж офицеров и полицейских трудно счесть… Но печатать про это ни–ни! И о многом другом тоже… Никакой отсебятины, господа!..
– Знаете ли, мон шер, перед самым отъездом я заглянул к Коковцову на Елагин остров, на дачу, – в свою очередь пустился откровенничать Сергей Юльевич. – Он как раз разговаривал по телефону о вчерашнем заседании Совета Министров и, окончив, объяснил мне, что Петр Аркадьич находит законы о печати, в мое время изданные, чересчур либеральными, требующими изменений. И предложил пре– доставить губернаторам и градоначальникам штрафовать газеты по усмотрению…
– Не понравится какая статейка, тотчас высший чин вызывает градоначальника, и редактору – штраф, – поддакнул Руманов, – а то и упечь могут!., даже такса установилась. Не желаешь платить пять сотен, садись‑ка на месяц. За тысячу – на полтора… А Худекова из «Петербургской газеты» за статью о заговоре на государя на три тысячи наказали, а не заплатит – на три месяца пожалте в кутузку! И подобные газетные новости – что ни день… Не поверите, князь Ухтомский попал! [44]
– А вот я, если помните, начал с того, что уже назавтра после 17 октября собрал к себе петербургских редакторов, и тогдашние мои пожелания показались многим стеснительны! Ну а нынче‑то, полагаю, о них как об идеале вздыхаете, при действительном произволе столыпинских распоряжений!
– Кое для кого делаются исключения, – не желал остановиться Руманов. – Вам любезный Дубровин пример. Привлекли сего доктора за погромные публикации особой пахучести– через пять дней прекратили дело! Первый случай такой расторопности…
Самодержавный, полицейский и политиканствующий, сановный, полный нечистоты Петербург, словно грязная пена, настигал их обоих, накрывал с головою на благословенном Атлантическом берегу и, казалось, совсем уж погреб под своею скверной, как вдруг мальчишка подбежал, что твой ангел, и потянул деда в иной мир, на песчаную отмель, чтобы вместе заняться серьезным делом – возводить из песка крепостные стены, окруженные рвами. Дед покорно поплелся, только в знак извинения развел руками и у самой кромки воды принялся вычерпывать море игрушечным детским ведерком и подносить воду к стройке, нелепый и неожиданно добрый, со стороны напоминая верблюда.
Словоохотливый же питерский его «лейб» тут же встретил другого знакомого и спросил, а слышал ли тот анекдотец, пришедший ему не без повода, про верблюда и лошадь.
– Что‑то не припоминаю, – признался знакомый, заулыбавшись заранее. – И разумеется, попросил: – Расскажите, милейший!..
Милейший Руманов уговаривать себя не заставил:
– Встретила лошадь верблюда и спрашивает: «Верблюд, а верблюд, отчего у тебя спина кривая?» Подумал верблюд, подумал, сплюнул и ответил вопросом на вопрос, совсем как в Одессе: «А что, по–твоему, у меня прямое?!»