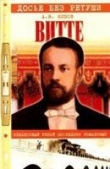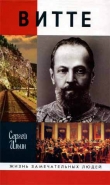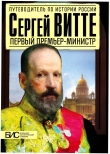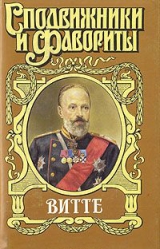
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Еще до очередного своего отъезда Сергей Юльевич заказал – для затравки, на первую пробу… не суть важно кому, скажем так: одному из «лейб» – обработать, привести в связный вид материалы осенней смуты пятого года, когда люди, а в первую очередь молодежь, пребывали, на его оценку, в революционном недоумении, отчего бросались то к гимну «Боже, царя храни», то, в огромном большинстве случаев, к русской «Марсельезе». По его же, именно в этом сюжете содержался ключ к последовавшим событиям. И отчетливо видна была его, графа Витте, роль, вот что важно.
Как уславливались, к возвращению в Петербург литературный заказбыл исполнен. И, едва воротясь, получив его от этого «лейбы», Сергей Юльевич зовет на Каменноостровский к себе… другого.
– Я поручил писание этой работы одному господину, дал подлинные документы, но, по чести, не очень доволен, как он справился со своею задачей, – говорит он, пока слушатель в задумчивости перевертывает страницы. – Не могли бы ли вы, – называет он по имени–отчеству «лейбу», опять не суть важно какого, ибо к подобному способу прибегает отнюдь не впервые, – не взялись ли бы вы, мой сударь, со вниманием прочитать это? С тем чтоб высказать свои замечания?..
Разговор между ними по существу дела происходит спустя несколько дней; «лейба» одолел унесенную с собой рукопись, озаглавленную длинно и скучно: «С. Ю. Витте и Совет рабочих депутатов». И теперь говорит решительно, сообразуясь с исторической правдой:
– Разрешите мне быть вполне откровенным, ведь я пережил все те дни в Петербурге. Тогдашний Совет, Сергей Юльевич, был для общества выше государственной власти!
– Если допустить, что вы правы, я не должен был терпеть такого Совета, – возразил Сергей Юльевич. – Но, мон шер, вы судите по одному Петербургу, тогда как в моей власти находилась Россия!
– Но правительство не смогло даже предотвратить забастовок! Ни электрической, ни трамвайной, ни железнодорожной… Оно словно попало в подчинение к Совету!
– Нет, нет. – Сергей Юльевич помотал головой и принялся расхаживать от Долгоруких к особам. – Нет, не судите с узенькой, обывательской точки, вы пошире взгляните, тогда увидите, что власть Совета не выходила за городскую черту. Да и каковы были результаты их забастовок? Временные неудобства, не более…
– А в обществе преобладало сознание, что их власть, власть рабочих организаций, возвысилась над государственной! – упрямился собеседник.
Тут Сергей Юльевич резко остановился возле окна. Указал на мчавшийся по проспекту – очень кстати – автомобиль:
– Видите, как летит! И того гляди передавит всех, кто ему подвернется!.. Нужно ли разрушать из‑за этого само авто и не правильнее ли переменить шофера? Ну, быть может, еще поставить улучшенные тормоза, ввести его скорость в определенные рамки… С Советом рабочих я так именно и поступил!
Проводив взглядом взлетевший на мост над Невой столь удачно послуживший примером автомобиль, отошел от окна и продолжил:
– Надо было сохранить машину представительства! Действия же ее постепенно, но твердо вводить в норму – в рамки благоразумия и порядка. Я это делал.
Как всегда, когда увлекался, выпаливал залпами фразу за фразой:
– Мне было известно все, что происходит в Совете, и в случае необходимости я не остановился бы перед крайними мерами.
– Я призван был спасать просто безвыходное политическое положение!
– Я не мог враждовать с окрепшим представительством общественных групп, взбудораженное море надо было прежде всего ввести в берега!..
Не греша против исторической правды, Сергей Юльевич тут же сблизил ее со злодневной:
– Вот почему ваш взгляд недостаточно, э–э, обоснован, а он не единичен, не исключителен, знаю.
– Я же выжидал, я ждал безрассудных поступков, чтобы уже в полном праве прекратить деятельность Совета!..
– Слава Богу, это теперь позади, Россия прошла через бури, – слукавил Сергей Юльевич ради правды сиюминутной, – и движется по пути, начертанному 17 октября!..
Уловил ли новый исполнитель заказа то, чем, видимо, в какой‑то степени пренебрег прежний? Эти недвусмысленные наставления сиятельного заказчика, подкрепленные просьбой без опаски вычеркивать все, что покажется ему неверным?.. Во всяком случае, принялся за работу.
Отняла она месяца три, не менее, прежде чем удовлетворила запросам. Произошло же это не раньше, чем было сказано без обиняков о спасительных мерах, предпринятых Витте для выхода из положения поистине безвыходного, в каком правительство очутилось. Причины, приведшие к этому, также потребовалось назвать напрямую – полицейскую политику Плеве, и в первую очередь несчастную войну с Японией, противником коих не раз выступал Сергей Юльевич. Особый раздел посвящен был «тактике кабинета графа Витте»; использование розни между хозяевами и рабочими – ее важнейшая часть, равно как выявление сходства интересов у либеральных кругов с правительством. Словом, вероятный читатель, точно рыба на леске, подтягивался к мысли, ясной как день: это Витте – спаситель престола от революции!..
Это Витте! А выотдаляете его от себя, вы – отталкиваете его!!
Обе Виттевы правды, таким образом, обнажались предельно, и одна изо всех сил подкрепляла другую…
3. Наступление «лейб»В стороне от обширных наступательных планов не остался ни Александр Николаевич Гурьев, ни верный Колышко [46], эта как бы старшая в «гареме» жена, ни старая скромница Морской фон Штейн, ни новая наперсница Глинский, редактор журнала «Исторический вестник» [47], где подвизался Морской.
Борис Борисович Глинский стал подарком судьбы для Сергея Юльевича, что граф оценил уже при первом знакомстве, отвечая журналисту на вопросы. Задавал же их тот о временах Александра III, поскольку, занявшись историей революционного движения, ощутил недостаток сведений той эпохи, и в особенности экономической ее стороны. Слово за слово… и, добравшись до последующих событий, Сергей Юльевич упомянул кое‑что из собственного архива. Для начала – об интересовавшей Глинского личности, о Хрусталеве–Носаре, главе Совета рабочих в октябре девятьсот пятого, том самом, коего арестовал… Дальше – больше. В результате журналист, как наткнувшийся на добычу охотник, отложил свою тему ради виттевских материалов, в опасении, как бы граф Сергей Юльевич при его настойчивости не пристроил их куда‑то еще… Для Сергея же Юльевича литератор с именем, историк, публицист, просветитель, деятель многочисленных обществ, союзов со своим журналом стал находкой… в качестве рупора: журнал консервативного направления держался в стороне от жгучих проблем. А все вместе служило удобным прикрытием для публикации, как всегда у Сергея Юльевича, двояко нацеленных текстов, получаемых от него под условием: без огласки имени автора!.. Попавшие к нему в руки драгоценные материалыГлинский с превеликой готовностью помещал под своим именем.
Из многостраничных его статей непременно следовало, как прав, как предусмотрителен и дальновиден был С. Ю. Витте на всех, без исключения, исторических перепутьях от начала трений с Японией до составления основных законов – по меньшей мере, пока находился у власти. Между строк же читалось: его, безупречного, надо к власти вернуть!
В свой черед получил предложение Гурьев: возразить генералу Куропаткину на его отчет о японской войне. Не суть важно, что генеральский отчет был составлен давно, он страдал несомненными слабостями. Сергей Юльевич решил напомнить об этом ныне, поскольку бесславный командующий позволил себе примкнуть к его хулителям, к тем, кто отвергал заключенный им в Портсмуте мир потому, дескать, что российская армия в тот момент якобы уже готова была продолжить – и победно продолжить – войну!..
– Намереваетесь, Сергей Юльевич, напечатать это под псевдонимом? – напрямик поинтересовался Опытное Перо.
– Это имеет для вас существенное значение? – со своей стороны спросил Витте, предпочитавший в качестве псевдонимов пользоваться именами – или псевдонимами – своих «лейб».
– Думаю, да – и весьма. Куропаткин исходит из утверждения, что он вослед государю был против войны. В таком случае верноподданному графу Витте следовало бы опровергнуть его с тех позиций, что войны не хотели, прежде всех, государь и граф!.. – И, подумав, добавил не без ухмылки: – Как, собственно, и было в действительности.
Не миновал острой темы и верный Колышко – в целой серии статей под интригующим заголовком «Кто непосредственный виновник нашей войны с Японией?» и за подписью Радомир. Псевдонимов у Колышки имелось хоть отбавляй, никого это не удивляло, как и ответ Радомира на поставленный в заголовке вопрос.
Газетными выступлениями Колышко, впрочем, по своему обыкновению, ограничиваться не стал. Последнее время Безудержное Пероотдавал предпочтение драматическому жанру. Но если даримых им книг – этюдов, очерков и тем паче романов – Сергей Юльевич откровеннейше не читал (подобно, впрочем, произведениям родимой своей сестрицы), то театральными спектаклями манкировать не удавалось, хотя бы по той причине, что Матильда Ивановна была завзятая театралка. Да, признаться, и в жизни самого Сергея Юльевича театр играл не последнюю роль… Словом, когда сочинение Колышки увидело сцену, Сергей Юльевич с супругою вместе посетил спектакль в суворинском Малом театре. И досидел до конца представления.
4. «Большой человек»Премьера Колышкиной пиески наделала‑таки шуму – сперва в Петербурге, а потом, если верить газетам, то и в Москве. Общество, выведенное на сцену, состояло из бюрократов, разного пошиба воротил, дам света и полусвета, опутанных – и опутывающих – густой сетью интриг. Рецензенты либеральных мастей захлебывались в восторгах: только новые политические условия дали пьесе возможность увидеть свет рампы! До сих пор, мол, русская сцена таких не знавала!.. Программка же предусмотрительно растолковывала, что действие происходит в последней четверти прошлого века. Невзирая… или, напротив, взирая на это, зал примерно того же, что на сцене, состава – премьерная публика девятьсот девятого года – живо откликался на представляемое лицедейство. Точно гляделся в зеркало, в котором сшибаются две России: старая, дореформенная, с деловою новой.
«Деловых людей теперь возят по Петербургу, как прежде теноров, – замечал персонаж и на вопросы о сих теноровых преемниках показывал пальцем на шишку из банка: – Вот господин «Купить, продать, надуть»… А вон от того, говорят, керосином воняет».
И многие в публике готовы были повторить вслед за артистами то же – за этим или за тою, что, изображая старуху княгиню, сотрясалась от возмущения: «Прежде‑то деньги были средством, а нынче – цель. Нынче горничная – на бирже играет! Вы народ развращаете, душу его опустошили… С пустым брюхом он тысячи лет живет, а с пустой душой не прожить и десятка!..»
…«Большой человек» Ишимов, занимающий весьма крупный пост, предложил некий кардинальный проект, вокруг него и плетутся интриги – в игорном полусветском салоне, на великосветском балу и даже у самой госпожи Ишимовой в будуаре.
А в череде посетителей служебного кабинета один спрашивает Ишимова, почему, имея такую власть, он не друзей наживает, а врагов?
Он Синяя Борода, он душу дьяволу продал, он вампир, он масон, нашептывают про него.
Кому‑то он отказал в субсидиях, кого‑то лишил ссуды: «Казна – не ссудная касса». Его проклинают, ему грозят… Ему предлагают миллионную взятку, а когда он не берет, посредник, коего он в приятелях держит, расценив это на свой лад, заявляет: «Нет, ты не по карману России!..»
«Чтобы здание выстроить, надо заложить фундамент», – он в этом уверен. Но задается вопросом: а где опора? И в минуту слабости признается жене, что рыл фундамент, а вырыл… яму. «Люди попадают в нее и меня проклянут». А небезгрешная молодая супруга напоминает ему, что высокий его пост – лишь гастроль!..В самом деле, слух о его отставке уже расползается по Петербургу.
Дельцы предлагают сделку, чтобы его спасти. Дюпон готов поднять бурю в западной прессе, банкир Вайсенштейн – уронитьбиржевые бумаги: «Этим крахом я спасаю не только вас, но и финансы Европы»… Звучит впечатляюще. Но «большой человек» не согласен, опасаясь, что государственный кредит пострадает. «Пусть обманывают Россию бессоновы – они убогие…»
Это главный его недруг – Бессонов (уж не статс–секретарь Безобразов [48] ли под псевдонимом, зловещая комета японской войны?..). Последний акт – их открытая схватка. И ничем не прикрытая публицистика.
«… Бессонов. Нужно пожертвовать экономическим благополучием ради героического подъема, гражданственностью – ради государственности. Дух предков, создавших великое государство, вытесняется материальными заботами. Забудем узкую партийность, навеянную теоретиками экономических принципов, подражателями гнилого Запада. Проявим патриотизм!
Ишимов. Вы за голод, невежество, бесправие и… движение вперед?!
Бессонов. А вы за деньги, проценты, полуобразование, полусвободу, полукультуру и… ожидание иностранных благодеяний?!
Ишимов. Значит, реформы – застой, а взамен – «героическое движение»?
Бессонов. Нигде опыты материальной эмансипации не проходили даром. И могут завершиться пробуждением в человеке зверя… реформы материального быта не успокаивают, а волнуют народ, часть его уже потеряла историческое направление русской жизни. Надо встряхнуть народный дух в сторону национального идеала. Надо сделать выбор. Политическая экономия – наука, а патриотизм – религия!
Ишимов. Вы патриоты, а я космополит! Упрек в недостатке патриотизма – излюбленный вами конек. Вы знаете историю России, а я – нет! Не ново. Всякий раз, когда реформатор заносит нож над отгнившим органом русского быта, Россию обсыпает патриотизмом, как сыпью. Так было при Петре, при Екатерине, при Александре II, даже при Годунове. В родной грязи вы видите специфически русское, а я – варварское. Нищета, невежество, пьянство – результаты дурного управления. Но в России был не один Малюта. Было и новгородское вече! Народ, он мирный, он любит красоту, чистоту, порядок. Это вы хотите пробудить в нем героизм. Гунны, персы, татары тоже были героическими народами. А я хочу содрать корку грязи, привить культуру… Я потрясаю устои – ради прогресса. Иногда, чтобы двинуться вперед, необходимо рвануть назад (ну не железнодорожный ли довод?!). Ваш же патриотизм – сектантский, религия государственности – религиозное изуверство!..
Бессонов. Лучше суеверие, чем безверие!..»
Последний резон выдавал скорее отчаяние побежденного, нежели сдачу позиций. Но тут в схватку многоглаголящих спорщиков вмешивается миротворец – старый князь.
«Это все то же, что было, – вздыхает он, умудренный жизнью, – Рассорятся бояре и обвиняют друг друга в измене… Лучше давайте вместе искать правду, ради будущего России – помиритесь!»
Под занавес откуда ни возьмись является другой старый князь, вестник сфер, с известием, что проект Ишимова утвержден. И что он остается!..
«Большой человек» – так пиеска и называлась – принимает общие поздравления.
Счастливый конец.
Из театра публика расходилась, терзаемая противоречивыми впечатлениями. Одни не скрывали возбуждения, другие, как это бывает, отмалчивались в задумчивости. А кто‑то громко возмущался услышанным – и увиденным.
В зеркале…
Автор пьесы ожидал от Сергея Юльевича похвалы и, может быть, благодарностей даже, когда заехал на Каменноостровский после спектакля. Как‑никак это шумное появление «Большого человека» на театральных подмостках не могло, если вдуматься, не поспособствовать столь желанному для Сергея Юльевича возвращению на общественную авансцену.
Вопреки ожиданиям, граф встретил довольного успехом «лейбу» неприветливо, хмурясь.
– У меня к вам покорнейшая просьба, мон шер. Не затруднитесь, пожалуйста, сообщить в газеты, что ваш «Большой человек» не имеет к графу Витте ни малейшего отношения.
Колышко опешил:
– Чем же вы недовольны? В городе злые языки утверждают, что за эту пьесу я с вас миллион получил!..
– Я ничего, – отвечал на это Сергей Юльевич. – Но Матильда Ивановна! Она у вас в пьесе, сударь, – «темного происхождения»… А ведь это, знаете ли, совершеннейшая неправда! Ее отец был учителем английского языка!..
5. Темное происхождениеМатильда Ивановна облилась слезами, когда Московский Художественный театр привез в Петербург чеховские «Три сестры», настолько щемяще все это растревожило собственное… то, чего предпочла бы не вспоминать. Провинциальный город. Три сестры. Гарнизон. И это – вечно: «В Москву! В Москву!» Их новгородский круг был, правда, отчасти иной, нежели у чеховских героинь, и клич был не этот, а – «Отсюда! Отсюда!». Но до последнего занавеса не отнимала Матильда Ивановна платочка от глаз. Завзятая театралка, она ни одной премьеры или гастроли старалась не пропустить, а редко когда испытывала подобное потрясение.
…С молчаливого родительского одобрения все три – не чеховскиетри сестры – крестились в старинной запущенной церкви… «Отсюда» – для них значило не только из постылой провинции, из теснимого иудейства прочь. Родители перебрались из черты оседлости в светлые пореформенные времена, для них губернский Новгород был пределом желаний. Дети же, вопреки тому, что в порядках многое поворачивало на прежнее, мечтали о жизни столичной… Так что стоило заезжему чиновнику петербургскому предложить с ним пойти под венец, старшая из сестер раздумывала недолго. Две другие от души за нее порадовались… да муженек оказался на поверку порядочное дрянцо. Не один год промучилась с ним, прежде чем судьба вознаградила ее встречей с Сергеем Юльевичем… Ну а сестры с городом распрощались не скоро, хотя тоже в девицах не засиделись. И, по местным меркам, повыходили удачно, за приметных в губернии женихов. Женя – за инженера, заведовавшего дистанцией на железной дороге. За известного всему городу земского доктора – Вера (правда, доктор Григорий Лазаревич был по паспорту Гирш Лейзер…). Лишь спустя много лет, словно бы в осуществление девичьей мечты, удалось благодаря Сергею Юльевичу вызволить обеих сестер в Петербург…
А сама Матильда Ивановна очень скоро пожалела о переезде. Вырваться‑то вырвалась, да с замужеством явно поторопилась… Опомнилась, было уже поздно. В люльке гукала дочка. Когда бы не это, ни за что не осталась бы со своим то ли коллежским асессором, то ли секретарем. Петербургский чиновничий быт оказался совсем не по ней. А к тому же асессор… то ли секретарь попивал и в картишки поигрывал и ей каждую копейку высчитывал. Лишь одним выделялся из вицмундирного своего мирка – сановною теткой, супругой придворного генерала. По праздникам, а нередко и просто по воскресеньям наносили их превосходительствам родственные визиты. В генеральском доме и познакомились с министром Витте.
Потом Сергей Юльевич ей признавался, что она произвела на него впечатление еще раньше, – однажды в театре он увидел ее в ложе и долго, почти до неприличия долго, лорнировал, в каждом антракте, но, увы, она не обратила на это внимания… На самом‑то деле очень даже обратила, его фигура слишком выделялась из публики… и даже разузнавала, кто он, этот представительный господин.
Встречаясь с супругами Лисаневич, нетрудно было заметить… вернее, трудно было не заметить, что муж ведет себя невозможным образом и что их семейное счастье совершенно разрушено. При всем желании скрыть это Матильде Ивановне не удавалось. Вдовец, Сергей Юльевич решился. Стал уговаривать ее разойтись с мужем… выходить за него!..
Это было похоже на сказку – Золушка на королевском балу, с тою разницей, что у нашей Золушки дочь… Принцконечно же знал об этом.
– Сергей Юльевич, милый вы мой, – в ответ на его предложение возразила она, – да известно ли вам, из какой я среды?
– Какое это имеет значение?! – воскликнул принц.
Признаться, она не поверила, что он не лукавит. А он
был искренен с нею. Объяснение нашлось позже: он рос на Кавказе, учился в Одессе, где разные веры и разные нации в ту давнюю пору еще прекрасно уживались между собой. А ей, умудренной, только и оставалось, что пожимать плечами. Да что говорить… Где те счеты, чтобы на них сосчитать, скольких стоила женитьба на ней Сергею Юльевичу хлопот…
Развод с Лисаневичем, обратившийся едва ли не в торг, показался не более чем пустяком, хотя и досадным, после того как он – министр – по причине такойженитьбы сделал царю заявление об отставке. Положение свое, карьеру, можно сказать, суть жизни бросал он к ногам любимой своей разводки… Могла ли женщина устоять перед этим безрассудным рыцарем–великаном?! Не какая‑то была наивная барышня, чтобы этого не оценить, опытом довольно Господь надоумил!.. На ее счастье, отставка не была принята, а то бы взяла Матильда Ивановна еще один грех на душу… Но дальше‑то, дальше… На каждом шагу подстерегало обоих напоминание о темномпрошлом!
Какие‑то неясные толки вились вокруг ее имени и до нее долетали; какие‑то нашептывания, наговоры. Госпоже министерше полагалось быть представленной ко двору. Разносилось, что чуть ли не сама государыня не желает с ней знаться. Будто бы из Новгорода докатились до высочайшего слуха гарнизонные сплетни… Будто бы новоиспеченная министерша танцевала и пела там в офицерском собрании едва ли не неглиже, а потом господа офицеры отвозили ее в санях, завернутою в шинель… Было? Может, в юности что и было, да, казалось, быльем поросло… Да и где, как не в офицерском собрании, оставалось в Новгороде веселиться?.. От светского лицемерия с непривычки тошнило. На себя бы, сиятельные, обернулись. Но то, что прощалось в своем кругу, – выскочкени за что, никогда. Да к тому же еще из этих… Уж такой‑то привкус Матильда Ивановна чувствовала нутром.
Теперь она догадывалась, кто мог распускать эти сплетни, живучие по сию пору. Минуло семнадцать лет, а женитьбы на Матильде Ивановне Сергею Юльевичу не простили. Новгородской дивизией в ее годы командовал генерал Раух. Теперь генерал Раух–сын, не последняя скрипка в яхт–клубе, приближенный к великому князю, опекает дубровинскую «черную сотню»… Нападки на еврейку жену задевали Сергея Юльевича куда сильнее, нежели ее саму. Она им не удивлялась. Она привыкла. А вот за него всякий раз было больно. Не могла притерпеться, что из‑за нее на нем словно Каинова печать. Что бы он ни делал, все приписывалось воздействию зловредных ее козней. И она терзала себя, что испортила ему жизнь. Он же ни единым словом не попрекнул ее никогда… Угрозы, покушения… все это не могло, конечно, Матильду Ивановну не пугать. Случалось, угрожали не только ему, но и ей, даже дочери с внуком! Но головы она при том не теряла. И это Сергей Юльевич в ней очень ценил.