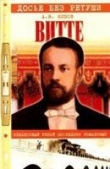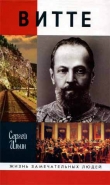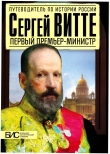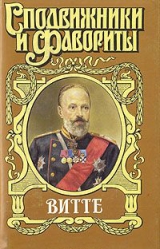
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Занавес третьего действия поднялся, едва опустили занавес второго.
В Киево–Печерской лавре не успели еще предать земле убиенного, а уж третье действие открывалось пересудами о возможном составе правительства, и не было разноголосицы в том, что Столыпина в кресле премьера сменит министр финансов Коковцов.
…Первое действие – революционная драма. Второе – убийственная трагикомедия. Чего можно было ждать от третьего?.:
Министр финансов примерялся к премьерскому креслу давно. Когда Столыпин было демонстративно подал в отставку, в витринах на Морской уже красовался портрет Коковцова, председателя Совета Министров – Так именно и подписано было… Но красовался портрет недолго, царь тогда передумал и Столыпина удержал. На сей раз еще до отбытия из Киева в Крым государь объявил назначение Коковцова.
Напрасно многие думали, что новый премьер обнаружит свое особое направление, Сергей Юльевич находился в полной уверенности, что такого не будет. Вернувшись в конце декабря в Петербург, лишний раз убедился в своей правоте.
При первом же разговоре с Коковцовым, когда тот приехал к нему в Ливадию, царь сказал о Столыпине (так, во всяком случае, передавали верные люди):
– Он меня заслонил.
Понимать можно было по–разному, от чего заслонил: то ли от выстрела террориста, то ли… то ли вообще. От России… Это было предупреждение Коковцову, Сергей Юльевич в смысле сказанного не сомневался.
Он соскучился по петербургским диктовкам. Этим летом и осенью многие обстоятельства тормозили работу над мемуарами. В Биаррице (до покушения на Столыпина) удалось лишь по памяти восстановить ряд событий пятого года: забастовки, беспорядки, карательные экспедиции. Он там не преминул отметить, что в России трудно про это писать – ввиду столыпинского режима. А собираясь к отъезду (уже после событий), обронил между прочим, что нет уверенности, удастся ли продолжать в Петербурге.
«…Увидим…»
Зато теперь принялся наверстывать, с того места, на каком остановился весной. Все же почувствовал себя посвободнее, нежели прежде, в своих повествованиях стенографистке. И даже добрался до настоящего времени, до Коковцова – премьер–министра. «…Тип чиновника, проведшего всю жизнь в бумажной петербургской работе, в чиновничьих интригах и угодничестве, с крайне узким умом… представляющего собою пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением…»
Он его не щадит… С какой стати?!
Сам же этакого типа вытащил, но, вместо того чтобы каяться, пожалуй, даже гордится, что премьер – его прежний помощник; этой странной на первый взгляд логике есть свое объяснение. Столыпинская политика без Столыпина мало–помалу оживляет никогда не умиравшую в нем надежду на возвращение к власти, и. не как‑нибудь, а спасителем – в третий раз!.. На собственное третье пришествие – в третьем действии; пусть не сразу, не с первых картин и явлений… Граф готовит почву к назревающему поединку и заранее ее удобряет, даром что царское «заслонил» не в меньшей степени, чем к Столыпину, относится и к нему. История, один из творцов которой он сам, как прежде, послужит ему перегноем…
Однако об осторожности по–прежнему не резон забывать:
«…В Петербурге даже в моем положении нельзя быть уверенным, что в один прекрасный день под тем или другим предлогом не придут и не заберут все. Тогда наживешь большие неприятности, и совершенно бесцельно, так как в таком случае, конечно, никто и никогда не прочтет то, что я писал…»
Потому‑то в петербургских диктовках серьезный пробел – все полгода его собственного премьерства, пик, вершина его карьеры… по крайней мере, до этих пор. Он прекрасно это сознает и не хочет оставить пропущенное без разъяснений: «…Я прерываю свои рассказы за время с конца сентября 1905 г. до конца апреля 1906 г. Ход событий до 17 октября и затем мое министерство составляют предмет моих личных записей… рассказы эти и более точны, и более откровенны… Записи эти хранятся в должном месте…»
Даже в собственной вилле в Биаррице он не рискует их оставлять: должное место – банковский сейф…
Он, пожалуй, уже может себе позволить отвлечься от ближней цели, почва к схватке подготовлена впрок… Впрочем, как издавна у него повелось, один пишем, а два в уме. Как‑никак в событиях во времена его министерства ему принадлежала не последняя роль… о чем очень не вредно кое–кому и напомнить, чтобы, не дай Бог, не начали забывать!.. Не пора ли задуматься, Сергей Юльевич, над просвещением публики, приспособивши к делу кого‑то из «лейб»?
До времен Коковцова он добрался в петербургских диктовках к марту.
В Биаррице 5 октября написал: «…Если дальше буду писать, то касаясь более современных обстоятельств, которых я не касался, потому что считал это невозможным…»
По его разумению, тема собственной жизни – в той исторической раме, в какую вставила ее судьба, – эта тема далеко еще не исчерпана, не завершена.
14. Третье действие – фарс пигмеевПогруженный будто бы в частную жизнь, он внимательно следил за политической сценой. До поры до времени наблюдал за третьим действием как бы из ложи. На глазах искушенного зрителя разворачивалась любопытная сшибка, Скупердяй, крохобор, казначей и мытарь, чинодрал петербургский – это одна сторона. А другая – сибирский шаман, юродивый, Божий старец и бабий угодник, неуемная темная сила.
Арифметик – и мистик. Бюрократ – и авантюрист. Коковцов – и Распутин.
Не так‑то много воды утекло после возвышения Коковцова, еще у него с августейшим семейством не кончился, можно сказать, медовый месяц, а уж новый премьер – разумеется, совершенно резонно – потребовал от государя ни много ни мало как удалить Распутина из Петербурга!.. Противная сторона не смолчала, огрызнулась в ответ, тут без князя Вово Мещерского не обошлось, с его верхним чутьем и словоохотливым «Гражданином». Разнюхали, будто Распутин беспрестанно твердит в Царском Селе, что, дескать, пора прикрыть царские кабаки, потому как негоже царю торговать водкой, народ спаивать, старец, мол, это зло на себе испытал!.. Такова была, по видимости, завязка; поначалу вроде бы досталось и Витте, признанному отцу винополиитой поры, когда был не зрителем, а солистом.
…Плохой же он был бы министр финансов, когда пренебрег бы интересом казны! Однако, по чести, императору Александру III виделось не менее важным ограничить народное пьянство, поставить его под надсмотр… то‑то Александр Николаевич Гурьев любил вставить к месту анекдотец о распрях акцизного и податного директоров: надо было ухитриться так мужика напоить, чтобы при том не раздеть до последней рубахи, и это была вечная проблема баланса. Коковцов же с его педантизмом, скупостью, в постоянной опаске, что денег не хватит, все поставил на службу фиску. И обдирал мужика до нитки, и спаивал в бесчисленных кабаках. Как туг было не вспомнить того же Гурьева, давней его статьи, за которую злой язык поплатился, ввернувши, что Коковцов на министерском посту своего рода кухарка за повара… Святее самого Папы, он по сей день наполнял казну пьяным бюджетом!.. Разношерстная коалиция сплотилась против него, не одни Распутин с Мещерским… В такой‑то благоприятный момент Сергей Юльевич решился свою зрительскую ложу покинуть.
У него есть возможность подать об этом сигнал. Не случайно с известных пор в духовниках у него олонецкий епископ Варнава, почитаемый им за святого. На столе в кабинете занял место владыкин подарочек – маленький складень с полуграмотной надписью, и теперь Сергей Юльевич демонстрирует его гостям наряду с портретами предков и царских особ и прочими историческими примечательностями.
Ни для кого не составляла секрета близость грамотея–епископа к такому же грамотею–старцу. Сергей Юльевич исповедался с покаянием: грешен, владыка, аз есмь грешен, винополия мой грех, но вот ныне сознал правоту старца и иных поборников трезвости… и сигнал его был услышан.
Все тот же шельмец Сазонов привез к нему на Каменноостровский Гришу.
Единственный состоялся у них разговор, но он состоялся!
– Мы тебе, понимаем, не ровня, ты, Виття, умнеющий, – юродствовал, по обыкновению, старец, а глазами, как гвоздями, колод, – так сказал бы буквоеду Кокоше, грех великий опаивать народ честной, Господь не простит!..
Сергей Юльевич сам порой был не прочь прикинуться простачком, придуриться, подделаться «под народ».
– Вот те истинный крест, Гришуня, так и вмажу, и то, мил человек, что заставь дурака Богу молиться… ты заметь, у кабатчика энтого лоб‑то в шишках!..
Не так уж давно, каких‑то два года, он почел себя оскорбленным этим шельмецом Сазоновым с его (а вернее, с распутинским) предложением, обстоятельства переменились с тех пор. И теперь Сергей Юльевич готов взять сторону шайкиради приближения к собственной цели. Разве не в том заключена суть политики как искусства, чтобы действовать применительно к обстоятельствам?!
Расстались довольные друг другом, даром что Сергей Юльевич объявил Распутину напрямик, что им более встречаться не следует, во избежание кривотолков и подозрений.
Ослабление Коковцова есть лишь шаг в направлении к цели… Своротить ему шею и занять его место? Нет, расчет Сергея Юльевича на новое пришествие не столь очевиден. Ибо это‑то он понимает: пускай первое даже удастся, все равно им желаемого не случится, если Только–Только в обстоятельствах, подобных кризису японской войны или октябрю девятьсот пятого, такое может произойти – на краю катастрофы. Тогда останется призвать спасителя, Витте. В расчете Сергея Юльевича комбинация не в один ход. Похитрее интрига, чем против Плеве когда‑то, но, поскольку после смещения Коковцова возведут во власть шайку, – катастрофа себя ждать не заставит! Что же, в личных видах ставить на кон судьбы России, он на это готов?! В личных – нет, никогда, потому что уверен: никому из возможных соперников не под силу справиться с ее бедами лучше, нежели графу Витте! Коковцов, Горемыкин… конкуренты бездарны, бесцветны, мелки…
Тем временем старец Григорий добился в Ливадии обещания от царя отправить ненавистного Кокошу в отставку, Сергею Юльевичу доложили об этом. И что царь на иконе поклялся. Для политика было бы непростительной глупостью восстать против обстоятельств. Свой первый удар он наносит там, где авторитет его несомненен: у нас частные железные дороги строятся на казенные деньги, занимаемые у французов под правительственные гарантии на условиях, не выгодных нам!.. И к тому же, пока не начнется строительство, наши частные банки крутятэти деньги в биржевых спекуляциях! Как обделывают такие дела, «старому железнодорожнику» известно не понаслышке… Кстати, он целую главу мемуаров посвятил «железнодорожным королям». Когда‑то именно он, министр финансов Витте, скрутил голову концессионной гидре. Тогда как нынешний министр, он же премьер, опять открывает двери коррупции!..
Другой удар, чувствительный тоже, – брошюра об истории достопамятного займа шестого года. Финансовое положение было спасено этим займом, он уберег страну от банкротства в результате несчастной войны и смутных месяцев революции. Опять Сергей Юльевич бросает в наступление своих «лейб». Испытанный метод.
И опять продиктованное стенографистке весьма и весьма пригодилось.
Один пишем, а два – в уме…
«…Когда мне уже было невтерпеж от реакционных выступлений против 17 октября и я начал заговаривать, не отпустят ли меня, то прямо говорили, что, покуда не окончится дело займа, это невозможно…»
О, этот крупнейший международный заем с участием банкирских домов Парижа, Лондона, Амстердама, Вены, даже уже недружественного Берлина! Он стал венцом многофигурной финансово–политической, просто‑таки шахматной игры, и сколько изобретательности потребовалось от Витте, чтобы обойти все препоны, ловушки, осложнения!.. Дело кончилось подписанием контракта в Париже представителем возглавляемого им правительства. Эту чисто техническую задачу выполнил тогда Коковцов; ныне он, видите ли, претендует на первую роль!..
Брошюру под грифом «конфиденциально» Сергей Юльевич разослал под Новый, 1914 год вместе с новогодними поздравлениями многим влиятельным лицам. А первый из сорока экземпляров – самому государю. И притом пояснил, что брошюру составлял по причине, что история займа упоминается постоянно «в официальных речах и газетных интервью с припискою авторства сего займа не его настоящему автору» (кому именно? – читай: Коковцову).
А еще до того, до рассылки брошюры, и, выражаясь математически, параллельно с публикациями в газетах против железнодорожной политики – в суворинском «Новом времени», в «Биржевке», – произнес запальчивую, по обыкновению, речь в Государственном совете.
За спасение народа от кабака.
Однажды государь верно подметил (еще благоволил к нему), что Витте гипнотизер. Как заговорит в заседании, сейчас большинство, даже из его ненавистников, берет его сторону…
– Министерство финансов, – заявил с горячностью бывший министр, – извратило благодетельную реформу. У императора Александра III, чью волю министр Витте лишь старательно исполнял, иного стремления не было, кроме спасения народа от пьянства; мысли не допускалось, чтобы казна пухла, а народ нищал! Развращался!.. А потом все пошло прахом. Все повели к тому, чтобы увеличить позорные доходы казны. Подумать только: водка дает у нас треть бюджета! Я бью тревогу направо и налево, но все глухи кругом; остается на весь мир закричать «караул!».
И он крикнул‑таки «караул!» на весь Мариинский дворец нестерпимым своим фальцетом.
А тем временем по Петербургу расползлись пересуды, будто старец едва ли не каждый день, под нажимом своих компаньоновво главе с князем Вово, ездит в Царское Село пугать царя небесными карами, если он не исполнит клятву, данную на иконе… Не секрет был; что царь, подобно царице, со Святым Чертомнередко вместе молился.
Словом, Сергей Юльевич и сам не знал, сыграло ли роль его собственное красноречие; важно было, что своего он добился, – так же как остальные…
Да к просчету его, вместо того чтобы отдать власть полоумной шайке, высочайше предпочли возвратить безразличного ко всему, но зато послушного, многоопытного Горемыку.
В третьем действии вожделенного Сергеем Юльевичем третьего пришествия, таким образом, не состоялось.
Таким образом, если первое действие на исторической сцене начиналось как революционная драма, а второе превратилось в кровавую трагикомедию, третье вовсе стало фарсом пигмеев…
15. Запах пороха… и интригИ он не удержался в стороне от этого фарса.
Не первым лицом, не протагонистом. Одним из многих. А ведь привык возвышаться над окружением в своей крутой карьере. Быть Гулливером среди лилипутов. Но, облепленный ими, вовремя не сумел отряхнуть их с себя, с их поезда спрыгнуть, к чему однажды призвал верный «лейб» Колышко; остаться непобежденным. Проницательного ума – недостало. Оттого, может быть, что для него это было непросто: сойти с «поезда», – это значило сойти с рельсов… на седьмом‑то десятке!
Точно за поручни убегающего вагона, стал цепляться за власть, суетиться, интриговать – и мельчал, «старый железнодорожник», мельчал на ходу, мельчал… Чуть не до слияния с фоном. И едва ли задумывался над этим, не страдая склонностью к рефлексии. Просто, опираясь на опыт, не на умозрения вовсе, хладнокровно считал, математик, что может выполнять работу лучше, нежели кто бы то ни было, с Плеве, со Столыпина начиная, не говоря уже о прочих иных… И возможно, в этом неуязвимом расчете как раз и заключался его главный просчет. Не желали господа лилипуты, чтобы их заслонял Гулливер!.. Не желали принять спасение из больших его рук. Не желали, и все тут!
Впрочем, можно искать объяснение и в дурмане, исходящем от власти, в гипнотическом действии на того, кто однажды уже побывал на ее вершине. Это как проказа: подхватив, не избавишься до конца дней, так и будешь в себе носить, от нее нет лекарства… А раз так* не в уме вовсе дело, в чем‑то более мощном, чему и название сразу не подобрать. Уж не мистическая ли сила прикоснулась к Сергею Юльевичу? Не преподал ли ему урок проходимец старец, черт святой, конокрад и разбойник, пробы некуда ставить, шаман таежный, гений власти., в некоем царстве возымевший ее такую, о какой человек разумный не смей и мечтать?!
Нет и нет. Как со всяким другим, с этим чертом по пути оказалось, лишь пока совпадали на перегоне маршруты…
Катастрофа, на которой он строил свои расчеты, не разразилась. Надвигалась другая.
…Человеком разумным окрестил его, кстати, сам старец, удостоился в ответ на одобрение попыток Распутина отвратить надвигающуюся войну. Получил ответную похвалу в «Петербургской газете»: Витте говорит очень разумно потому, мол, что сам разумный…
Говорит же он, и не раз, повторяя, что Россия к войне не готова; помимо прочего, по части финансов.
Запах пороха уже явственно ощущался в Европе.
В этой предгрозовой атмосфере все сплетенные хитро интриги, вся та прежняя суета возле власти – что, казалось бы, значат?! И однако же, в петербургских кругах верхним нюхом учуивали: в правительстве предстоят перемены, намекали, в частности, что премьер Горемыкин вознамерился будто бы Министерство иностранных дел предложить графу Витте… Уж не сам ли граф подогревает те слухи?.. Такое ведь тоже не исключали в петербургских кругах… Но когда бы эти толки в действительности оправдались и российскую дипломатию на пороге рокового европейского лета девятьсот четырнадцатого года в самом деле возглавил он, Витте, с его весомв Европе и прочными германскими связями, то кто еще знает, как могли бы повернуться события!..
Проповедник этой «идэи» на страницах «Русского слова», вездесущий «лейба» Руманов навестил Сергея Юльевича в Биаррице.
В те недели почти любой разговор рано или поздно переводило на военные рельсы. Круглощекий газетный волк заикнулся было о возможных выгодах от войны для России.
Сергей Юльевич в лице изменился.
– Сколько платите за ботинки? – вдруг спросил ни с того ни с сего.
– Эти стоили десять рублей, – оторопел от неожиданности «лейба».
– Вот станете не десять платить, а двадцать или пятьдесят, – тогда поймете, что такое война… И золотая монета небось в кармане найдется? Так всмотритесь, запомните: больше не увидите из‑за войны!..
Ему представлялось, что ничто не склоняет к миру убедительнее, чем цифры.
Негодовал:
– Эти горе–вояки, они нас уговаривают опять, как бывало: признайте, ненадолго, только на время войны, что дважды два будет пять. Нет, милейшие, стоит только это признать, так после войны дважды два окажутся сапогами всмятку!..
Война несла угрозу всему, что он делал, что создавал, что сколачивал в жизни.
Он резким движением достал из кармана часы, щелкнул крышкой и заторопился, как в Петербурге, бывало:
– Извините, но мне пора! Внук меня по часам отпускает…
До сапог всмятку, равно как и до портфеля министра, ему, однако, не суждено оказалось дожить.
Объявление войны, которой он так опасался, застало Сергея Юльевича вместе с Матильдой Ивановной и с внуком на немецком курорте под Франкфуртом. Там на водах он бывал постоянно. По «виттевской» тропинке гулял с любознательным внуком, в жару отдыхал на террасе под пологом небольшого шатра. К экселенцутак привыкли, как к своему… Не промедли он, не покинь Германию сразу же, неизвестно, как сложилось бы все в дальнейшем. Тотчас после отъезда (ему потом рассказали) на квартиру явились с обыском… Впрочем, до поспешного своего бегства он успел заявить корреспонденту «Русского слова», что в войне Европа себя обескровит и разорит, европейское золото уплывет за море, а Россия первая очутится под колесом истории…
Без особых препятствий проводив семью в Биарриц (благо Франкфурт от французской границы недалеко), Сергей Юльевич заторопился домой. Но до дома оказалось уже достаточно сложно добраться. Через Германию путь был отрезан. Окольным маршрутом пришлось почти две недели тащиться – через Италию, оттуда морем: Константинополь, Одесса… Турки пока еще придерживались нейтралитета, проливы, к счастью, оставались открыты.
Экспансивные одессисты, те, понятно, не обделили вниманием земляка. И каждый считал долгом таки узнать мнение Сергея Юльевича за войну.
– Враг жесток и силен, – отвечал он им неизменно, – но нет сомнений, что мы победим.
Сомнения одолевали его по поводу этой глупейшей для России войны. Она вполне могла кончиться революцией, сначала, он думал, в Германии, а потом и опять у нас… Но сомнения свои и опасения оставил до Петербурга, до бесед с немногими теми, кому мог вполне доверять.
Столица встретила воспаленною атмосферой барабанного боя. Собственно, Петербурга уже не стало, чуть не двести лет простоял и сменил в одночасье имя с чужого немецкого на патриотическое свое. Впрочем, если кто и ждал в Петроградевозвращения Сергея Юльевича, то в первую очередь добросовестный «лейба» Морской фон Штейн с очередной, подготовленной к осеннему его приезду рукописью, целою книгой.
Речь на сей раз шла о поенной мощи России. Еще в мирное время это было задумано в продолжение прежних споров – разбор великодержавных амбиций, выразителем коих выступал бедоносныйгенерал Куропаткин, критика серьезная, с историческим обозрением, со сравнением военных сил России и Западной Европы. Не мог при этом Сергей Юльевич обойти и такой важнейшей, по его разумению, стороны, как порождаемые подготовкою войн финансовые проблемы. Печальный опыт японской войны предостерегал от разорения в войне, еще более страшной.