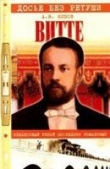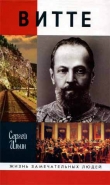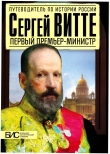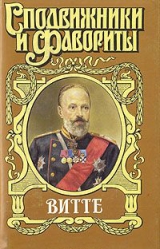
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Закупки золота за границей вдобавок к отчислениям из скудных Казенных средств позволили наконец добиться твердого соотношения между бумажным рублем и золотым, да к тому же так, чтобы билеты можно стало обменивать на золото безо всяких препятствий.
Между тем петербургские головы, вся умничающаяРоссия восставали против этой реформы. Кто по невежеству, кто по привычке, а кто и по личному интересу. С бумажными деньгами свыклись, как свыкаются с хроническою болезнью, и, не веря уже ни в какие лекарства, считают за лучшее обойтись без врача. По крайней мере, без отчаянного вмешательства хирурга. А тем более костоправа, как Витте!..
Неожиданно доморощенные благоразумники получили поддержку со стороны самого Парижа. Неожиданно ли? – вот вопрос. Не первый день тамошние биржевики плели интриги вокруг российских ценных бумаг… и, стало быть, против министра Витте.
В то время молодой государь возвратился из длительного путешествия по Европе. Царствующая чета объехала дружественные столицы с визитами вежливости после коронации, омраченной ходынским несчастьем.
В свой день министр финансов явился в Царское Село со всеподданнейшим докладом.
Государь Николай Александрович извлек из стола конверт и протянул милостивому государю Сергею Юльевичу.
– Вот я вам отдаю записки, поданные мне в Париже… Точнее – присланные из Парижа как бы вдогонку. Они касаются предполагаемого вами введения золотой валюты. Я их не читал и читать не намерен. А вы, пожалуйста, рассмотрите.
Министр финансов мельком глянул на подпись: Мелин, председатель Совета Министров Французской Республики.
Интересно, какое было дело французам и, более того, их правительству до возможной реформы российских денег, так что они даже посчитали уместным вмешаться в чисто внутренние, казалось бы, заботы России?!
Записка Мелина давала на этот вопрос ответ недвусмысленный. Она сама и приложенные к ней соображения известного экономиста.
Французы решительным образом остерегали российского императора против валюты, основанной на золоте, и, пренебрегши приличиями, взамен советовали перейти на серебряную, либо, в крайнем случае, взяв пример в этом с Франции, на валюту, основанную как на золоте, так и на серебре одновременно. Смысл совета не составляло труда разгадать. Сергею Юльевичу уже приходилось обсуждать эту тему с французскими финансистами. С почтенного барона Альфонса Ротшильда, главы парижской ветви банкирской династии, начиная…
У французов был свой эгоистический интерес в подобном обороте событий. Огромное количество серебра находилось у них в обращении, не один миллиард франков, тогда как добыча этого, пока еще драгоценного, металла возрастала в мире, а это значило, что он дешевеет и дешевеет и в скором будущем потеряет цену. В таких обстоятельствах выбор русскими серебра для своей валюты, без сомнения, его укрепил бы, в особенности если принять во внимание размеры российского рынка. А помимо того, такой выбор привязал бы российский рынок к французскому накрепко. Словом, тут присутствовал для Франции интерес собственного кармана, и к тому же нешуточный…
Что ж, положим, с французами было ясно… А для России? Что все это ей обещало?
Старый барон Ротшильд уверял Сергея Юльевича, что серебряная валюта намного бы упростила расчеты друг с другом, распахнула бы перед русскими французские сейфы, облегчила бы доступ к кредиту.
– Ведь вы же нуждаетесь в займах?! – не то вопрошал, не то утверждал барон.
Еще как! Это было одной из главных целей реформы – укрепить доверие к нашей валюте, дабы Европа раскошеливалась щедрее. Под проценты, как водится, под проценты! Чтобы иностранные капиталы оплодотворили российское лоно!..
Но только не ценою самостоятельности. Нет! (В этом смысле золото понадежнее серебра!) Подобную цену – заодно с французскими кознями – реформаторрешительно отвергал, на сто процентов!.. Хотя его не однажды упрекали в обратном… Даже лица с претензиями на познания. «Пускай русские богатства разрабатываются русскими людьми и на русские деньги! – требовали они, пренебрегая, как говорят математики, несущественной величиной, а именно отсутствием этих денег. – Этот министр, временщикэтот, он на что покушается?!» Под воздействием таких мнений и сочувствуя им, государь не раз собирал заседания в Зимнем дворце с целью выяснить, а не повредят ли нам иностранные капиталы.
– Нет, не этого надо бояться, – отвечал там Сергей Юльевич многочисленным оппонентам, – а, напротив, того, что порядки у нас специфически своеобычны, столь оригинальны для цивилизованных стран, что не много иностранцев пожелают иметь с нами дело!..
…Не хотели заграничных конкурентов русские промышленники из крупных, им поддакивали разорившиеся дельцы из дворян, а иные содействовали чужим фирмам лишь в случаях, когда видели личный расчет… скажем, место в правлении… Ну а те, кто открыто противником не выступал, те желали сами распоряжаться чужими деньгами… И распоряжались (говорил Сергей Юльевич) со свойственным дельцам новейшей формации денежным распутством. И примеров тому… В сущности, все это было вовсе не ново. Со времен Петра Великого иностранцы вызывали всяческие опасения. Между тем (говорил Сергей Юльевич) утверждать, будто могут они полонить Россию, растащить богатства ее, – это значит не верить в себя, в свои силы, не понимать своей великой страны.
«Юго–западный железнодорожник» твердо знал, назубок: никакая машина без топлива не пойдет. Ставши волей судьбы механиком сложнейшей машины, именуемой финансами Российской империи, он обязан был заботиться о его запасах… А топливо для машины финансов – он усвоил и это – есть не что иное, как экономическое богатство!
Мы, конечно, могли бы привозить железнодорожные рельсы из Бельгии, покупать на золото паровозы у англичан, вагоны у немцев наряду с молотилками, плугами, жнейками, веялками… Но стоило повздорить с кем‑то из этих друзей–поставщиков, как мы немедленно очутились бы в незавидном положении. Вот где действительно таилась угроза самостоятельности России. Допуская же капитал из Европы, чтобы строить своипаровозы, катать своирельсы, копать у себяруду и уголь, мы расплачиваемся за это всего лишь звонкой монетой. Должаем, естественно, но питаем надежду с долгами разделаться по мере возрастания своегопроизводства… В случае же чего ни один Юз, Гужон или Нобель ни завода, ни шахты, ни промысла увезти с собой не сумеет, даже если вздумал бы, не дай Бог, уносить ноги…
Спору нет, на первых порах наши шахты, рудники и заводы нуждались в поощрении, в покровительстве, ибо уголь, руда, паровозы и все остальное, не секрет, получались и дороже и хуже. Но еще предшественник Сергея Юльевича министр Вышнеградский при активной поддержке директора своего железнодорожного департамента Витте круто повернул таможенную систему, дабы заграничные продукты и фабрикаты не задушили доморощенных на корню.
Национализм национализму рознь (говорил Сергей Юльевич)… Один – здравый, сильный и потому не пугливый (в пример подобного националиста любил приводить Бисмарка). Другой же – болезненный, эгоистический, одержимый местью, страстями, порой в формах диких (и в этаком случае не только у нас находились примеры). Увы, не все понимали, что Россия не могла быть великой, не став промышленною страною. И уж тем более мало кто сознавал, что для этого, как пуповина, необходима денежная реформа. Во всяком случае, в Государственном совете представленный Витте проект наткнулся на явное противодействие убеленных сединами (а также блистающих лысинами) бюрократов, не столь, однако, решительное, чтобы отвергнуть проект наотрез, но в достаточной мере упрямое, чтобы замедлить, застопорить, утопить в словопрениях. Его натиск внушал им почти суеверный страх, как бы чего не вышло из модных молодыхувлечений. Как только Сергей Юльевич в том окончательно убедился, дожидаться не стал, пока сановные старцы подадут государю свои возражения против нетерпеливого, на их осмотрительность, молодого министра, и сумел‑таки отыскать дорожку в обход медлительных старцев… Против течения так уж против течения!
Государь наконец подписать соизволил указ о введении в Российской империи металлического денежного обращения, основанного на золоте.
Позднее Витте скажет: в России проводить реформы надо быстро и спешно, а иначе они затормаживаются и не удаются.
А своей Матильде Ивановне откровенно признается – вырвалось! – без ложной скромности и ничуть не шутя, что, ей–ей, ее муженьку когда‑нибудь воздадут по заслугам за то, что он, Сергей Юльевич Витте, таки озолотил Россию!..
В тот памятный день он достал из кармана новенькую, сверкающую желтым блеском монету и положил на ладошку Матильде Ивановне.
– Вот, Матильдочка, полюбуйся, отчеканили пятирублевик.
Она поиграла солнечным блестящим кружочком с двуглавым орлом на одной стороне и с профилем молодого императора и самодержца всероссийского (так гласила надпись вокруг барельефа) – на другой.
– Это и твое сияние, Матильдочка… Не слышала, как называют сию монету?
Она улыбнулась, передернув недоуменно покрытыми тонкой шалью плечами.
– Говорят» Матильдочка, в публике, – не торопясь, досказал с расстановочкой Сергей Юльевич, – говорят, будто в публике ее уже величают золотою матильдой!..
12. Общество взаимного обиранияЧиновник финансового ведомства Гурьев вел отчаянный торг о концессии с посланием сэра Базиля Захарова. Совершенно всерьез принял к исполнению Гурьев преподанный патроном с усмешкой урок. Бюджетные росписи похожи на опостылевшую законную супругу, тогда как наличность – любовница, горячая, молодая. И, распростившись с былой своей щепетильностью, боролся за даму сердца как только мог, находя оправдание (а в этом, интеллигент, нуждался) в том расхожем понятии, что дел не делают одни дураки.
По сути, смолоду он был подготовлен к обращению в модную веру. Гимназистом еще, в старших классах, Гурьев наблюдал вакханалию железнодорожных концессионеров. Люди, строившие Закавказскую дорогу, пришли в те края, если прямо сказать, без штанов… А ушли оттуда миллионерами. Сын такого, его школьный товарищ, у гимназиста Гурьева на глазах клал в карман простому столоначальнику, из путейских, пакет с пятнадцатью тысячами… Сколько ж высшим отстегивалось?!
Дух неугомонного аферизмаподмывал жизненные опоры людей старого закала, как поток в половодье – опоры моста. Да и то сказать, предприимчивым людям негде было развернуться в деревенской среде, да еще при крепостных порядках. В ту эпоху министр финансов преспокойно забирал сбережения из кредитных учреждений на казенные надобности. После освобождения крестьян пришлось освобождать и вклады… да к тому же у помещиков распухли карманы от выкупных платежей. Вот тут‑то вопреки ретрограду–министру Канкрину и началась эпидемиявсевозможных учредительетв…
Старомодный чинуша, засушенная мумия, только гробил деловые идеи. Нет, чиновник нынешнего формата – а себя Гурьев зачислял в таковые – отличался широтою суждений.
Александр Николаевич Гурьев был человек образованный, держал в голове сведения отнюдь не из одной финансовой области (хотя, на взгляд Сергея Юльевича, важнее на свете и не было ничего). Поговорить с ним на отвлеченные темы доставляло одно удовольствие, и немало удавалось из этих бесед почерпнуть. А черпать и даже вычерпывать собеседников, до донышка, Сергей Юльевич был большой мастер. Банковское дело, к примеру, когда понадобилось, изучал в разговорах с банкиром Ротштейном, так же как государственное право–с присяжным поверенным Гессеном, а парламентскую систему – с профессором Максимом Максимовичем Ковалевским [22]. Это было, на взгляд Сергея Юльевича, куда продуктивнее, нежели за книжками штаны протирать… Вот уж тут приятный его собеседник составлял ему полную противоположность. По натуре человек склада книжного, Александр Николаевич не жалел потратить вечер–другой на поучительное чтение. Сделать выписки.
Из барона Брамбеуса – устарелое:
«…Дух акционного товарищества еще гость на Руси. Мудрость спекуляций, чудные тайны разработки акционерного кармана, искусство сочинять пленительные уставы – деньготворное чернокнижие нейдет к прямому русскому уму и нежному сердцу…»
Из Некрасова уже совершенно другое:
…Да, постигла и Россия
Тайну жизни наконец:
Тайна жизни – гарантия,
А субсидия – венец!..
Из озлобленного Незлобина (Дьякова):
«…Пошел воровской человек высшего полета, сочинивший множество уставов и правил для поведения ограбляемой публики, давший волю и ширь своим грабительским инстинктам на основании им же сочиненных правил. Этот воровской человек сразу показал, как надо жить… Его пиршества, его дворцы, его оргии в кабаках и на биржах – все отмечено пышностью свинства, никогда не бывалого…»
А уж как сатирики изощрялись, любо–дорого прочитать, записать:
«Общество прикосновения к чужой собственности» (учредил Горбунов). «Общество накопления в будущем посредством расточения в настоящем, Общество взаимного обирания. Общество взаимного надувания» (Буренин).
Говоря же серьезно, весь каркас этих обществ и учредительств опирался на банки и на банкиров. Банкир – вот кто новых времен вседержитель. Замечательная вещь. Во всемирной истории не отыскивалось примеров, чтобы государственный деятель мог осилить банковскую премудрость. Кто при Бисмарке вел счет деньгам? Блейхредер. Как при Тьере – Жубер, как при Биконсфилде – Ротшильд… То же было и у министров финансов, если не были банкирами до министерских кресел. А у нас в России тем паче, ибо к должности подготовлялись в лицеях да в корпусах. Когда назначенный Александром III министр Грейг вызвал в Петербург для переговоров о кредите лондонского Ротшильда, тот, вернувшись, удивлялся: что за богатейшая страна Россия, если может позволить себе такого министра финансов!.. Впрочем, и доморощенные наши банкиры…
… Где‑то вычитал Гурьев, что однажды Вольтера будто бы попросили написать разбойничий рассказ. Вольтер написал: «Жил–был на свете банкир…»
Сергей Юльевич эти нелепые гурьевские истории обожал и охотно хохотал, например над тем, что его собственный расторопный Ротштейн начинал карьеру банкира в Вене опереточным рецензентом… Или, скажем, над ведомственным преданием, как умнейший Николай Христианович Бунге, министр Александра III, утешал директоров своих департаментов, плакавшихся ему в жилетку. Является с жалобой на акцизного директора податной: тот совсем, дескать, споил народ! А в итоге у меня недоимки, что возьмешь с мужика, коли он душу свою пропил!.. В ответ Бунге сочувственно кивал головой: это очень печально, вы напишите коллеге, чтобы не так уж усердствовал! А потом является акцизный директор, уже с жалобой на податного. Дескать, что тот творит! Совсем разорил податями народ. А в результате у меня недобор. Да и что мужик пропить может, коли на нем и рубахи‑то нету!.. И опять же министр кивал головой: это очень печально, напишите коллеге, чтобы не так уж старался!..
Сергей Юльевич завздыхал, отсмеявшись:
– Хорошо было Бунге! Тогда крестьянин не мог увильнуть от казны. Чего не выудят водкой, то податями возьмут!.. Эдакий финансовый закон Лавуазье!..
Но Александр Николаевич, извинившись, что перебил, сообщил еще отцу питейной монополии старинную клятву кабацких голов в кабаке царском:
– Не слыхали, Сергей Юльевич? «Питухов от кабаков не отгонять, дабы казне убытка от того не чинилось».
А про Бунге Сергей Юльевич мог и сам кое‑что рассказать…
На досуге Александр Николаевич как летописец записывал впрок и эти истории.
Свои заметки он порою отваживался печатать, быть может, в качестве передышки не столько от чиновных, сколько от ученых трудов о кредитных учреждениях и государственном долге, о налогах, косвенных и прямых, о банках и промышленных синдикатах, о денежном обращении… Кстати, денежному обращению в личном плане это тоже отнюдь не вредило. Находились, разумеется, доброжелатели–острословы, сквозь губу оценивавшие что ни напишешь – гурьевской кашей. Он на это не обижался, скорее чувствовал себя польщенным. В отличие от него, эрудита, его критики, похоже, не подозревали, что такое настоящая гурьевская каша, приготовленная по рецепту графа Гурьева, министра финансов при Александре I. Александр Николаевич, пусть ее и не пробовал, мог судить о ней хотя бы по «Молоховцу» [23]. Эта каша варится чуть ли не на шампанском и с отборными французскими фруктами!
В скором времени после знакомства министр Сергей Юльевич как бы между прочим поинтересовался, в каком отношении стоит этот Гурьев к тому.
– Мне уже случалось прояснять сей вопрос, – отвечал этот, – околоточному надзирателю. Однажды явился ко мне околоточный и спрашивает, мол, вы – граф Александр Николаевич Гурьев? Я, говорю, действительно Александр Николаевич Гурьев, но, увы, не граф, а также не маркиз и не барон. Не шутите, говорит он, тут не до шуток. И протянул бумагу с печатью о взыскании, стало быть, с графа Александра Николаевича Гурьева, уклоняющегося от платежа судебных издержек в указанной сумме… Пришлось мне отписать заявление, что я не граф, а студент Санкт–Петербургского университета… Таково, Сергей Юльевич, мое единственное отношение к потомкам того Гурьева.
По сему поводу министру вспомнился анекдот, популярный в Одессе:
– «Скажите, Рабинович, тот Рабинович, который проворовался, он что, ваш родственник?» – «Нет, что вы, даже не однофамилец!..»
– У нас с графом Гурьевым, пожалуй, как раз в точности наоборот, – возразил на это Александр Николаевич.
Спустя много лет после того разговора, совсем, можно считать, недавно, Сергей Юльевич при очередной их встрече протянул Александру Николаевичу газетную полосу:
– Вот, оказывается, какая у вас родословная! Это ж многое объясняет… А все скрывали!
Отчеркнутая его рукой для помещения в альбом заметка гласила: «Русское знамя» утверждает, что Гурьев по паспорту Гуревич».
Гурьев ненадолго пересидел в министерстве патрона. Главным образом по причине невоздержанности языка. И неодолимой тяги к печатному слову. Высказываясь, разумеется печатно, на насущные темы финансов после назначения Коковцова на место Витте, пошутил между прочим, что приход в министерское кресло недостаточно к тому подготовленного лица напоминает ему газетные объявления, где кухарки предлагают свои услуги за повара. Не каждый мог простить дерзость, как Витте. Новый шеф оказался обидчив и остроты не оценил, или, вернее, как раз оценил, но настолько сурово, что обратил Гурьева из чиновников министерских в вольные щелкоперы… Только лишь когда граф Сергей Юльевич сделался председателем Совета Министров и задумал официальную газету, правительственный орган, Александра Николаевича вновь призвали на службу.
Желательно, даже необходимо было давать обществу разъяснения совершавшихся событий. Прочие газеты буквально кишели нелепыми выдумками. Нельзя было оставлять их без внимания, без ответов, без опровержений. Идэя, как произносил Сергей Юльевич, такого издания принадлежала Сергею Спиридоновичу Татищеву. Сергей Юльевич за нее ухватился и предполагал Татищева редактором. Но тот, к несчастью, неожиданно умер. Пригодился палочка–выручалочка Гурьев.
На его назначение, однако, не согласился царь, по–видимому получив о нем неблагоприятные сведения (уж не от Коковцова ли?), и соизволил решить, пускай Гурьев будет в действительности редактор, но чтобы подписывал газету кто‑либо еще…
Другой бы на его месте хлопнул дверью, Гурьев же только пожимал плечами: чем скромная его персона могла не угодить государю?.. Неужели nce–таки этой давней его «кухаркой за повара»… или, может быть, статьями о японской войне?.. Ответа на свой вопрос он, разумеется, не получил, зато газета таким образом издавалась все время, пока Витте возглавлял правительство, проводя его линию, его мысли.
Называлась газета «Русское государство».
13. Среди министровХоть и остроумничали в Петербурге, что при министре финансов Витте правительство стало писаться через два «т», сам Сергей Юльевич еще до Горемыкина понял: ключевой в правительстве пост – министр внутренних дел. Конечно, и от министра финансов зависело многое – и многие. В приемные дни в министерстве на Мойке каких только важных особ не встретить! Князей и генералов, банкиров и министров. Когда удалось сковырнуть Ивана Логгиновича… впрочем, так утверждать было бы преувеличением… когда удалось поспособствовать падению Горемыки, государь оказался перед проблемой, кого выбрать в преемники. На сей раз не стал, как при его назначении, интересоваться мнением Сергея Юльевича, быть может, и потому, что решил воспользоваться прежним советом. Тогда, в глубине души ожидая, что последует предложение ему самому (несомненно, желая этого), Сергей Юльевич назвал, разумеется, не свое имя… У него тогда с государем состоялся памятный разговор.
– Я, – сказал государь, – спросил еще мнение Победоносцева [24]. Он, конечно, высказал мне его. Но я ничего не решил, ожидая вашего приезда из‑за границы…
На вопрос же, каково это мнение, если можно узнать, государь ответил, что предложенных кандидатов Победоносцев определил просто: один подлец, а другой дурак. На что Сергей Юльевич полюбопытствовал, не рекомендовал ли Победоносцев в таком случае кого‑либо еще.
– Да, – с усмешкой сказал государь, – между прочим, он и о вас говорил…
– Представляю себе, что он мог обо мне говорить…
– Как думаете, что же?
– Да приблизительно так, – отвечал Сергей Юльевич как бы наугад. – Когда вы спросили его, он ответил, что единственный подходящий человек – это Витте, да и тот… и здесь выбранился, должно быть, в духе Собакевича из «Мертвых душ» – один, мол, там и есть порядочный человек, да и тот, сказать правду, свинья.
Государь, на это рассмеявшись, сказал, что ответил Победоносцеву, что такое решение; не облегчило бы ему задачи, поскольку пришлось бы искать заместителя Витте.
Больше между ними эта тема не поднималась. А четыре года спустя место Горемыкина занял Сипягин.
Не успело это произойти, как Матильда Ивановна откуда‑то принесла на хвосте стишки про всех предшествующих министров, чуть не с Лориса начиная [25]:
И во всех министрах этих -
Хороша ль, нехороша,
Пребывала непременно
Горемычная душа.
Друг, не верь пустой надежде,
Говорю тебе, не верь! —
Горе мыкали мы прежде.
Горе мыкаем теперь…
В молодости Сергей Юльевич имел массу друзей. И в студенческие годы в Одессе, и позже. У него в Одессе осталась матушка, брат, сестры. Стоило ему появиться где‑нибудь на Дерибасовской, друзья–приятели не давали проходу. И если кто‑то из «одессистов» [3]3
Так это слово, шутя, произносил С. Ю. Витте. ( Примеч. ред.)
[Закрыть]навещал его в Петербурге, он всегда бывал рад. Но в этом мире, к какому ныне в столице он имел честьпринадлежать, коли и существовало понятие дружбы, то в каком‑то совсем ином виде.
Дмитрия Степановича Сипягина он числил в друзьях, и, смел думать, взаимно. Даже на «ты» перешли. Порой встречались почти ежедневно, если в мужском кругу, то чаще всего за обедом у князя Вово Мещерского [26] в Гродненском переулке. Каких только не задевали тем – политических, государственных, почти не таясь друг от друга. Можно сказать, втроем вершили судьбы России… Женщины, однако, по некоторым веским причинам порога дома в Гродненском не переступали. Зато и Матильда Ивановна, и дочь Вера любили гостеприимный дом Сипягиных у Кокушкина моста.
Большой русский барин, гурман, хлебосол, Дмитрий Степанович обожая потчевать гостей блюдами собственного приготовления. Его жена Александра Павловна, массивная, крупная, под стать мужу, в этом смысле Дмитрию Степановичу не уступала. В салоне Александры Павловны, открытом для цвета аристократии, Матильду Ивановну принимали без предубеждений, даром что когда‑то холостяком Дмитрий Степанович немного ухаживал за нею. Матильда Ивановна весьма дорожила расположением Александры Павловны…
Все же центром просторного дома, со вкусом отделанного в русском духе, служила столовая со сводчатыми потолками, расписанная под Палех и обставленная грубыми столами и лавками. Дочь Вера, отдав должное кулинарному искусству хозяина и забавным историям, какие он рассказывал за столом под хохот гостей, нетерпеливо ждала окончания обстоятельной трапезы. После киселя или чая с пирожными начиналось самое интересное. Дмитрий Степанович приступал к роли гипнотизера. Грузный, едва не с папа ростом, с громадной лысиной и добрыми глазами, он приказывал девочке сесть в кресло, а потом, делая движения руками и пристально на нее глядя, повторял что‑то вроде «ты принцесса, принцесса, принцесса…».
Кстати, именно Дмитрию Степановичу Вера была обязана тем, что ее усыновление Сергеем Юльевичем прошло, можно сказать, без сучка без задоринки, несмотря на не очень‑то благородное поведение в этом деле ее родного отца, первого мужа Матильды Ивановны. Впрочем, девочку в эти сложности не посвящали… В свою очередь и Дмитрий Степанович был, к примеру, обязан дружескому участию Сергея Юльевича чудесным превращением его нового, министерского дома просто в сказочный терем со столовой чуть не в виде Грановитой палаты. Вообще стиль ля рюсстал последней модой в верхах, государь на придворном балу появился в платье царя Алексея Михайловича, окруженный своими боярами, Александра Павловна рассказывала об этом с восторгом… какой Матильда Ивановна, увы, лишена была возможности разделить.
Что, казалось бы, связывало Сипягина с Витте? Происхождение, взгляды, даже манера жизни – все разнилось у них, и, однако же, считались друзьями. Дополняли друг друга и друг в друге нуждались. Один всегда помнил о близости другого к престолу, а тот, со своей стороны, ценил в друге советчика, умного, искушенного в бюрократических тонкостях и сплетениях… Человек убеждений, пусть узких, чисто дворянских, пусть «псовый охотник», но уж совершенно не флюгер, Сипягин держался взглядов консервативных и, раз утвердившись в них, уже не менял, был сторонником неограниченного самодержавия, жестких мер к бунтовщикам. Студенческие волнения подавлял без пощады, студентов сажали, сдавали в солдаты… Один из них за своих товарищей отомстил.
Трагедия разыгралась у всех на виду.
В то утро собирались на заседание Комитета Министров в Мариинский дворец. Поднявшись в зал, как обычно перед началом, разговаривали, обменивались новостями. Нестройный шум голосов неожиданно был оборван щелчками… как выстрелы! Все бросились к дверям, к лестнице. Внизу, в вестибюле, лежал распластанный человек, возле него уже хлопотали. Сверху Сергей Юльевич не сразу узнал Дмитрия Степановича. Он был в сознании. Очевидцы передавали, что к Сипягину подошел офицер в адъютантском мундире с аксельбантами и протянул пакет. На вопрос, от кого, ответил, что от великого князя Сергея Александровича из Москвы. Сипягин протянул за пакетом руку, и в этот момент, выхватив браунинг, офицер стал стрелять.
Его раздевали в комнате рядом. Высокого роста, блондин… Военный министр заявил сразу, что это ряженый, а не офицер. Он не стал запираться и тут же сознался, что в самом деле не военный, а анархист [27].
Раненого отвезли в ближнюю Максимилиановскую больницу. Сергей Юльевич поехал туда следом. Ничего утешительного ему не могли сообщить. Рана оказалась смертельной. Несмотря на старания врачей, через несколько часов Дмитрия Степановича не стало, и все это происходило на глазах потрясенного Сергея Юльевича.
Двух лет, таким образом, не минуло, как вновь надо было подбирать кандидата на должность министра внутренних дел…
Шансы Сергея Юльевича представлялись предпочтительнее, чем у других, когда бы не набрала силу клика его противников при дворе.
Назначен был Плеве.
Ежели следовать давней характеристике едкого Победоносцева – дурака, прости Господи, заменил подлец.
Уж с этим‑то Сергею Юльевичу было непросто смириться. Сколько помнилось, с Вячеславом Константиновичем Плеве они всегда на ножах. Государь однажды попросил Сергея Юльевича откровенно высказаться о вечном его оппоненте. Он ответил на это, что никто, пожалуй, не скажет, каковы убеждения Плеве. Да и сам он, скорее всего, тоже не знает этого про себя. Ибо держится мнений, для него лично выгодных в данный момент, а значит, выгодных также для тех, кто в данный момент в силе. При Лорис–Меликове он был либерал, благодаря чему возглавил департамент полиции. При министре графе Игнатьеве сделался славянофилом, при министре графе Толстом стал молиться на его формулу, при Дурново поддакивал Дурново… Вот уж флюгер так флюгер! Мог служить и Богу и дьяволу, как выгоднее для карьеры. И притом человек умный и, надо отдать ему должное, очень работоспособный, умелый…
За кулисами всякого противодействия его собственным начинаниям неизменно виделся Плеве. Впрочем, тот платил тем же. Умный Плеве при этом весьма глупо, по словам Витте, считал, будто он стремится занять его место. Потому, дескать, всегда возражает против любой его меры. А лишь стоило Витте покинуть Министерство финансов, не постеснялся заявить об этом публично.
После этого Сергей Юльевич заехал к нему объясниться.
Разговор состоялся за несколько месяцев до того, как Плеве убили.
– Не мне вам говорить, Вячеслав Константинович, что петербургский режим создал массу людей, которые травят друг друга ложью и клеветой, – так начал Сергей Юльевич, – и все это ради мимолетной выгоды… Что многие, и на самом верху тоже, поддаются на эти наветы, вы лучше моего знаете.
Вячеславу Константиновичу не требовалось объяснять, на что намекал Сергей Юльевич. Понятно, на то, что чтение чужих писем, перлюстрация то есть, обязанность министра внутренних дел. Не отводя глаз, он молча рассматривал Сергея Юльевича в ожидании, что последует за вступлением. Ведь слухи, что и в отставке Витте, внезапной и унизительной, угадывалась тяжелая рука Плеве, доходили, естественно, До обоих. Только один знал об этом наверняка, другой же не более чем имел подозрения. И жаждал в их достоверности убедиться. В этой встрече вечных недругов один участвовал как победитель, другой, увы, в роли проигравшего. И этим другимбыл Сергей Юльевич, а он проигрывать не любил, да и не умел.
–…Что я домогаюсь поста министра внутренних дел – беспочвенные опасения, – с вызывающей прямотой продолжал он, – ибо это значило бы с моей стороны быть глупым. Такого, – он усмехнулся, – по крайней мере до настоящего времени, мне никто не приписывал…
Сухой долговязый Плеве молча покачивал головой, по–прежнему вперив в Витте изучающий взгляд, словно видел перед собой диковинное насекомое.
– …Я не раз заявлял публично и не стану вам повторять, что принятый вами политический кур: дурно кончится и для вас и для государства, – занервничал под неживым взглядом Сергей Юльевич. – Скажу лишь, что мои постоянные возражения имеют причиной именно несогласие с вами, сожалею, по большинству государственных вопросов…