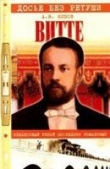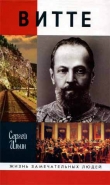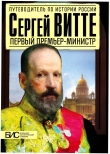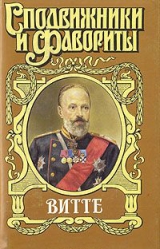
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Александр Николаевич Гурьев был человек основательный. Он давно уже из вечера в вечер являлся в особняк на Каменноостровском и, поднявшись на третий этаж, зарывался в дальневосточные бумаги, зарывался буквально, из‑за слабого зрения едва не водя по ним носом, на котором крепко держались очки с толстенными стеклами, отражавшими блики ото всех, какие только возможно, ламп, перед тем непременно зажженных.
Александр Николаевич Гурьев был человек ученый, автор множества трудов по статистике, по финансам и бесчисленного количества всяческих служебных записок, составленных для Сергея Юльевича в его бытность министром. Секретаря министерского ученого комитета в то время почти в открытую именовали перомминистра. Сергей Юльевич никогда усидчивостью не отличался, писанину переносил с натугой и не мог недели обойтись без такого «пера». Они научились понимать один другого с полуслова, что Сергей Юльевич тоже весьма ценил, ибо пускаться в долгие объяснения был еще менее склонен. Сам чужие мысли схватывал на лету: собеседник только начал высказываться, только распелся, а его уже подгоняют, мол, ясно–понятно, дальше‑то что? С верным Гурьевым не случалось такого.
Грех старое вспоминать, а ведь начиналось между ними не очень‑то гладко. Гурьев уже служил в министерстве, когда Сергей Юльевич занял кресло министра, распростившись с Министерством путей сообщения, которое возглавлял до того. И довольно‑таки скоро Министерство финансов заполонила такая публика, что стало легко заподозрить, а уж не обратились ли финансы России в одну концессию, которую охаживают толпами гешефтмахерыи состоящие к их услугам доморощенные мудрецы, до всего доходящие своим умом… Куда подевалась чинность, размеренность, неторопливые обороты бюрократического колеса? Заодно с вицмундирами все было вышвырнуто прочь. По прежде безмолвным министерским коридорам бегали, галдя и не умолкая, какие‑то прожектеры и неучи в сюртуках, увлеченные своими доктринами. Взамен входящих и исходящих ударяли по рукам, как на бирже. И сам министр, вместо того чтобы величественно восседать в своем кресле, определяя судьбы России, увлекшись какой‑нибудь темой, сновал мимо посетителя по кабинету, едва не задевая мебель. Чиновник Гурьев неодобрения отнюдь не скрывал. Открыто выступил в печати против фокусных, как он называл их, реформ и, естественно, ожидал быстрой отставки. Но оказалось, что обруганный им министр ни резкостей не терпит, ни оппонентов, а шоколадногоязыка подчиненных, в борьбе же с противниками держится принципа: «не оттолкнуть, а заинтересовать». И ученый, образованный Гурьев, столь шокированный дурным обществом новых министерских «гешефтмахеров», вскорости на собственном опыте убедился, как широко толкуется этот принцип. Его ругательное стило обратилось в «перо министра»… Что же до знаний, и теоретических и практических, недостаточность коих так коробила Гурьева в новом патроне, то он с необыкновенною быстротою приобретал их из бессчетных разговоров с сотрудниками. С Александром Николаевичем Гурьевым в том числе.
И тут же перемерял науку на собственный свой аршин, иной раз расцвечивая деловую беседу рискованными сближениями.
– Значит, так. Согласитесь, министр финансов есть законный супруг церемонной дамы – государственной росписи. У нее все расписано по параграфам и статьям бюджетного этикета… Расходы, доходы. Надлежит с ней являться на рауты в Государственный совет к старичкам почтенным и на прочие выходы, предусмотренные церемониалом. А затем… затем, оставивши госпожу властвовать в министерских апартаментах – Бог ей в помощь, – с гиком, с посвистом уносись к разлюбезной прелестнице!.. Все сокрытое по доходной части, все недоданное по расходной – все ее! Все – свободной наличности! Та, законная барыня, из‑за копейки торгуется, а ты, душенька, миллионами сыпь, мы с тобой в свободном сожительстве!.. Или я что‑то неправильно понимаю?!
Новоиспеченный финансист положительно на лету овладевал финансовыми премудростями…
Увы, настоящее не давало углубляться в давно уж прошедшее… действительность удручала и отнюдь не способствовала воспоминаниям.
В последние недели в повседневной работе Гурьева над дальневосточными документами получился длительный перерыв, объясняемый тем, что Сергей Юльевич с головой погрузился в составление Записки для камарильи. Выпускать же бумаги за порог дома – это было не в его правилах. Так что в отсутствие Гурьева верхний третий этаж особняка вообще пустовал. В сущности, он пустовал с той поры, как дочь Сергея Юльевича вышла замуж за дипломата и с мужем уехала за границу. Гурьеву выделили ее комнаты для занятий, потому что в Петербург она наведывалась нечасто.
В этот вечер, поднявшись наверх и разложив для работы бумаги (предварительно, по обыкновению, включив яркий свет), очень скоро Гурьев всеми членами ощутил, что в помещении совершенно не топлено, в таком холоде долго не усидеть. Пришлось спускаться за истопником. Тот поднялся с дровами, завозился у печки, и Гурьев, разбирая свои материалы, услышал, что старик о чем‑то себе под нос бормочет. Прислушался, однако, не сразу.
Как бы сам с собой истопник отрывисто говорил:
– Да тут понакладено что‑то… И веревки откудова… Да как же трубу‑то открыть?..
На последнюю фразу Александр Николаевич отозвался:
– Так ты вынь, что там лежит.
– Дак откудова же веревки? – в недоумении вопрошал истопник.
– Наверное, трубочист потерял инструмент…
Через вьюшечное отверстие старик потянул веревку и, почувствовав, что к ней привязано что‑то тяжелое, сказал об этом.
Гурьев ответил, все еще не отходя от стола:
– Груз, понятное дело. Вынь его.
Старик послушался и сказал:
– Нет, это не трубочист.
Оторвавшись наконец от бумаг, Александр Николаевич подошел к старику и увидел предмет, обшитый холстом. Он и в саже‑то почти не был испачкан. Не поднимая с пола подозрительного предмета, а нагнувшись над ним, стали резать холст ножом для бумаг. Мало–помалу из‑под холста показался деревянный ящик. В его верхней доске разглядели отверстие. Из отверстия величиной с монету торчало горлышко какого‑то пузырька.
– Это бомба, – уверенно сказал Гурьев.
– Откудова же ей тут взяться? – Старик не поверил.
– А очень просто, – объяснил Гурьев, точно имел дело с бомбами каждый день, – спустили с крыши в трубу на веревке.
…После сообщения Гурьева о «приятной» находке Сергей Юльевич вместе с ним поднялся наверх.
Возле ящика уже толпилась прислуга.
Не притрагиваясь, еще раз осмотрели его.
– Думаю, – сказал Гурьев Сергею Юльевичу, – горлышко – это приемник, а предмет – разрывной снаряд.
– И все‑то вы знаете, – проворчал Сергей Юльевич. – Уж вы не анархист ли, мон шер?
Он распорядился вызвать по телефону полицию, а криво усмехнувшемуся его шуточке Гурьеву предложил перебраться в другую комнату.
Александр Николаевич посмотрел на часы:
– Одиннадцать. Пожалуй, нет смысла начинать сегодня.
3. Угрозы…Вот уже, должно быть, лет семь, как в высоких российских сферах получила распространение болезнь, называемая бомбобоязнью. Временами она принимала характер эпидемии. Двадцатый век положил ей начало убийствами министра просвещения Боголепова и Дмитрия Степановича Сипягина, министра внутренних дел, одного из немногих, кого Сергей Юльевич числил в друзьях. И думается, взаимно… Сколько было съедено–выпито вместе, сколько переговорено! Гурман, жизнелюб, это так не вязалось: Сипягин и – смерть.
Всего лишь за несколько дней до того, рокового, говорил Сергей Юльевич Дмитрию Степановичу при Александре Павловне, его жене, что некоторые его меры чересчур резки и не столько пользу приносят, сколько возбуждение в обществе, к добру это не приведет.
– Допускаю, ты прав, – отвечал на это Дмитрий Степанович, – но если б ты знал, что требуют от меня наверху… Государь считает, что я весьма слаб…
Беседу, оказавшуюся последней, Сергей Юльевич вспомнил, склоняясь над распластанным телом, – и не выдержал, разрыдался и пал на колени, как был, в вицмундире и при звездах…
Немудрено было бы после всего этого самому заразиться липкой хворью бомбобоязни. Он смел думать, что если такое произошло, то в весьма малой степени. Он по этой причине не изменил ни одного своего решения, а ведь, что говорить, были деятели, отказавшиеся, например, от министерских портфелей именно потому, какими бы благовидными предлогами ни прикрывались. И особенно когда он составлял свое министерство в разгар беспорядков… Он тогда отказывался от охраны, даже в том октябре, в девятьсот пятом, когда переехал на квартиру председателя Совета Министров в запасной флигель Зимнего… Как‑то утром, помнится, увидел, что весь двор полон солдат, и тотчас потребовал их оттуда убрать. Это вовсе не означало, что ему незнаком был страх. На память приходил старший брат. Брат ему говорил:
– Если кто‑нибудь когда‑нибудь будет тебе хвалиться, что на войне не боялся, – не верь. До боя – боятся все. Когда уж заварится каша, тогда человек действительно забывается и перестает трусить…
Кавалер множества орденов и золотой георгиевской шашки, драгунский полковник на турецкой войне, брат знал это не понаслышке.
Сергей Юльевич испытывал нечто подобное. В разгар революции его на каждом шагу остерегали не ехать туда‑то, скрываться оттуда‑то, настаивали на охране, а он прекрасно обходился без этого, ездил всюду в автомобиле, известном своей шумливостью всем. Ему звонили по телефону, чтобы берегся, переждал бы несколько дней дома, – он ни разу не послушался никого. Но, оставаясь один, собираясь куда‑то, – боялся. И, спускаясь по лестнице каждый день и отправляясь пешком или садясь в экипаж, чтобы ехать на публику, на народ, всякий раз страшился и дрейфил… до момента, как оказывался на людях, потому что знал: на него все смотрят. Вот тогда и понял то чувство, о каком рассказывал старший брат… Кстати, и Скобелев, генерал, говорил про то же: пока не выйдешь под пули, трусишь, а там забываешь все страхи, и стрельба ничуть не отвлекает от дела…
Все же с известных пор Сергей Юльевич стал совать в карман револьвер, когда шел на прогулку. Ну а что до охраны… Вон сменивший Сипягина Плеве по городу ездил в сопровождении эскадрона велосипедистов. Спасло его это?! Да и последнее происшествие, с самим Сергеем Юльевичем. С тех пор как он вернулся из‑за границы, в прихожей сидел охранник, даже иногда не один. А злоумышленников проморгали… И кстати, охрана тут же исчезла после обнаружения бомб. Так что вовсе не ясно, то ли охраняли Сергея Юльевича, то ли наблюдали за ним… что, впрочем, тоже уже случалось – после первой его отставки, еще при Плеве, якобы заботившемся о его безопасности, а на самом деле желавшем знать, как Витте будет вести себя за границей. Вообще, он со временем пришел к твердому выводу: без попустительства полиции в России мало кого убивают.
Да, его неоднократно предупреждали, что ему следует остерегаться. Да, он мало обращал на это внимания. Чем выше человек поднялся по правящей лестнице, тем больше он нажил врагов. Что ж тут нового? Угрозы уничтожить его раздавались открыто в безумную пору его премьерства. На черносотенных митингах кричали: «Смерть Витте!» – а за границей революционные эмигранты угрожали его жене, что убьют дочь и внука. Когда он отправился за границу после отставки, ему, под дружескою личиной, советовали не возвращаться. А еще до отъезда он узнал от кавказских друзей, что революционеры–кавказцы подготовили было покушение на него; не уйди он в отставку, то был бы убит тем из них, кто вытянет жребий… А позднее один крайнего направления журналист, совершивший за свою карьеру медленный дрейф от Желябова к «черной сотне», признавался ему в разговоре, что и он в то же самое время был настроен к его убийству… Точно дикого зверя, его обкладывали с разных сторон.
Летом во Франции он получил от барона Фредерикса, когда‑то командира конногвардейского полка, за множество лет служения камарилье превзошедшего тонкую, как паутина, науку лукавой придворной обходительности и околичности, по–солдатски прямое письмо, смысл которого сводился к тому, что сам государь полагает его возвращение в настоящее время весьма нежелательным. На что Сергей Юльевич без промедления на многих листах отписал, что, если его величеству угодно, он готов навсегда расстаться с государственной службой, однако ни за что не согласится покинуть свою родину по собственной воле. Переписка не ограничилась этим, но постепенно как бы утонула в словах и их разъяснениях. Государь якобы имел в виду задержать недавнего первого своего министра в Европе исключительно вследствие обстоятельств минуты, по миновании коих приезд Сергея Юльевича уже не грозит «серьезными осложнениями»…
А тем временем на курорте, уже в Германии, Сергей Юльевич в один прекрасный день обнаружил то ли слежку за собой, то ли охрану, без агентов немецкой полиции не мог шагу ступить. Попытался справиться, чем обязан, но узнал лишь одно: таков приказ из Берлина.
Спустя месяц в Париже в отель «Бристоль» с визитом к нему явился только что отправленный тогда на покой Петр Иванович Рачковский [8], человек в полицейских делах многоопытный, располагавший обширными европейскими связями. Сергей Юльевич воспользовался случаем, спросил, не известно ли, отчего такое внимание к его скромной персоне, в чем тут дело. Рачковский обещал навести справки и на другой же день по своей линии разузнал захватывающую дух историю.
Началась она с нераспечатанного письма. Оказалось, его обнаружили у скончавшегося в берлинской больнице главного будто бы русского анархиста в Европе [9]. Когда полиция вскрыла конверт, выяснилось, что это запрос, не следует ли убить графа Витте: один русский студент, умирающий в Германии от чахотки, вызвался совершить покушение, если это принесет пользу партии…
– Ваше счастье, Сергей Юльевич, что главарь анархистов не успел вынести приговор, – заключил Рачковский и нехорошо усмехнулся. – Видно, Бог решил иначе вашу судьбу…
И еще не забылся сей казус, как там же, в Париже, ему доставили паническую телеграмму от князя Мики Андроникова [10] из Петербурга. Знакомство давнее, хотя и не близкое, однако поддерживаемое годами. Принимал с визитами, обменивался поздравительными открытками. Однако, положа руку на сердце, не мог понять эту пронырливую и малонадежную личность. Постоянно о чем‑то хлопочет, интригует, вхож к министрам, к великим князьям, тем, кто в силе, оказывает мелкие услуги… Сыщик не сыщик, плут не плут, а к порядочным людям никоим образом не отнесешь…
Что‑то все же подвигло светского шептуна прислать в Париж телеграмму, уж не кровь ли кавказская, как‑никак Фадеевы–Витте в Тифлисе были не из последних семей… Разумеется, если не водила княжеской куда более влиятельная рука…
Телеграмму Сергей Юльевич, само собой, сохранил для архива. В переводе с французского текст читался приблизительно так:
«Узнав о Вашем скором возвращении, умоляю Вас продолжить Ваше пребывание за границей. Опасность для Вашей жизни здесь более серьезна, нежели Вы думаете. Приезжайте, если хотите умереть».
…Он не внял истошному выкрику, хотя только за время всей этой переписки убили в благословенной России депутата распущенной Думы кадета Герценштейна, семеновца генерала Мина, усмирявшего Москву; взорвали дачу Столыпина на Аптекарском острове, искалечив его дочь (самого премьера не оказалось дома). К далеко не полному этому списку жертв террора – красного? черного? – следовало добавить погибших уже после возвращения Сергея Юльевича петербургского градоначальника и главного военного прокурора. И это‑то официально именовалось столыпинской эпохой успокоения в противовес прежней (понимай – виттевской) эпохе смуты!..
Он вернулся в конце октября и получил новые предостережения. И письменные угрозы с какими‑то знаками, крестами, скелетами, анонимные большей частью. Но не только. Некий Шмидт, назвавшись председателем отдела «Союза русского народа», писал из города Николаева, что готов приехать в Петербург (за счет Сергея Юльевича) рассказать ему подробности готовящегося покушения. Заподозрив шантаж, Сергей Юльевич не ответил… Но почти о том же сообщил черниговский предводитель дворянства, приложив к письму даже фото вероятных убийц.
4….и копии…Он вернулся в конце октября и вскоре засадил Гурьева за историю тех событий, что в конце концов шаг за шагом привели к японской войне. Чуждый всяческой отвлеченности, в том числе и научной, Витте видел в этой работе прямой политический или, если угодно, практический смысл. В представлении сфер(и не только лишь сфер) виновники войны являлись и виновниками революции. Витте задался целью доказать на фактах, на документах: он делал все, что в силах, чтобы предотвратить войну. И следовательно, революцию. Оправдаться – вот что казалось ему главным. Не любил Сергей Юльевич расставаться с бумагами, попадавшими в его руки. Предпочитал оставлять их у себя. В тех случаях, когда придержать оригинал оказывалось невозможно, тщательно снимал копию. При этом отвлеченная историческая истина заботила его в последнюю очередь. Нет, как опытный бюрократ, он был убежден, что всякая бумага когда‑нибудь да пригодится – в жизни, в политике… Потому что политика сделалась для него равной жизни. Правдами и неправдами он собрал у себя обширный архив, в чем‑то даже богаче архивов казенных. Некорректность подобного собирательства нимало не смущала его. Ибо представлялась целесообразной.
Война еще катилась к бесславному концу, только что оглушил разгром под Мукденом, а цусимского позора еще не случилось [11], но газеты уже искали ответ на извечный российский вопрос: кто виноват?..Опираясь на бумаги из архива Витте, Гурьев тогда же пытался найти сей ответ. И не один Гурьев. У Сергея Юльевича, точнее, вокруг него, не вчера и не вдруг создался, а вернее, был создан целый штат доверенных журналистов или, может быть, литературных агентов, его рупоров или клевретов, для которых время от времени находились поручения деликатного свойства. Но, вернувшись из‑за границы, Сергей Юльевич предпочел именно верного Гурьева привлечь к полупотаенной работе. Потому скрываемой, что был опыт…
Не терпела дворцовая камарилья самостоятельных, не одобренных свыше суждений, от кого бы ни исходили. И отнюдь не стеснялась в средствах, лишь бы вынюхать, перлюстрироватьих.
…У Дмитрия Степановича Сипягина после гибели остались бумаги. Полагалось, разобрав их, официальные передать в министерство, частные же – вдове. Она знала: муж вел дневники, где высказывался откровенно. Как раз их‑то Александре Павловне и не вернули. Она спросила про них. Оказалось, взял дворцовый комендант, поскольку государь пожелал ознакомиться с содержанием. Потом он с благодарностью их возвратил, отметив, что содержание весьма интересно… Однако в полученном ею пакете не хватало одной из двух дневниковых тетрадей. Она стала выяснять недоразумение. И дозналась. Доверительно, разумеется под рукой, ей сказали, что вторую тетрадку уничтожил сам государь. Что‑то, видно, нелестное прочитал о себе… Сергей‑то Юльевич помнил суждение Дмитрия Степановича в момент откровенности о своем друге–царе: неправдив и коварен…
Да впрочем, зачем за примерами ходить далеко. Два–три года тому назад первую часть потаенной работы Гурьева без особого шума пытался раздобыть департамент полиции. Была она отпечатана отдельной брошюрой в типографии Министерства финансов еще в бытность Сергея Юльевича министром, речь там шла о политике на Дальнем Востоке в предшествовавшую несчастной войне пору. Каким‑то образом о существовании такого труда довели до сведения государя – воспоследовало высочайшее повеление: разыскать. А не удавалось никак. Вся добыча – несколько корректурных листков, случайно сохранившихся в типографии. О розысках Сергей Юльевич узнал случайно. И получил полное удовлетворение от собственной предусмотрительности. Крамолы там не было никакой, видит Бог. А он все ж таки в начале сумасшествий, приведших к войне, приказал все экземпляры сжечь!.. Лишь несколько оставил себе. Один из них тотчас вынул из шкафа и без отлагательств попросил министра внутренних дел передать от его имени государю.
– Не сочтите за труд доложить, что, дескать, Витте весьма сожалеет, что ваше величество не обратились прямо к нему…
Потом он спросил у министра, как отреагировал государь.
– Только одним и поинтересовался, уверен ли я, что брошюра не распространена.
– А вы?
– А я привел в доказательство факт, что за несколько месяцев полиция не сумела ее раздобыть…
Так стоило ли удивляться тому, что, собирая важные документы, Сергей Юльевич непременно снимал с них копии. И непременно в нескольких экземплярах. Такая у него сложилась привычка.
И хранить их предпочитал, по возможности, не в одном–единственном месте.