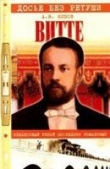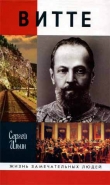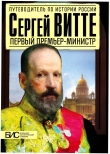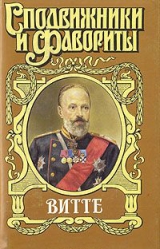
Текст книги "Витте. Покушения, или Золотая Матильда"
Автор книги: Лев Кокин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Сновавшему в устье Невы проворному пароходишку далеко было до многопалубных трансатлантических «кайзеров вильгельмов». Но в бурном октябре девятьсот пятого пароходишко этот служил единственной связью между столицей и загородным дворцом, местопребыванием государя императора. Сколько раз пришлось в эти дни Сергею Юльевичу на « Неве» прокатиться из Петербурга в Петергоф и обратно, немудрено было сбиться со счета. Наконец с высочайше подписанным Манифестом в руках семнадцатого числа он возвращался в город вместе с великим князем Николаем Николаевичем, петербургским главнокомандующим, двоюродным дядей царя. Знакомцы давние, в молодости, бывало, в Киеве чуть не каждый вечер винтили за ломберным столиком, так что Сергей Юльевич прекрасно знал великому князю цену, со всем его влиянием во дворце, с его мистическими недугами[36] .
– Ах, дорогой граф, – восторженно твердил Николай Николаевич в присутствии ехавших с ними Вуича, князя Алексея Оболенского, барона Фредерикса, – семнадцать – магическое число! Сегодня 17 октября и семнадцатая годовщина того дня, когда при крушении в Борках спаслась вся царская семья! И опять же 17 октября вы спасаете династию снова!
В меру собственного темперамента в возвышенном расположении духа пребывали все… Озабочен был только он, Сергей Юльевич. Царедворец–барон уже успел нашептать ему, со слов великого князя, как же все‑таки государь решился подписать Манифест. Подобно многим другим, великий князь, должно быть, голову потерял от страха перед происходящим, иначе бы не вбежал к царю с револьвером в руках и не поклялся бы тут же пустить себе пулю в лоб, если он не подпишет…
– Это счастье, – восклицал Фредерикс, – что государь вызвал великого князя из его орловского имения… Князь бросил охоту и, говорят, добирался из Тулы чуть ли не в товарном вагоне!..
Не теряя времени ни минуты, Сергей Юльевич отправил Манифест в типографию прямо с пристани, где его встречал директор телеграфного агентства, которому позвонили из Петергофа по телефону.
И тут же распорядился пригласить к себе на завтра цветпетербургской печати.
В назначенный час в белом доме на Каменноостровском собрались редакторы, издатели, видные сотрудники газет и журналов в таком количестве, что едва втиснулись в вестибюль.
Выходя к ним, невозможно было не вспомнить их американских собратьев, донимавших Витте в Портсмуте и до Портсмута, а особенно после. Если точность есть вежливость монархов, беспристрастие есть вежливость журналистов, – что‑то в этаком роде говорил он, помнится, прощаясь там с ними. И что сам принадлежит к той растущей категории государственных людей, которая признаёт великое могущество печати. И что должным образом ценит пользу, принесенную ими, и их содействие…
Там, однако, эти хищные стаи газетчиков почитались в порядке вещей, там обед, ими данный ему в Нью–Йорке, проходил под девизом: «Перо могущественнее меча». Тут, у нас, к подобному не привыкли… Ну так что же, пора привыкать! И в точности так же, как там обходил он всех, пожимая руки, так и теперь пожал руку каждому. И извинился, что не приглашает садиться.
– Слишком тесно у меня, господа…
Он и сам садиться не стал, заговорил стоя, проникновенно, заранее обдуманными словами:
– Не мне вам напоминать, господа, что в России печать всегда имела исключительное значение, ибо других органов для выявления мнений попросту не существовало. При всем бесправии и беззащитности у нас печать имела и имеет громадное влияние на умы… Я обращаюсь к вам не как царедворец или министр. Я прошу вас как гражданин, как русский, помогите умы успокоить! Теперь все дезорганизовано, так дальше жить невозможно. Пока не водворится порядок, сделать нельзя ничего! Скажу вам по–человечески – и у меня сейчас нет должного равновесия между умом и чувством, я нуждаюсь в поддержке. Помогите успокоить общество. Когда появится народное представительство, поверьте, все облегчится. Тогда правительство станет играть такую же роль, как в культурных странах. Господа, в ваших силах принести огромную пользу. Не мне, не правительству. Всей России!..
Разумеется, он отчетливо сознавал, что перед ним не та публика, которую можно пронять красноречием. Он и не пытался пустить его в ход. Но, закончив краткую речь, все же ждал одобрения. И неизбежных от журналистов вопросов.
С того дня, как вернулся в Европу, всячески этой братии избегал. Устал от их назойливости комариной и, главное, потерял из виду цель, ради коей стоило блистать перед ними. Но теперь такая цель появилась, и он ждал… нет, он жаждал их соучастия!
Однако, опередив любопытных, знакомый по Портсмуту молодой Суворин требовательно произнес:
– Для успокоения страны прежде всего необходима политическая амнистия!
– Да, господа, – кивнул Витте. – Но к сожалению, одновременно с обнародованием Манифеста произошли несчастные события. Я имею в виду – у Технологического института… [37] Боюсь, войска применили оружие по недоразумению… Я уже говорил е министром юстиции и просил созвать сведущих лиц, чтобы определить, в каких размерах возможна амнистия.
Нагловатый издатель «Биржевки» Проппер на это отозвался с развязностью:
– Требование амнистии категорическое. Преступно было бы, чтобы в обновленной России остались без амнистии те, кто работал на пользу обновления. В требовании амнистии петербургская печать едина!
Председатель правительства отвечал примирительно:
– Я сделаю все, что смогу, так и можете написать. Если же вы станете утверждать, что успокоение невозможно, пока не будут удовлетворены те требования и другие… Одни станут требовать одного, другие другого: сделайте так, иначе мы не сделаем этак… что получится, господа? Кого прикажете слушать? Обращаюсь к вашему благоразумию, прошу прежде всего доверия…
– Мы‑то верим… народ не верит!
Сергей Юльевич не разобрал, кто это произнес, да, собственно, так ли уж это было важно. Он продолжал по–прежнему миролюбиво:
– …Я рад, что вы доверяете мне… Тем более у государя нет важнее заботы, чем благо народа. Но одни советники говорят ему: это благо, а другие: нет, это вред… Я употреблю все силы… Но мы еще в водовороте смуты, всегда возможны кровавые столкновения. Если каждая группа станет предъявлять свои требования…
– Это не группа, а вся Россия! – перебил Проппер.
– Нет, не вся, не вся Россия, – попробовал возразить Витте и услышал в ответ выкрики:
– Разногласий у нас нет!
– За амнистию даже «Гражданин» Мещерского!
– Амнистию поскорей!
Он пытался сказать:
– Господа, вы требуете…
А его не желали слушать:
– Мы не требуем и не просим! Утверждаем: необходимо!
– Страна не верит обещаниям власти, – перекрыл шум седобородый сутулый Анненский, писатель из «Русского богатства». – До успокоения еще далеко. Мы погубим значение печати, согласившись с вами. Это будет преступление!
– Начните с отмены военного положения!
– С отмены смертной казни!
– Наши требования должны быть выполнены! – не останавливался Анненский. – Должны быть реально осуществлены свободы, объявленные в Манифесте.
– В этом можете быть уверены, – пообещал Витте.
– Тогда мы готовы вас поддержать! – в свою очередь поручился за всех Проппер.
– Перед кем?! У монарха мне вашей поддержки не нужно! Государь нуждается в верной картине, чтобы видеть, где истина. А ему одни говорят: нужна сила, репрессии! Нет, не сила, возражают другие, необходимо удовлетворить желания большинства. Так вот, вы и постарайтесь, чтобы государь убедился, что добрые меры дают результат. Вот лучший путь для печати. На нем и поддерживайте меня. Я согласен, что необходимы реформы. Но для этого на улицах не должны стрелять. Вы требуете всего и сразу. Между тем правительство даже еще не успело организоваться!.. Нужен порядок. А пока я не могу поручиться, что не будет стрельбы…
Нет, согласия по–прежнему не наступало.
– Увести из столицы войска и казаков! – с молодым задором наскакивал старик Анненский.
Витте. Теперь нельзя.
Анненский. Теперь революция! Нужны не обещания, не векселя. А валюта! Полновесная валюта!!
– Назначьте срок для вывода войск!
– Уберите диктатора Трепова!
– Довольно отсрочек!
– Создадим народную милицию!
Точно на уличном митинге, выкрики не прекращались. Удивительно, что не слышно было представителей правых газет. Князя Ухтомского из «Петербургских новостей», посланника от князя Мещерского из «Гражданина»… Словно языки проглотили. Только потакали молчанием взвинченным крикунам.
Между тем кто‑то проговорил уверенным, профессорским тоном:
– Печать готова оказать вам содействие одним способом – фактическим осуществлением свободы слова, которая возвещена Манифестом. Таково решение «Союза газет».
Витте отвечал:
– Полагаю, это решение не полезно. Свобода слова объявлена, но до новых законов о печати, покуда их нет, надо соблюдать существующие. Вы твердите: то снять, то свергнуть! Дайте время…
Анненский. Мы готовы дать время, но жизнь не ждет. А при нынешней свободе невозможно нумер выпустить из типографии без разрешения цензуры!..
Голос. Мы не станем выпускать газет, пока войска не уйдут!
Витте. Нет, уж лучше остаться без газет… Если не будет войск и начнутся грабежи и разбои, население вправе обвинить правительство…
– Вы не доверяете обществу!
– Стачечный комитет ручается: без войск будет порядок!..
Витте. Не могу согласиться. Вы упраздняете правительство! А на нас ответственность за семьсот тысяч обывателей Петербурга…
– Удалите войска!!
С ангельским, как самому представлялось, терпением Сергей Юльевич разъяснял:
– Если так поступить, сотни тысяч, их жены, их дети, объявят меня сумасшедшим.
– Но нас бьют казаки! Уберите эту орду!!
Витте. Я насилиями сам возмущен. Дайте несколько недель… Беспорядки всегда происходят от недоразумений.
– Уничтожьте смертную казнь!
– Немедленно политическую амнистию!
– Для гарантии личности удалите войска!
Витте. Когда все успокоится, войска удалятся.
– Вы сами говорите о Технологическом институте. Войска – причина беспорядков!
Витте. Столько задач! У меня ведь не сорок восемь часов в сутках. Я только еще организую правительство. Дайте мне передышку.
Он не узнавал себя сам. С кем когда‑нибудь говорил в таком просительном тоне… А в ответ услышал реплику, полную яда:
– Раз правительство еще не организовалось, не отложить ли беседу до тех пор, когда Сергей Юльевич Витте в силах будет исполнять свои обещания?!
Не поддавалась аудитория на уговоры. Не поддавалась никак.
– Пускай свободы будут осуществлены сразу!
– В особенности свобода печати!
Вопреки натиску Сергей Юльевич не отступал:
– Завтра мы будем это практически обсуждать. Пока же настоятельно рекомендую: не нарушайте законов о цензуре. А я сегодня же поговорю с Главным управлением по печати об устранении недоразумений!.. Вообще прошу, господа, приходите ко мне, когда нужно. В любое время. Черкните мне пару слов, всегда можете рассчитывать на поддержку… Все, что я говорил вам здесь, готов повторить всем, придут ли ко мне революционеры или анархисты… До свидания, господа.
И, как писалось в газетных отчетах о встрече (запоздавших, кстати, дня на три, поскольку газеты в общей сумятице не выходили), «граф Витте обошел всех с рукопожатиями и удалился. Журналисты начали разъезжаться».
Он сумел удержать до конца пресловутый Лорисов «такт в голове», но раздосадован был, оскорблен в лучших чувствах, обескуражен, взбешен. С Тедди Рузвельтом тамошниеразве так бы посмели?!
Под горячую руку угодил верный Колышко, Появившись сразу после обезумевших от свободы собратьев.
– Они мне в бороду наплевали! – негодовал и в то же время жаловался Сергей Юльевич, как обычно расхаживая по кабинету. – Даже этот пройдоха Проппер требует, видите ли! Давно ли шлялся по моим передним, выпрашивал казенные объявления и всякие льготы!.. Значит, в самом деле что‑то особенное случилось в России, коли подобный субъект заговорил таким языком!..
– А вы лавровых венков ожидали? – съехидничал Колышко.
Сергей Юльевич пропустил его замечание мимо ушей.
– …Когда бы эти писаки знали, что в сферах творится! Какое недоверие! – тяжело ронял он слова. – Едва не республиканцем меня там считает! Едва не американцем!.. Отчасти по этой причине государь и подписал Манифест. Чтобы, упаси Бог, никто не подумал, будто конституцию России дал Витте… Нет, если б мне доверяли, ограничились бы, конечно, моей Запиской…
– Я сейчас мимо Казанского проходил. Там на площади против вас горланят, – сообщил мрачно Колышко. – Эти, с черными флагами. Чуть не вечную память поют…
– Я попал между двух огней, – сокрушался Сергей Юльевич. – Общество должно помочь мне!.. Знаю, Манифест взбудоражит Россию, но я еще в русское общество верю… Если бы только мне помогли!.. А они мне в бороду наплевали!..
8. Великое содействиеКак ни странно это звучит, его, как видно, избаловали американцы. Своим вниманием, участием, своей заинтересованностью в происходящем, не обязательно дружелюбной, но неизменно неравнодушной. Хотя, казалось бы, ну какое может иметь касательство до событий в Маньчжурии или даже в Санкт–Петербурге и в Токио житель Пенсильвании или города Луисвилл, штат Кентукки… пускай даже разговоры об этих далеких событиях ведутся в их Портсмуте, штат Нью–Гэмпшир?
А касательство – было!
И когда на прощальном банкете в его честь в нью–йоркском фешенебельном «Метрополитен–клубе» мистер Витте поднял тост за великий и удивительный американский народ, это было не только дипломатической вежливостью, данью признательности хозяевам за гостеприимство. В самом деле, русского европейца – а Сергей Юльевич причислял себя к таковым – многое в Новом Свете удивляло своей непривычностью. Новизной. Как ни сблизило континенты в просвещенном XX веке развитие промышленности, и торговли, и техники – беспроволочный телеграф, думал он, или быстроходные океанские пароходы, благодаря которым смог сам убедиться: океан уже не столь разделяет, сколь соединяет между собой берега, – Новый Свет на поверку все равно оставался Новым Светом.
Конечно, не было ни времени, ни возможности ознакомиться как следует с тамошней жизнью, но доступное мимолетному взгляду, что подметить успевал все же, совпадало с впечатлениями, например, секретаря– $1одессиста», а «одессист» кое‑что значило для него!.. Не в первый раз отправляясь за океан, еще по дороге туда убеждал тот Сергея Юльевича, что это только сначала янки кажутся материалистами, расчетливыми, чуждыми всякого идеализма и прочих слабостей.
– Но ведь это же превосходно, голубчик! – прерывал Сергей Юльевич. – Пустое идеальничанье – вот, может быть, национальная наша беда!
И тогда молодой собеседник, подзадоренный, не удерживался, возражал патетически:
– Когда узнаёшь их ближе, видишь – и начинаешь ценить – высокие нравственные качества свободолюбивых граждан великой страны!
Теперь же, оглядываясь из своего взбаламученного российского далека, он не мог не признать, что даже шапочное знакомство с той жизнью нечто важное подвинуло в нем самом. Будто свежим воздухом подышал.
Вторым Колумбом себя от этого, разумеется, не вообразил. Отношения с Америкой начались не с него и даже не с печально известной продажи Аляски. Верный способу пополнять свой багаж в разговорах, он и там мотал на ус кое‑что. Запал в память один спич застольный в том же «Метрополитен–клубе». Произнес его издатель, устроитель банкета, и назвать это можно бы речью, как он выразился, о великом содействии – с их Войны за независимость начиная. Так вот, Екатерина Великая не согласилась помочь английскому королю усмирить восстание североамериканских колонистов, потому как противно достоинству двух великих наций соединяться для подавления справедливых требований третьей!.. И император Александр I, еще сражаясь с Наполеоном, поддержал Соединенные Штаты в их второй стычке с Англией… И во время междоусобицы, Гражданской войны, в знак поддержки федералистов–северян русская эскадра патрулировала американские воды, готовая оказать помощь… Правда, в соответствии с обстоятельствами оратор предпочел не касаться осложнений последнего времени, на Дальнем Востоке, что Сергей Юльевич про себя, конечно, отметил, но в свою очередь, сделав скидку на обстоятельства, не нашел возражений.
Ну а как было забыть эти письма, пачки писем, что обрушились на несчастную провинциальную почту и – за почтою следом – на российскую делегацию в Портсмуте!.. Пачки писем с разных концов страны, где просьбы о фотографических карточках и автографах перемежались советами, как лучше вести переговоры с японцами, а различные изобретательские прожекты – приветами, пожеланиями успеха и даже подарками… Господин, побывавший в Японии, делился соображениями, как России наладить отношения с нею. Диссертация мистера из Вашингтона трактовала исторические судьбы Америки и России, а в итоге делался вывод о будущем мировом господстведвух этих стран… Попутно же рекомендовалось развивать в России свободу и просвещение. Нью–йоркское общество под громким названием «Объединенные нации мира» выдвигало спой план, как окончить войну таким образом, чтобы она стала последней в истории… А мистер из Луисвилла, штат Кентукки, советовал поучиться в Америке, как надобно управлять Россией. Другой же, этому в противовес, не без иронии уверял, что, если бы мистер Витте остался в Штатах и стал бы американским гражданином, его бы, конечно, выбрали в президенты!..
…Оказанный ему в Новом Свете прием многим в Петербурге и без того мешал хорошо спать. А тут еще граф Сергей Юльевич с оживленностью стал передавать свои впечатления в гостиной Каменноостровского дома, в довольно‑таки людном этом салоне графини Матильды Ивановны, и отчасти, быть может, как раз оттуда черпали тревожные новости тайные его зложелатели, которые принялись внушать государю, будто Витте ни больше ни меньше как метит в… президенты всероссийской республики.
У Сергея Юльевича эти нашептывания по поводу его президентствавызывали разве что язвительную усмешку.
Казалось бы, в данном случае должен более опасаться «Рузельвельт» Первый, нежели Николай Второй!..
Его рассказы, как и его впечатления, конечно, были, по обстоятельствам, отрывочны, беспорядочны, неполны.
Все больше какие‑то мелочи, детали, подробности… но из них, в особенности на расстоянии, складывалось нечто похожее на мозаичную картину.
– Ты знаешь, Матильдочка, в Портсмуте, недалеко от отеля, жили две очень милые дамы с взрослыми дочерьми, мы пару раз ходили к ним пить чай, так вот, молодые люди засиживались с барышнями до позднего вечера, и, представь себе, это не выглядело ни в какой степени предосудительным!.. – вдруг вспоминал Сергей Юльевич к подходящему случаю, не имевшему, впрочем, касательства к их семейству, поскольку дочь Вера была уже замужем.
А барышни весьма хороших фамилий, которые жили в отеле, уйдут в лес с молодым человеком тет–а-тет, гуляют там по целым часам, катаются в парке на лодке, и никому в голову не приходит ничего дурного. Напротив, постыдными у них считались бы гадкие мысли!..
Другой раз начинал удивляться американским студентам.
– У нас ведь, Матильдочка, как? Студиозус, бывает, живет впроголодь, по себе помню, да и политехников своих вижу, а до черной работы не унизится ни за что. А у них в ресторанах к столу подают, во всяком случае летом, во время вакаций, не кто иные, как студенты университетов… После завтрака или обеда, убрав со стола, переоденутся и как ни в чем не бывало ухаживают за дамами и за барышнями в нашем отеле, гуляют с ними, играют себе в игры, а когда время к обеду, опять берутся за дело. И зарабатывают, скажу тебе, очень и очень прилично, я сам их расспрашивал… При тамошней демократии, сиречь, Матильдочка, народоправстве, просто не существует зазорных работ. Отсутствует, и всё, такое понятие!..
В Нью–Йорке Колумбийский университет оказал ему честь, избрал почетным хонорис кауза, доктором права. В связи с церемонией в университете перед отъездом он провел там полдня, беседуя с профессорами.
– Между прочим, их спрашиваю, – рассказывал дома, – возможны ли у них беспорядки вроде тех, что в наших университетах, и что бы они делали, если бы так случилось. На это мне отвечали, что никогда об этом не думали. А подумавши, добавляли, что вмешиваться им не пришлось бы, поскольку сами студенты отлично справятся с теми, кто попытается заниматься чем‑либо, кроме науки, в университетских стенах.
–…Зато само обучение, – продолжал Сергей Юльевич, – побуждает к осознанию и отстаиванию своих мнений и прав на основе закона. Мне говорили, что еще на школьной скамье подросток приучается следить за событиями в стране, обсуждать их, оценивать. И не только устно, письменно также, в школьных, а потом и в студенческих журналах, и это, Матильдочка, развивает в нем самодеятельность и полную самостоятельность в суждениях. Ты знаешь, именно так, в университетских пределах, начинал политическую карьеру президент Рузельвельт! Соученики избрали его редактором журнала… если не ошибаюсь, назывался журнал «Адвокат»… это тоже, по всему, не случайно!..
Секретарь– $1одессист» приобрел «Рузельвельтову» книгу об американских идеалахи перевел патрону по выбору некоторые отрывки. Сергей Юльевич воспроизводил их по памяти, быть может не очень точно, но с видимым удовольствием:
– Гражданин должен служить обществу, а иначе недостоин названия гражданина!.. Дело удается только тому, кто не держится в стороне ото всего остального… У гражданина нет права думать только о своих делах, но притом полагаться он должен на самого себя, а никак не на государство!..
Увлеченный соблазнительностью предмета, с легкостью необыкновенной переносился от конца путешествия к его началу или, благо вздумается, наоборот.
– В Нью–Йорке на пристани нас встречала с хлебом–солью депутация от славян. Их оратор в своем приветствии назвал всех их, и себя в том числе, усыновленнымиАмерикою. Толпа страждущих стать такими же в это время стекала на берег с нашего парохода. Ты могла заметить этих горемычных людей, когда провожала меня в Шербуре. Я их видел, наблюдал за ними в пути со своей верхней палубы, прогуливаясь среди океана. Всю нижнюю палубу они заполняли прямо‑таки вповалку, дети, женщины, старики. При спокойной воде обрывки слов долетали до нас наверх, главным образом это были поляки, но, думаю, среди них попадались и наши евреи… Ты бы видела, Матильдочка, сколько их там, в особенности в Нью–Йорке! Когда первый раз наш кортеж торжественно въезжал в Портсмут, на главной улице шпалерами были выстроены войска, и не единожды раздавался из рядов крик: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Гуляя как‑то потом в свободное время по городку, я заглянул в галантерейную лавку и разговорился – по–русски! – с хозяином. Услышав, откуда он, спросил, как ему здесь живется – сравнительно с прежней жизнью. Он ответил, знаешь, с этим неприятным местечковым акцентом, который, однако, не умерял его гордости: «Там я был жид паршивый, а здесь… здейсь могу сенатором стайть!» Он, скорее всего, им, конечно, не станет, но действительно право имеет – вот что важно ему!.. – как и всякому из «усыновленных» Америкой!
Он жалел, и весьма, что узнать поближе эту страну не случилось, не по письмам и нечаянным встречам. С удовольствием поговорил бы с добровольными советчиками из Пенсильвании, из Кентукки, и с крестьянами здешними, и с нью–йоркскими биржевиками, и с тем машинистом, которому на прощание в Бостоне только руку пожал (и расцеловался по–русски), да мало ли еще с кем! Посол Розен очень настаивал, чтобы Сергей Юльевич совершил поездку после конференции по большим городам. При популярности, им заслуженной, поездка помогла бы сблизиться между собой нашим странам… Из Петербурга на телеграмму по этому поводу сообщили, что государь на поездку согласие изъявил, но притом… на определенных условиях. Дальше следовали наставления. Тогда Сергей Юльевич телеграфировал, что, к сожалению, по нездоровью поехать не сможет.
Он в общем‑то не хитрил. Самочувствие и впрямь оставляло желать лучшего, одолевали разгулявшиеся болячки. Они, впрочем, не смогли ему помешать, перед тем как отплыть восвояси, забраться в Нью–Йорке на небоскреб. Под самую крышу, на тридцать седьмой этаж!
Об этом рассказывал:
– Поднялись, понятно, на лифте. На улице дул ветерок, и в комнатах наверху чувствовалось, что они чуть колеблются… как каюты на пароходе. Занятное, доложу тебе, Матильдочка, таки головокружительное ощущение!..
Стократ значительнее, разумеется, оказались колебания совершенно иного рода – те, что в результате американского путешествия усилились у него самого. Справедливее, наверно, было бы говорить не о колебаниях, а о внутренних переменах. Самоанализ не был коньком Сергея Юльевича, человек действия не привык вглядываться глубоко в себя. Остановиться, сосредоточиться всегда было некогда, недосуг. Сознавал ли он, нет ли, факт лишь то, что живоегражданское общество не могло не воодушевить его. Его взгляды и прежде не каменели, подобно надгробиям, в жизни не однажды менялись, всякий раз под воздействием здравого смысла!.. Напрасно его упрекали в хамелеонстве. Не заслужил.
Известно, ящерица сменой окраски приспосабливается к окружающей обстановке. Он – менялся внутренне: и тогда, когда расставался со славянофильскими увлечениями молодых лет, и при других обстоятельствах. Нечто схожее произошло и теперь… В измученное войною и беспорядками отечество возвращался реформатор, куда более решительный, нежели уезжал.
Если бы не состоялось этого путешествия в Америку, вполне вероятно, что Манифест 17 октября не удался бы таким, каким был.