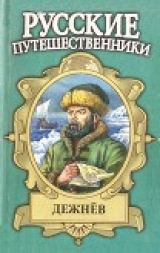
Текст книги "Семен Дежнев — первопроходец"
Автор книги: Лев Демин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Семен Дежнев – первопроходец


Из энциклопедического словаря.
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. XIX. СПб., 1897
 ежнев Семён – якутский казак, первый из европейских мореплавателей, за 80 лет до Беринга прошедший через пролив, отделяющий Азию от Америки. Берингу притом не удалось пройти всего пролива, а пришлось ограничиваться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнёв прошёл пролив с севера на юг, по всей его длине. До сих пор имеются сведения о Дежнёве только с 1638 г. по 1671 г. Родина его – Великий Устюг; когда Дежнёв ушёл оттуда искать счастья в Сибирь – неизвестно. В Сибири он сначала служил в Тобольске, а затем в Енисейске, откуда в 1638 г. перешёл в Якутский острог, только что основанный по соседству с ещё непокорёнными племенами инородцев. Вся служба Дежнёва в Якутске представляет ряд неустанных трудов, нередко соединённых с опасностью для жизни; за 20 лет службы здесь он был 9 раз ранен. Уже в 1639-1640 гг. Дежнёв приводит в покорность туземного князя Сахея. В 1641 г. Дежнёв с партией в 15 человек собирает ясак на р. Яне и благополучно доставляет его в Якутск, выдержав по дороге схватку с шайкою в 40 человек. В 1642 г. он вместе со Стадухиным послан для сбора ясака на р. Осмокон, откуда он спустился на р. Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан. Здесь Стадухин и Дежнёв соединились с Михайловым. После трёхлетней службы Стадухин и Михайлов с ясаком и половиною людей отправились в Якутск, оставив в Колымском острожке Дежнёва с 13 человеками. Михайлов с дороги вернулся обратно, а между тем Дежнёву пришлось отразить нападение более 500 юкагиров, хотевших уничтожить малосильный гарнизон острожка.
ежнев Семён – якутский казак, первый из европейских мореплавателей, за 80 лет до Беринга прошедший через пролив, отделяющий Азию от Америки. Берингу притом не удалось пройти всего пролива, а пришлось ограничиваться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнёв прошёл пролив с севера на юг, по всей его длине. До сих пор имеются сведения о Дежнёве только с 1638 г. по 1671 г. Родина его – Великий Устюг; когда Дежнёв ушёл оттуда искать счастья в Сибирь – неизвестно. В Сибири он сначала служил в Тобольске, а затем в Енисейске, откуда в 1638 г. перешёл в Якутский острог, только что основанный по соседству с ещё непокорёнными племенами инородцев. Вся служба Дежнёва в Якутске представляет ряд неустанных трудов, нередко соединённых с опасностью для жизни; за 20 лет службы здесь он был 9 раз ранен. Уже в 1639-1640 гг. Дежнёв приводит в покорность туземного князя Сахея. В 1641 г. Дежнёв с партией в 15 человек собирает ясак на р. Яне и благополучно доставляет его в Якутск, выдержав по дороге схватку с шайкою в 40 человек. В 1642 г. он вместе со Стадухиным послан для сбора ясака на р. Осмокон, откуда он спустился на р. Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан. Здесь Стадухин и Дежнёв соединились с Михайловым. После трёхлетней службы Стадухин и Михайлов с ясаком и половиною людей отправились в Якутск, оставив в Колымском острожке Дежнёва с 13 человеками. Михайлов с дороги вернулся обратно, а между тем Дежнёву пришлось отразить нападение более 500 юкагиров, хотевших уничтожить малосильный гарнизон острожка.
В 1646 г. мезенец Исай Игнатьев совершил первое плавание по Ледовитому океану на восток от устья р. Колымы и привёз в Нижне-Колымск моржовую кость (рыбий зуб). В 1647 г. была послана за рыбьим зубом новая партия промышленников, к которой правительственный приказчик острога, боярский сын Василий Власьев присоединил и Дежнёва. На него возложена была обязанность собирать пошлины с добычи и объясачить попутно инородцев. Эта партия скоро вернулась, встретив на пути к востоку непроходимые скопления льдов, но в 1648 г. холмогорец Федот Алексеев снарядил новую партию, к которой примкнул Дежнёв. Она вышла в море в количестве 90 человек на шести кочах и пошла на восток; часть её скоро отделилась, но три коча с Дежнёвым и Алексеевым продолжали держать путь на восток, в августе стали заворачивать на юг, а в начале сентября вступили в Берингов пролив. Далее им пришлось обогнуть «Большой каменный нос», где разбило один из кочей, а 20 сентября какие-то обстоятельства заставили их пристать к берегу, где в битве с чукчами был ранен Ф. Алексеев и единственным начальником остался Дежнёв. Пройдя пролив и, конечно, даже и не предчувствуя важности своего открытия, Дежнёв пошёл со спутниками далее на юг вдоль берегов, но бури разбили последние два коча и носили Дежнёва по морю, пока его не выбросило, пройдя устье р. Анадырь, на берег. Согласно с указаниями историка Сибири Миллера и с недавно открытыми Оглоблиным источниками, под «Большим каменным носом» Дежнёва надо подразумевать мыс Чукотский, как единственный, местоположение которого подходит к описанию Дежнёва. Это обстоятельство, вместе с указанием Дежнёва (в челобитной 1662 г.), что коч его был выброшен «за Анадырь-реку», утверждает за Дежнёвым несомненно честь первого исследователя пролива, названного Куком проливом Беринга только по неведению о подвиге Дежнёва.
Потерпев крушение, Дежнёв десять недель шёл с 25 человеками к устью р. Анадырь, где погибло ещё 13 человек, а с остальными он перезимовал здесь и летом 1649 г. на вновь построенных лодках поднялся по реке до первых поселений инородцев, которых и объясачил. Тут, на среднем течении р. Анадырь, было устроено зимовье, названное потом Анадырским острогом. В 1650 г. сюда прибыла сухим путём партия русских из Нижне-Колымска; этим путём, более удобным, нежели морской, воспользовался и Дежнёв (1653 г.) для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и мягкой рухляди. В 1659 г. Дежнёв сдал команду над Анадырским острогом и служилыми людьми, но оставался в крае ещё до 1662 г., когда вернулся в Якутск. Оттуда Дежнёв с государевой казной был послан в Москву, куда и прибыл, вероятно, к середине 1664 г. Сохранилась челобитная Дежнёва о выдаче ему жалованья, заслуженного им, но не полученного за 19 лет, что и было исполнено. В 1665 г. Дежнёв выехал обратно в Якутск и там служил до 1670 г., когда снова был послан с государевой казной в Москву, куда явился в 1671 г.


1. НА ПИНЕГЕ

 вашка Дежнёв слыл на Пинеге мужиком степенным, сдержанным, миролюбивым. И ещё великим умельцем. Мог превосходно сплести лапти, скатать из овечьей шерсти тёплые пимы, смастерить сани, всякую домашнюю утварь, например дежу. Дежей на севере называют деревянную кадушку, в которой ставят тесто или хранят всякие съестные припасы. Испокон веков передавали Ивашкины предки умельство сие по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Потому-то и прозвали род Дежнёвыми, расплодившимися по сёлам и выселкам на берегах реки Пинеги.
вашка Дежнёв слыл на Пинеге мужиком степенным, сдержанным, миролюбивым. И ещё великим умельцем. Мог превосходно сплести лапти, скатать из овечьей шерсти тёплые пимы, смастерить сани, всякую домашнюю утварь, например дежу. Дежей на севере называют деревянную кадушку, в которой ставят тесто или хранят всякие съестные припасы. Испокон веков передавали Ивашкины предки умельство сие по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Потому-то и прозвали род Дежнёвыми, расплодившимися по сёлам и выселкам на берегах реки Пинеги.
С многочисленными чадами своими Иван Дежнёв был ласков, старших терпеливо учил всяким полезным ремёслам, умению ставить силки на пушного зверя. Уж если слишком расшалятся чада, даст одному-другому лёгкого подзатыльника, для проформы более. А если кто-нибудь из ребятни крупно напроказит, того на колени в красный угол поставит и велит поклоны отбивать перед образами.
А вот исчезновение семилетнего Семейки вывело Ивана из равновесия. Забеспокоился отец, встревожился за сына. Отпросился Семейка в лес по ягоды, прихватил берестяной туесок. В окрестных лесных урочищах полным-полно всяких ягод: и малины, и морошки, и голубики, и черники. Наступило время созревания малины, до которой Семейка был большой охотник. За малиной будет поспевать брусника, за ней клюква.
Третий день пошёл, как ушёл малец, и нет его. Не иначе как заблудился в лесных чащобах или стаю волков встретил. Время от времени пинежане устраивали облавы на волков, чтоб не портили скот, не таскали овец. Да разве всех серых разбойников перебьёшь? Северные леса, населённые всякой лесной живностью, конца-края не имеют. Перебьёшь одну волчью стаю, через малое время придёт другая.
На третий день Иван почти смирился с мыслью, что Семейку съели волки или забодал шальной сохатый. Старался успокоить себя – что поделаешь, на всё Божья воля. Бог дал, Бог и взял. Не единственное чадо теряем. Нарожаем с супружницей ещё, ведь не старые оба.
Так рассуждал пинежский обитатель Ивашка Дежнёв, когда Семейку живого и невредимого, только исцарапавшегося в зарослях малинника, привели к отцу зыряне, охотники из соседнего селения. Зыряне эти давно обрусели, один из них даже породнился с дежнёвским родом. Рассказали отцу, что нашли мальчонку под елью, спящим на куче мха и накрывшимся моховым слоем, как одеялом. Лето было в разгаре, погода стояла тёплая, сухая, даже ночная прохлада оказалась терпимой. Лишь под утро повеяло прохладой. Семейку заметил рыжий зырянский пёс, северная лайка, навострил уши и насторожился, залаяв.
Иван поблагодарил зырян и выставил каждому в знак благодарности по кружке домашней медовухи. А проводив спасителей, учинил Семейке допрос.
– Ну рассказывай, чадо моё непутёвое.
– Заблудился я, тятя, – пробормотал смущённо мальчуган.
– Ишь ты, заблудился! Не позор ли для мужика!
Семейка робко съёжился, ожидая отцовского подзатыльника или приказания встать на колени перед образами и отбивать поклоны. Но Иван был настроен миролюбиво – обрадовался, что сын нашёлся, на обед серым разбойникам не попал, гадами ползучими, какие водятся в окрестных лесах в изобилии, не покусан.
– Пусть мать накормит тебя досыта. Щец похлебай, творожку со сметанкой отведай. Изголодался небось?
– Не-е, тятя, – ответил Семейка отцу. – Ягодами питался, больше малиной.
– Потом поговорим. Расскажешь.
Из сбивчивого Семейкиного рассказа Иван уразумел следующее. Сперва Семейка не собирался удаляться далеко от родной деревни и решил попастись в небольшой рощице, что вытянулась дугой в излучине Пинеги. Но рощица была вся исхожена соседской ребятнёй, и ягод здесь попадалось мало. А хотелось не только самому полакомиться, но и набрать туесок для семьи. И Семейка пересёк выгон, где обычно пасли скот, и углубился в большой лес. Миновал густой ельник, поднялся вверх по ручью, вытекавшему из болотца. Обошёл болотце и вышел в лиственный лес, где березняк чередовался с зарослями ольхи и рябины. Вот здесь оказалось раздолье. Здесь малинник густо краснел спелыми ягодами, и, казалось, воздух был пропитан малиновым ароматом. А под ногами то и дело попадались кустики черники, морошки. Отойдёшь от малинника, почувствуешь запахи лесной прели, багульника, древесной гнили. Множество всяких запахов сливалось в общий запах дремучего северного леса. И лес этот был наполнен разноголосым хором птиц, в котором выделялось монотонное кукование кукушки.
На полянке Семейка заметил лосиху с тонконогим лосёнком. Животные ощипывали ветки кустарника. Мальчик притаился в зарослях и стал наблюдать за ними. Однако чуткая лосиха уловила запах человека, повернула в его сторону голову, раздула ноздри и трубно заржала или захрапела. А потом стремительно рванулась в чащобу, увлекая за собой и детёныша. Послышался треск веток, хруст валежника.
Семейка не мог толком объяснить отцу, как он заблудился. Он всё дальше и дальше удалялся от Пинеги, а когда решил, что пора возвращаться домой, попытался повернуть назад. Вспомнил, что на обратном пути попадётся болотце, а потом густой ельник. Но вместо ельника он забрёл в незнакомый сосняк. Вот так и застали его сумерки. Семейка почувствовал усталость, захотелось прилечь и уснуть. Устроил себе постель из мха.
Вот так и проблуждал Семейка по лесу три дня. Слава Богу, хищных зверей, ни волка, ни рыси, ни медведя, не встретил. Встречались неоднократно гадюки. Их в здешних лесах водилось великое множество. Черно-коричневые, узорчатые, они извивались, шипели, разевали клыкастые пасти. Иногда сплетались в клубки, из которых высовывались угрожающие головы. Змей Семейка особенно не боялся. От старших он слышал, что гадина, если на неё не наступишь невзначай, не раздразнишь, первая человека не тронет, а постарается уползти в заросли. Всё же мальчик с опаской поглядывал на свои лёгкие берестяные лапоточки – бахары, обутые на босу ногу, – ненадёжная защита от гадов. Голодным он на протяжении этих дней не был. Вдоволь питался ягодами, сочные же ягоды и утоляли жажду.
Иван выслушал сумбурный рассказ сына и произнёс назидательно:
– Пинежский мужик в лесу заплутал. Позор на твою голову, Семейка. Позор на мою голову за то, что сына уму-разуму не научил. Вот слушай, чадо моё непутёвое, и наматывай на ус.
И Иван втолковывал сыну простые житейские истины, которые необходимо знать обитателю северной лесной деревушки. Если ты человек сообразительный, никогда не заблудишься в лесу. Непременно встретишь какой-нибудь ручеёк. Иди вниз по течению, пока тот ручеёк не впадёт в ручей пошире, помноговоднее. Опять же иди вниз по течению. Ручей впадёт в речушку, а речушка суть приток нашей Пинеги. Вот и выйдешь если не в свою родную деревню, то в соседнюю. И ещё присматривайся к наростам лишайника на старых деревьях. Они подобны стрелке компаса, который укажет нужное тебе направление. Хитрая штука компас, подрастёшь – уразумеешь.
После такого отцовского напутствия Семейка уже никогда не блуждал вслепую по лесным чащобам и безошибочно находил обратную дорогу. Правда, однажды повстречал пару волков, худых и, как видно, голодных, и изрядно перетрусил. Но поступил, как учил его отец. Проворно забрался на высокую ель. А волки покружили вокруг ели, полязгали зубами да и убрались восвояси.
Этот случай, когда он заблудился в лесу, надолго запал в память Семейки. Другое памятное событие было связано с плаванием в Соловецкий монастырь. В ту пору Семейке шёл четырнадцатый год, и был он не по летам крепким и мускулистым подростком.
С незапамятных времён сложилась традиция посылать в Соловки монашествующей братии щедрые дары. Со временем те дары превратились как бы в обязательную повинность. Монастырь располагал значительным штатом монахов и послушников. В обширном монастырском хозяйстве, на разных строительных работах трудились мужики из приписанных к Соловкам деревень, фактические крепостные. И кроме того, в летние месяцы съезжалось немалое паломничество из дальних мест, даже москвичи. Всех их надо было прокормить, всем надо было дать кров. Жители пинежской деревушки и ближайших выселков собирали сообща очередную партию приношений: бочонки отличного мёда, топлёного масла, маринованных грибов, связки сушёных боровичков, вяленую сохатину, беличьи шкурки, воск, который пойдёт на изготовление церковных свечей, холстину и овечью шерсть. Скажем прямо, приношения эти для пинежан становились очень и очень обременительны. Но что поделаешь? Все ходили под Богом. Служителям Бога надо воздавать богово.
Беличьи шкурки имели хождение на рынках Архангельска и Холмогор заместо денег. Откуда же у обитателей северной лесной деревушки деньги? Вот и охотились на белку с помощью лука и разных ловушек и копили шкурки. На них можно было закупить у купцов и ржаной мучицы, и необходимый в хозяйстве инструмент, и отрез тонкого сукна на праздничный кафтан, и куль соли, а ещё серьги устюжской работы для девиц на выданье.
Обычно ранней осенью, когда заканчивались полевые работы, сообща снаряжали дощаник под парусом. Кидали жребий. И тот, на кого жребий падал, отправлялся в плавание, беря с собой подручными подрастающих сыновей, братьев или других ближайших родичей. Путь лежал по Пинеге, Северной Двине, Белому морю.
На этот раз жребий выпал на Ивашку Дежнёва.
– Плывём, Семейка, – сказал он сыну. – И зови Агашку. Будет мне помощником.
Агашка, иначе говоря, Агафоник, тоже из рода Дежнёвых, двоюродный племянник Ивана, молодожён, женившийся год назад на миловидной зырянке из соседнего селения. Недавно молодые возрадовались рождению первенца. Агашка, хотя и без большой охоты покинуть молодую жену с младенцем, возражать Ивану не стал. Ивашка Дежнёв был односельчанами уважаем и признавался как бы за негласного старосту. Официальный староста Власий Двинянинов обитал в приходском селе. Это был крепкий зажиточный мужик, к тому же и староста церковный, скупщик пушнины, которую перепродавал с немалой выгодой для себя архангельским и холмогорским купцам.
Нагрузили дощаник и тронулись в путь, провожаемые всей деревней. Кто-то крикнул с берега зычно:
– Бог вам в помощь, мужики! Помолитесь за нас святым угодникам, Савватию и Зосиме.
– Непременно помолимся, дорогие мои, – отозвался старший Дежнёв.
Шли под парусом вниз по реке. Лёгкий попутный ветерок благоприятствовал плаванию. Лишь иногда брались за вёсла, когда дощаник отклонялся от фарватера и появлялась угроза сесть на мель. В приходском селе сделали остановку. Село разбросано по пологим склонам холма, над которым возвышается бревенчатая церковка с луковичными главками. Среди жилых строений выделялась большая изба на подклети с гульбищем, украшенным резными перильцами. А позади избы теснились хлева и амбары. Всё это принадлежало Власию Двинянинову. Ему-то и счёл необходимым нанести визит Иван. Староста всё-таки, и над волостью и над приходом.
– Здравия желаем, куманёк, – громогласно возгласил, встречая его, Власий. Никаким кумом Дежнёв ему не приходился, недолюбливал Двинянинова за жадность. Власий обращался к каждому подобным образом, вроде бы и ласково, но ничем не обязывающе. Вручил Иван старосте подарки – пару кадушек собственной работы и ведёрко форели, выловленной в лесном озерце. Двинянинов принял подарки как должное, но смягчился и пригласил гостя в дом выпить с дороги кружку домашнего кваса и закусить сдобной медовой коврижкой. Разрешил и дежнёвским спутникам зайти в жилище и присоединиться к угощению.
В отличие от большинства крестьянских изб русского севера, так называемых курных, топившихся по-чёрному, дом Двинянинова отапливался кирпичными печами, тщательно побелёнными. Освещалась изба сальными свечами в медных подсвечниках. Лавки были устланы медвежьими шкурами. Красный угол украшали образа в массивных серебряных окладах.
Семейка вслед за отцом перекрестился на образа и осмотрелся.
Дом казался богатым, не сравнимым с родительской избой. Горница выглядела высокой и просторной. Не то что большинство поморских изб. У большинства бедняков и даже хозяев среднего достатка избы топились по-чёрному. Печи клались без дымохода, а иногда это была просто груда булыжника для очага. Дым стелился по избе, устремляясь под потолок и всасываясь в дощатую трубу в отверстии потолка. В избе всегда было дымно и угарно. Потому-то обитатели северных деревень страдали болезнью глаз, именуемой впоследствии медиками трахомой, нередко слепли в молодом возрасте. Освещались такие избы тускло. Много ли света может дать едва мерцающий фитилёк в глиняной плошке с жиром, отбрасывающий тусклые блики на чёрные от копоти стены. Весной обычно начиналась предпасхальная уборка. Вся семья вооружалась скребками, мочалками, тряпицами и принималась рьяно скрести и отмывать от копоти стены. Но их белизны хватало ненадолго.
Гости выпили по кружке кваса, съели по кусочку медовой коврижки. Вежливо, дружным хором отказались от дальнейшего угощения. Власий спросил Ивана въедливо:
– Не забыл, кум, про должок свой?
– Про какой должок глаголешь?
– Запамятовал? А бутыль жира тюленьего, что дал тебе в долг прошлой весной?
– Как же, долг платежом красен. Непременно расплачусь с тобой шкурками. Вот только...
– Не нужны мне твои шкурки. От своих закрома ломятся. Предложу тебе другое... Возьми с собой Игнашку моего. Пусть сынок мой Соловки узреет, соловецким угодникам помолится за всю семью нашу. Будешь кормить и опекать парня в пути. Вот и посчитаем, что долга за тобой нет.
Иван вынужден был согласиться. Возражать богатею он не хотел, хотя и согласился не по своей охоте. Игнашка, ровесник Семейки, выглядел парнем, изнеженным родительской лаской. Вместо крепких мускулов жирок на теле. Этот не помощник в плавании. Пожалуй, хлопот с Игнашкой в пути не оберёшься. Но что поделаешь – придётся брать с собой двиняниновское чадо.
Священник отец Зиновий благословил путников, прочитал краткую молитву и осенил отплывающий дощаник крестным знамением.
Плыли вдоль низменных лесистых берегов, окаймлённых зарослями тальника. Иногда из зарослей взлетали стаи диких уток с шумным кряканием. Поселения попадались не часто, и лишь однажды – погост с одинокой столпообразной церковкой. Плыли Пинегой до впадения её в Двину, чуть повыше Холмогор. В Холмогорах остановились на отдых у знакомого псаломщика, служившего прежде на Пинеге. Псаломщик получил за усердную службу повышение – теперь служил дьяконом в городском каменном храме. Посетили литургию, потом отоспались на сеновале у дьякона.
Вот и Архангельск на правом берегу широкой и полноводной Северной Двины, главный морской порт России. В ту пору русские ещё не прорубили окно в Европу через Балтийское побережье. Пройдёт немало лет, прежде чем решит эту историческую задачу царь Пётр Алексеевич, прозванный Великим. А пока что царствовал его дед Михаил Фёдорович, первый царь из рода Романовых, хилый телом и не блиставший умом. А фактически правил страной отец Михаила – властный и умный патриарх Филарет, до принятия монашеского сана Фёдор Никитич.
Архангельск производил впечатление быстро растущего города, раскинувшегося вдоль берега Двины на больших просторах. Повсюду раздавался стук плотницких топоров, визг пил, пахло свежим деревом. Громоздились штабеля строевого леса, тёса, кирпича. Строились жилые дома, купеческие хоромы, амбары для хранения разных товаров, русских и заморских, храмы. Над городом возвышалось несколько массивных белокаменных храмовых сооружений. Фигурные кресты на главках церквей сверкали позолотой. Возводились и скромные бревенчатые церквушки. Всё зависело от богатства прихода. На Двине стояли на якорях или у причалов торговые корабли, русские и иноземные, под разными флагами: английскими, голландскими, датскими, норвежскими. На набережной слышалась чужая речь, встречались чужеземцы в необычных для русского глаза платьях.
– Тьфу ты, Господи, – проворчал Агашка. – Лопочут по-своему нехристи, – не поймёшь. И вырядились, что шуты гороховые.
– Чем они тебе не угодили? – осадил племянника Иван. – Хоть он аглицкой или датской породы, а тоже человек. Только молится на свой лад, одевается на свой манер. У каждого народа свои обычаи. А что пожаловали к нам заморские купцы с товарами, наши товары покупают, лес корабельный, пеньку, меха – разве это плохо? Видишь, оживает матушка Россия после смутного времени, великого запустения.
– Оживает, – согласился с ним Агафоник.
Решили остановиться у Тимошки Вагина, жившего на берегу реки в избёнке в два окна. Прежде Вагин был односельчанином Дежнёвым. Пришёл он на Пинегу в надежде на лучшее житьё с реки Ваги, левого притока Двины. Отсюда и прозвание его – Вагин. Мужик он был неудачливый, искусством мастерового не обладал, охотой не увлекался – бить зверье, говорил, жалко, не богоугодное это дело. К тому же супружница постоянно рожала одних девчонок, нарожала целый выводок. Так что надёжных помощников в доме не было. Кое-как кормилась семья за счёт надела малоплодородной земли, сбора грибов и ягод да рыбалки. Никак не могли Вагины выбиться из горькой нужды. Решился Тимофей на отчаянный шаг – свернул хозяйство и перебрался всей семьёй и с убогим своим скарбом в Архангельск.
Мужик он был грамотный, выучился грамоте ещё у вагинского дьякона. Вот и посчастливилось найти в Архангельске работу у одного богатого купца, торговавшего лесом и бравшим строительные подряды. Стал Тимофей Вагин помощником приказчика у того купца, писарем и счетоводом в одном лице. Вот и пригодилась грамотёшка, усвоенная у дьякона.
Вагин принял гостей с Пинеги радушно, хотя и произнёс:
– Не обессудьте, дорогие мои други. В тесноте, да не в обиде.
Мордастый Игнашка недовольно поморщился, входя в тесную избу, наполненную девчонками разных возрастов и пропитанную запахами детских пелёнок и кислятины.
Тимофей наказал жене накрыть стол и подать ухи, да грибные галушки с луком. Чем же ещё может попотчевать неимущий беломорец? После угощения Вагин дал пинежанам полезный совет:
– Не вздумай, Иван, на своей утлой скорлупке в Белое море выходить. В эту пору оно неспокойно. Гибнут люди в такую погоду. Вот что я тебе посоветую. Дощаник оставь на моё попечение. Вытащим его на берег и затащим ко мне во двор, чтоб не позарились на него лихие людишки. А завтра отплывает на Соловки большое монастырское судно с паломниками. Судно добротное, надёжное. Среди монахов есть хорошие корабелы.
Дежнёв согласился с Тимофеем и решил последовать его совету. Также договорился с Вагиным, что оставит у него на хранение заветный куль с пушниной, беличьими и лисьими шкурками. Везти его в монастырь не резон. Это не мирской дар соловецким монахам, а собственная казна. На эти шкурки Иван намеревался выторговать у архангельских купцов необходимые продукты: топлёный жир для освещения избы, соль и ржаную муку. Своей муки до нового урожая никак не хватает. Урожаи на Пинеге низки, а то и вовсе губят их непредвиденные заморозки. В честности Вагина Иван был уверен и оставил ему куль без всяких сомнений.
Монастырский парусник принял пинежан в числе других паломников и благополучно доставил их на Соловки. Море слегка штормило, вызывая у тех, кто впервые пускался в такое плавание, головокружение и рвоту. А бывалые северяне переносили путь легко, привычно.
Строения монастыря выглядели суровой угрюмой крепостью, окружённой стенами с башнями. Стены были сложены из шероховатых глыб гранита и булыжника. Это и была надёжная крепость, успешно выдержавшая нападение шведов. Центром монастырского ансамбля служила каменная громада собора строгой архитектуры.
Дежурный монах сопровождал паломников в монастырскую гостиницу, до предела заполнившуюся постояльцами. Получили свой тесный закуток и пинежане. Дары, привезённые Иваном Дежнёвым, принимал отец-эконом, костлявый долговязый старец. Монах недовольно морщился, пересчитывая приношения, и ворчал:
– Могли бы и пощедрее...
– Откуда быть щедротам, – оправдывался Иван. – В бедности живём, детишек досыта не накормим.
– Прибедняетесь.
– Истинный крест, не прибедняемся, отец родной.
– Бог вам судья.
Потом отправились на богослужение в большой собор. Служил сам игумен в сослужении четырёх иеромонахов. Пел хорошо отлаженный монашеский хор. К концу службы игумен провозгласил многие лета царю Михаилу Фёдоровичу и батюшке его, патриарху Филарету.
На следующее утро удар монастырского колокола разбудил паломников, созывая к заутрене. Семейка с Игнашкой простояли начало службы, а потом незаметно выскользнули из храма. Захотелось удовлетворить любопытство, побродив по монастырю и его окрестностям. Они удалились вглубь острова, поросшего превосходным хвойным лесом, и смогли воочию убедиться, что монастырь располагает огромным и хорошо налаженным хозяйством. Лес чередовался с угодиями. На лугу паслось большое стадо коров и овец отборных пород. На берегу бухты плотники-корабелы мастерили лодки и морские парусники. На стапелях стоял остов большого недостроенного судна. Раздавался перестук топоров, пахло смолой. Игнашка спросил одного из корабелов, пожилого мужика в длинной холщовой рубахе, вытёсывавшего сосновый брус:
– Ты монах, дядька, али послушник?
– Не, малец. Ни то, ни другое, – ответил тот, не отрываясь от работы. – Не видишь разве? В мирской оболочке я. Трудник.
– Что это такое трудник? Растолкуй.
– Мирянин, который трудится на благо святой обители. Вот тружусь ради святого дела, грехи замаливаю. Монастырь за это кормит, поит меня, жильё даёт.
– И много вас таких трудников? – вмешался в разговор Семейка.
– Не ведаю, не считал. А полагаю, много. Говорят, сотни три, а то и четыре. А ещё есть мужички из приписанных к монастырю сел. Эти отбывают на Соловках барщину, трудятся и на кирпичном заводе, и на свечном, и на гончарном, и на лесопилке.
– Выходит, богатое хозяйство ваш монастырь.
– Ещё бы.
Семейка с Игнашкой вышли на канал, прямой, словно прочерченный по линейке. Склоны канала аккуратно выложены плоскими камнями. Каналы связывали бухту со Святым озером и другими озёрами острова в единую сеть. В них монахи разводили рыбу: форель, окуньков, снетков. Иногда на пути молодых людей попадались скиты – одинокие часовенки с кельями. В скитах обитали монахи-отшельники, принявшие особо изнуряющий обет. Обычно они не покидали скита и истово молились в своей обители.
В одном из скитов молодые люди встретили седовласого старика, крупного, плечистого. Нетрудно было предположить, что когда-то сей старец был дюжим богатырём, человеком отменной физической силы. Теперь же он сидел на завалинке, перебирая чётки. Взгляд его, устремлённый куда-то в пространство, казался безжизненным, отрешённым. Похоже, что монах был слеп.
– Бог в помощь, отец, – приветствовал его Семейка.
– Бог в помощь, – повторил Игнат.
– Зовите меня отец Ермолай, – глухим голосом ответил старый монах. – По голосу чую, что вы ещё юнцы. А вижу вас смутно, какие-то расплывчатые пятна, словно два облачка. А лики ваши уже не улавливаю. Слепну я. А ведаете – почему меня при постриге Ермолаем нарекли?
– Откуда нам знать? – отозвался Игнашка.
– А вот сейчас узнаете. В миру-то я был Евграф Алексеев. Принимая монашеский сан, сам напросился, чтоб непременно дали имя Ермолай.
– Почему же Ермолай?
– В память о Ермаке Тимофеевиче. Я ведь в его воинстве состоял, прямой участник разгрома Кучумова царства был. Ермак Тимофеевич погиб в том злополучном сражении, вернее, утонул в Иртыше, тяжелораненый. Доспех из брони потянул его ко дну.
– Так ведь предводитель ваш Ермаком звался, а не Ермолаем, – возразил Семейка.
– Вот в чём дело, мальцы. Имени Ермак в святцах нет. То прозвище. А произошло оно, по одним слухам, от Ермолая, по другим – от Еремея. Вот я и выбрал Ермолая. Может, в цель угодил, а если не угодил – Бог простит.
– По Сибири не скучаете, отец Ермолай? – спросил старика Игнашка.
– Мирским помыслам предаваться грешно. А если по совести... Скучаю по матушке – Сибири. Ещё как скучаю. Необъятные леса, степи. Зверья всякого полно. И люди – остяки, вогулы, самоеды – работящие, добрые, приветливые, незлобливые, если ты с ними, конечно, по-хорошему. Возрадовались, что игу Кучумову пришёл конец. Ханские отряды разбойничали, грабили народ, уводили людей в полон. Конечно, и наши воеводы, купцы – не святые угодники. Бывало, тоже мздоимствовали, корыстолюбствовали. Но всё же такого повального грабежа и разбоя, как при ханской власти, уже больше не было. Я ведь остячку одну пригожую присмотрел. Приглянулась она мне.
– Ишь ты! Покорила сердце казака бусурманка, – не то осуждающе, не то с одобрением произнёс Семейка.
– Да уж, покорила. Вернулся я после ранения в свой Устюг, взял с собой ненаглядную остячку. Окрестил её поп по нашей вере, дал ей имечко Лукерья, Луша. А потом обвенчал нас чин чином. Ребятишек мне нарожала.
– А что с вашей семьёй стало?
– Беда с семьёй стряслась, великая беда. Вот слушайте... Из Устюга перебрались мы в Архангельск, поскольку поступил я на службу к богатому купцу. Доставляли мы на кочах Студёным морем всякие припасы в Мангазею и возвращались оттуда с пушниной. Слышали про Мангазею?
– Что-то слышал. Тятя и поп наш рассказывали, – ответил Семейка.
– Мангазея, да будет вам ведомо, торговый городок на севере, за Каменным поясом, на реке Таз. Тяжёл путь по Студёному морю – льдины даже летом плавают, готовые раздавить судёнышко, свирепый ветер рвёт паруса. Но городок на реке Таз всё же вырос. Отстроили крепость, гостиный двор, две церкви. Возвращаемся в Архангельск с грузом пушнины, и горе-то какое меня встречает. Прицепилась к моей семье прилипчивая болезнь – не иначе как бусурмане из Европы привезли. Оспа. И вымерли все мои домочадцы, и жёнушка Лукерья и ребята малые. Трое их у нас было. Вот так Бог за грехи мои меня наказал.
– Чем же вы прогневали Господа нашего? – спросил Игнат.
– Это уж ему виднее. Чтоб замаливать грехи, решил в Соловецкую обитель удалиться, монашеский сан принять. Раздумываю, не принять ли схиму.








