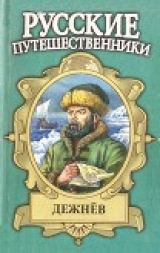
Текст книги "Семен Дежнев — первопроходец"
Автор книги: Лев Демин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
– Вестимо.
– А завтра приходи к нам в гости.
Федулка вскоре возвратился с петухом. Он и помог Дежнёву донести все покупки до дому, взвалив себе на плечо увесистый мешок муки. Старый драчливый петух был изловлен, лишился головы, был ощипан и сварен. Серый петух занял его место в качестве предводителя куриной стаи и возвестил о начале своей деятельности громким кукареканьем.
К приходу гостей Абакаяда испекла медовые лепёшки и пирожки с творогом, нарезала тонкими ломтиками свиное сало, разделала на кусочки провинившегося петуха. Не поражал стол роскошеством и изобилием. Но всё, что мог предложить казак, вернувшийся из похода, было гостям подано. Дежнёв помог жене накрыть на стол, достал из самодельного шкапчика глиняные кружки под вино.
Первыми пришли Усольцевы. Катеринка протянула Абакан де узелок с гостинцами.
– Это куропатки. Трофимушка охотился и подстрелил, – пояснила она. Куропатки были уже ощипаны и сварены.
– Обогащаете наш скромный стол! – воскликнул в знак благодарности Дежнёв. – Говорят про тебя, Трофим, с воеводами не поладил и намереваешься Якутск покинуть.
– Нехорошая история вышла, – неохотно ответил Трофим. – В двух словах о ней не расскажешь. Главный-то воевода Головин не человек, аспид. От него на край света убежишь. Уж на что крутой и грубый мужик Васька Поярков, и с ним ладить удавалось. Ценил меня, как лучшего толмача в остроге. А этот...
Трофим не договорил. Послышались шаги в сенях.
– Идёт кто-то. Потом расскажу, – сказал Усольцев, прислушиваясь к шагам.
Вошли псаломщик Агапий, худой и долговязый человек с клинообразной бородкой, со своей псаломщицей, крёстной матерью Абакаяды-Настасьи.
– Мир дому сему, – произнёс нараспев псаломщик.
– Как здоровье, крестница моя милая? – воскликнула Степанида, расцеловавшись с хозяйкой.
– Как поживает духовенство? – спросил в ответ Дежнёв.
– Плохо поживает, – ответил Агапий, вздыхая.
– Пошто так, отче?
– Нелады великие между светской и духовной властью. Наш отец Маврикий, добрый пастырь, великой души человек, не ко двору пришёлся новым властям. Он, конечно, учёностью не блещет и грамотей не ахти какой. Не учёностью, практикой достиг священнического сана. Был сперва церковным певчим, потом дьячком, то бишь псаломщиком, как аз многогрешный. Петруха и говорит ему однажды – слабоват, сер ты, отче. Служить бы тебе в церквушке в каком-нибудь захудалом зимовье. А Якутск тебе не по плечу. Благолепия в твоей службе мало. Отец Маврикий прослезился от такой обиды. Мне пожаловался. Я ему отвечаю – ты, батюшка, не мне, человеку маленькому, а архиерею в Тобольске пожалуйся. Воеводы привезли с собой новых священников. Петруха Головин понадеялся, что сии пастыри станут его послушными людьми. Отец Маврикий вроде бы оказался здесь лишним. Да не всё получилось так, как было угодно Головину. Начались крупные нелады у воеводы с духовенством.
– Из-за чего же нелады? – спросил Дежнёв.
– Иеромонах Симеон, личный духовник воевод, пастырь несгибаемого характера. Пытается поучать Петра, указывать на его богопротивные деяния. Иногда вступается за обиженных. Другие священники согласны с ним. А Головин из себя выходит – кто вы такие, попы долгогривые, чтобы меня, царского слугу, поучать? Захочу, в арестантской избе вас сгною, в железа закую.
– Неужели такое духовным лицам говорил?
– Стращал. Сам слышал. А отец Симеон ему спокойно так, ласково даже отвечает: верю, раб Божий Пётр, что можешь нас и в железа заковать, и в темницу бросить, и голодом уморить. Да душу мою не переделаешь, а я слуга Божий. Ох, чую, добром не кончатся эти нелады.
Последним пришёл Исай Козоногов. Выдерживал своё новообретённое купеческое достоинство.
За столом разговор неизменно возвращался к воеводам. Гости резко осуждали Головина, его властолюбие и самоуправство. Не щадили и Глебова – почему он, наделённый такими же воеводскими правами, проявлял мягкотелость, безволие и позволял своему напарнику безнаказанно бесчинствовать. Признавали, что в остроге и в крае зреет против власти воевод широкое недовольство. Как бы не дошло дело до большой беды. Купец попытался повернуть разговор в другое русло:
– А знаете, други мои, из какой муки выпечены эти пирожки и лепёшки?
– Из ржаной, вестимо, – ответил Трофим.
– А откуда эта ржаная мучица?
– Не с Лены, конечно. Привозная, – убеждённо сказал Дежнёв.
– А вот и ошибаешься. Семейка. Ленская это мука, здешняя.
И Исай поведал, что поселился на верхней Лене, вблизи Кутского устья, достойный человек Ерофей Павлович Хабаров, крепкий рачительный хозяин. Он и промысловик удачливый. Сколотил промысловую артель и разбогател на заготовке соболиных шкурок. А ещё успешно занялся земледелием и скотоводством. Он первым на Лене распахал обширные угодья, более двадцати десятин, и засеял их рожью, стал выращивать горох и разные овощи. Добился неплохого, по местным условиям, урожая ржи. А ещё устроил Хабаров соляные варницы. Он наглядно показал, что если найдутся у него последователи, то всё русское население ленского края может быть обеспечено местным хлебом и солью. Да вот чем это всё обернулось...
– Не хотел я о воеводе Головине толковать, – сказал Исай. – У всех набил оскомину на зубах этот Петруха. Но не могу не сказать об этом, прости Господи...
Исай умолк, не подобрав нужного резкого словечка. Потом, собравшись с мыслями, продолжал:
– Ерофей Павлович человек отменной энергии и трудолюбия. Он из тех людей, которые приносят великую пользу делу освоения края, подают пример его населению: смотрите, люди, ленский край вовсе не бесплоден, он пригоден для земледелия. Пётр Головин из тех, кто губит это доброе начало. Вместо того, чтобы поддержать хозяйство Хабарова, поставить его в пример другим, перенести его опыт на Алдан, Амгу, Витим, Олёкму, воевода обошёлся с Ерофеем несправедливо, подло.
– Каким образом несправедливо? – спросил Дежнёв.
– А вот, слушай... Направляясь в Якутск, Головин наслышался в Устькутском селении о хозяйстве Хабарова, пожелал лично его осмотреть. Как будто бы восхищался его размахом. Взял у Ерофея Павловича якобы взаимообразно большую партию ржи на прокорм гарнизона. Конечно, расплачиваться с ним и не собирался. А потом решил забрать хозяйство Хабарова в казну, по сути дела, ограбил его.
– По какому праву? – воскликнул Дежнёв.
– Какое может быть право у воеводы, который считает, что он царь и бог на здешней земле? Придрался к Ерофею по каким-то мелочам и решил поступить с ним круто. Но Хабаров не из тех, кто легко сдаётся. Добивается у воевод права осваивать новые угодья на Киренге.
Судьба Ерофея Павловича Хабарова и его хозяйства взволновала всех участников застолья. Ерофею сочувствовали, Головина резко осуждали.
Засиделись до позднего часа. Первыми ушли псаломщик Агапий со своей супругой Степанидой. Псаломщику предстояла служба у ранней заутрени. Вслед за ними ушла Катеринка, оставившая без присмотра малых ребятишек. Вспомнил о каких-то своих неотложных торговых делах и Исай. Откланялся, поблагодарив хозяев, и удалился. Остался единственный гость Трофим Усольцев.
– Теперь могу рассказать тебе, Семейка, как унизил меня, разобидел Петруха.
– Рассказывай, Троша. Давай-ка выпьем с тобой в знак дружбы по кружечке винца. Налей нам, Аба. Себе не наливай. Тебе нельзя.
Выпили, закусили салом. Дежнёв услышал заурядную по тем временам историю.
Пётр Головин вёл разговор с якутским тойоном, возглавлявшим один из ближайших родов. Род этот исправно выплачивал ясак и относился к русским властям вполне дружелюбно. Его девушки выходили замуж за казаков. Но Головин, дабы продемонстрировать тойону свой властный, жёсткий характер, говорил в нарочито грубом, агрессивном тоне, пересыпая речь отменными ругательствами. Престарелый якут, не привыкший к такому обращению, терялся, отвечал слабым, неуверенным голосом. Трофим толмачил. В другой обстановке перевод подобной беседы не вызвал бы у него ни малейшего затруднения. Толмач он был опытный. С женой-якуткой свободно изъяснялся на её родном языке. Но слабый, неуверенный голос тойона Трофим плохо улавливал. Часто переспрашивал его, просил говорить более отчётливо. А это раздражало Головина. Он отпускал такие замысловатые и непристойные ругательства в адрес якута и Усольцева, каких в якутской лексике не существовало. Трофим пребывал в затруднении, не зная, как передать их смысл и по возможности не обидеть старика. В конце концов воевода вышел из себя и накричал на Трофима:
– Мямля ты, а не толмач! Тебе бы нужники чистить, а не толмачить. Пошёл вон! И Ваську Пояркова позови.
Пришёл к воеводе Поярков, ожидавший грозы. Головин напустился на него:
– Не мог хорошего толмача подготовить!
– Трошка Усольцев самый опытный из наших толмачей.
– Хреновый твой Трошка, а никакой не самый опытный. Будешь сам мне толмачить.
– Как тебе угодно, Пётр Петрович.
Из попытки Пояркова толмачить тоже ничего путного не получилось. Василий прервал своё толмачество и обратился к воеводе:
– Сего старца ты шибко перепугал, Пётр Петрович. Говорит он тихо, поминутно спотыкается, словно заика. Приходится просить его повторяться. И потом... в языке саха нет матерных выражений. Ты бы поделикатнее с ним... без этих самых словечек.
– Ты ещё будешь меня учить, Васька. Пошли вон оба.
– И что ты надумал, Трофим? – спросил Дежнёв, выслушав рассказ гостя.
– Подал воеводам челобитную с нижайшей просьбой перевести меня в Олёкминск или на Киренгу. Попала моя челобитная в руки дьяка Филатова. Говорит мне дьяк – докладывал, мол, о твоём деле воеводам. Головин ругался и кричал – а не хочет ли этот Трошка в райские кущи? Ишь ты, Олёкминск или Киренгу ему подавай. Пригрозил Петруха перевести меня в Жиганы на нижней Лене. Место то гиблое, суровое.
– А может, зря погорячился, Троша? Повременил бы с челобитной. Петруха Головин не вечен в воеводском кресле.
Усольцев ничего не ответил на это, а только тяжело вздохнул. Абакаяда убрала со стола и задремала в уголке. В это самое время в избу неожиданно ввалился Михайло Стадухин, какой-то весь размашистый, взъерошенный, неуёмный. В руках он держал гранёный штоф медовухи.
– Прослышал, что гостей собираешь. А земляка-пинежанина не забыл? Неладно поступаешь, Семейка, – с напускной обидой выговаривал Дежнёву Стадухин.
– Не взыщи, Михайло... – ответил ему Семён Иванович. – Ты теперь человек именитый, то ли казак, то ли купец. А я простой казачишка. Интересен ли я тебе?
– Стало быть, интересен, коли пожаловал в твой дом.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Усольцев. Стадухина он не любил за его высокомерие и своенравность. Он понял, что зашёл Михайло к Дежнёву неспроста, и понял, что здесь он, Трофим, лишний.
– Куда спешишь, Троша? – пытался удержать его Дежнёв.
– Дома Катеринка с детьми малыми.
– Коли так, иди. Поговорим ещё о твоём деле.
Трофим вышел, а Стадухин поставил штоф на стол и сел без приглашения.
– Не брезгуешь, земляк, выпить со мной? – спросил он с вызовом. – Еда-то какая-нибудь после застолья осталась или гости все поели?
– Кое-что осталось.
Выпили, закусили остатками куропаток. Принялись за кедровые орехи.
– Как медовуха? – спросил Стадухин.
– Зело сердитая. Выдюжим однако. Таких крепких мужиков, как мы с тобой, сие зелье не свалит.
– Я ведь по делу к тебе, Семён, – многозначительно сказал Михайло.
– Какое у тебя ко мне дело?
– Об этом речь впереди. А пока спросить хочу тебя, как приглянулись тебе воеводы, особенно Пётр?
– А никак. Сталкивался с ними мало.
– А я вот частенько сталкиваюсь.
– Ну и как?
– Могло быть хуже. Петруха Головин, конечно, дрянной человек. Своенравен, заносчив, возомнил себя царём и богом на Лене. Но и меня, Михайлу Стадухина, голыми руками не возьмёшь. Захочешь сжевать, зубки обломаешь, да и подавишься.
– Пошто так уверен?
– Уверен, Семейка, землячок ты мой. Видишь ли... Среди моих пинежских и архангельских родичей есть купцы. А у них связи с торговыми домами не только Вологды и Устюга, но и самой Москвы. В Сибирь я подался не с пустыми руками. А здесь не токмо казачью службу несу, но и торгую, деньжонками казачишек ссужаю. От этого не токмо сам, но и ещё кое-кто немалую выгоду имеет. Воеводам не резон с нашим братом, торговыми людьми, ссориться. Обидит такого, как я, Петруха, ведь могу найти влиятельных покровителей и защитников в самой Первопрестольной. Среди них найдутся люди, вхожие к самому государю. Через них можно и челобитную на высочайшее имя подать и на Петруху пожаловаться. Не возрадуется каналья. Так что держись за меня, служилый. Не прогадаешь.
– Не пойму, Михайло, я-то зачем тебе сдался?
– Вот это деловой вопрос. Сейчас поймёшь, зачем ты мне сдался. Податься хочу из Якутска на дальние реки, открывать новые земли, объясачивать новые племена, расширять пределы российских владений. Пусть в этом великом устремлении русских людей на восток будет заслуга и Михайлы Стадухина. Нужны мне толковые и отважные сподвижники. И ещё... хочу вырваться из Якутска на волю, из-под опеки Петрухи Головина. Слыхивал, как сей разбойник поступил с Ерофеем Хабаровым? Начисто ограбил мужика. И какого мужика! Таким бы гордиться надобно, а не обиды ему чинить. Есть ли уверенность, что такая же судьба не постигнет и Михайлу Стадухина?
– Ты же только что хвалился, что имеешь влиятельных покровителей, вблизи к государю нашему. Сам себе противоречишь.
– Покровителей имею. И в обиду меня не дадут. Но пока дело дойдёт до государя, сколько выстрадаешь от бесчинств местной власти. Хочу быть вольной птицей, служить подальше от воеводского ока. Воеводы, слава Богу, согласились, чтоб я возглавил казачий отряд. Начал подбирать людей. Хочешь служить под моим началом?
Дежнёв задумался и не сразу ответил:
– Не знаю, что и сказать тебе, Михайло. За лестное предложение низкий поклон тебе.
– Не поклон мне твой нужен, а согласие. Будешь служить у меня? Отвечай прямо.
– Куда намерен путь держать твой отряд? – ответил вопросом на вопрос Дежнёв, уклоняясь от прямого ответа.
– Наша цель Индигирка, то бишь Собачья река, – ответил Стадухин.
– На Индигирке уже действует отряд Посника Иванова.
– Ну и что? Сия река имеет большую протяжённость, а отряд Посника невелик. Места на Индигирке всем хватит. Полагаю, здесь земля сибирская не кончается. За Индигиркой течёт Колыма, а за ней другие неведомые реки. И обитают на них неведомые народы, которых мы должны объясачить. За Алданом простираются горные хребты. Известно, что с их восточных склонов текут реки. А вот куда они текут, в какое море впадают – это мы не знаем. Надо полагать, не в Студёное, в которое впадает Лена, Яна, Собачья, Ковыма, а в какое-то другое. Что за народы там обитают? Видишь, Семейка, сколько загадок мы должны решить, сколь многое разузнать.
– Широкие у тебя планы, Михайло.
– Планы-то широкие. На всю мою жизнь их хватит. Да чтоб осуществить их успешно, надёжные помощники нужны. Скажу тебе откровенно, не каждого встречного зазываю в свой отряд.
– Ия скажу откровенно, Михайло... Твои планы по душе мне. Многое ещё о нашей матушке-Сибири разузнать надобно – где она, у какого моря кончается.
– Видишь, Семейка, похоже, что мы с тобой понимаем друг дружку, хотя, бывало, и цапались. Люди говорят, характер у меня тяжёлый, упрямый. Так ведь и ты не так прост, как на первый взгляд кажешься. Себе на уме, мужик.
– Не мне судить тебя, Михайло. Что было промеж нас, то было. Не будем об этом. Дай мне подумать.
– А что тебе мешает дать скорый ответ?
– Видишь, жена на последнем месяце. Скоро родить должна.
– Добрый казак за жёнкин подол не должен держаться.
– Так-то оно так, Михайло. Но ведь это будет мой первенец.
– Увидишь своего первенца. Ранее начала осени мы не выступим. Коли согласен с моим предложением, снаряжайся.
Будет какая нужда, полагайся на мою помощь. И снаряжением и деньгами помогу. Потом сочтёмся.
– Подумаю, – сдержанно ответил Семён Иванович.
Когда Стадухин ушёл, Абакаяда спросила мужа тревожно:
– Что хочет от тебя этот человек?
Сквозь дремоту она плохо улавливала содержание разговора Дежнёва и Стадухина, но её встревожил настойчивый и властный тон гостя.
– Да так... ничего особенного, – уклонился от прямого ответа Дежнёв, – приглашает Михайло принять участие в одном интересном деле.
– Опять дальний поход? Что же молчишь, не отвечаешь? А о жене, о дите нашем подумал?
– Конечно, подумал. Поэтому и не дал Михайле скорого ответа. Никуда я, ни в какой поход не пойду ранее, чем родишь.
– Значит, всё-таки покинешь нас.
– Ещё ничего не решил. Дело-то наше такое, казачье, – оседлал коня и марш.
Дежнёва как искусного плотника снова использовали на плотницких работах. Он попал в число казаков, которые рубили избы для нового пополнения. В свободное от работы время, которого оставалось совсем немного, Семён Иванович занимался хозяйственными делами, рыбачил, солил и вялил рыбу про запас, сбивал масло, прикупил ещё десяток кур. Приобрёл сенокосные угодья – пару десятин сочных лугов. Выкосил их и сметал два стога сена на прокорм скоту. Съездил к якутским родственникам и приобрёл у них новую лошадь, взамен захромавшей после возвращения с Яны.
Несколько раз Дежнёв встречался со Стадухиным. Жил Михайло в собственной просторной избе, срубленной по его заказу плотниками. С ним вместе обитали два его брата, Тарас и Герасим, и с ними ещё сын Яков, юноша, уже повёрстанный в казаки, – целый стадухинский клан. Его обслуживал слуга из неимущих, покрученик.
– Плохой тот казак, который держится за жёнкину юбку, – любил повторять Стадухин в назидание тем казакам, которые уклонялись от дальних походов, ссылаясь на всякие семейные обстоятельства.
Снова и снова заходил разговор о исходе на Индигирку. Не давая Стадухину ясного ответа, Дежнёв склонялся принять предложение Михайлы. И дело было не только в настойчивых уговорах Стадухина, рисовавшего заманчивость такого похода. Обстановка в Якутске становилась всё более и более гнетущей, а воевода Головин всё более и более откровенно проявлял себя непредсказуемым деспотом с капризным и неуравновешенным характером. Деяния первого воеводы вызывали всеобщий ропот. В окружении Головина произошёл раскол на две партии. Учинилась «рознь» даже между главным воеводой и Матвеем Глебовым, на стороне которого оказались и дьяк Евфимий Филатов и духовенство. Дело дошло до драки в приказной избе. Но это была только прелюдия кровавой усобицы, охватившей Якутск несколько позже.
Головин прибыл в Якутск с широкомасштабными планами. Он задумал осуществить реформу системы ясачного обложения с целью значительного увеличения поборов с местного населения, а для этого провести перепись якутов. Представители якутской администрации, включая Пояркова, и преданные ей тойоны отговаривали воеводу от этого шага, опасаясь, что это вызовет сопротивление местного населения. С противниками переписи соглашался и второй воевода Глебов. Головин не пожелал прислушаться к благоразумным советам и приходил в раздражение, встречая противодействие своим планам. На всякие советы отвечал непотребной руганью.
Реакцией местного населения на политику воеводы стало широкое восстание, охватившее многие якутские волости. Восставшие отказались платит ясак. Они подходили к Якутску и были уже в нескольких вёрстах от его стен. Эта вызвало растерянность Головина, лихорадочно стремившегося переложить ответственность на других лиц, «злохитроством своим покрываючи вину свою». Он стал обвинять в случившемся Матвея Глебова, дьяка Филатова и других. Многие, вызывавшие недовольство или подозрение Головина, были схвачены и брошены в тюрьму. Дьяк Евфимий Филатов состоял под домашним арестом. Вскоре по наговору Головин засадил под арест на его дворе и второго воеводу, не отпускал его ни в съезжую избу для вершения дел, ни в церковь. С величайшей жестокостью воевода вёл следствие, выбивая показания свидетелей против своих противников и их действительных и мнимых сообщников. Головин обвинил противников в том, что «учили де они якутов... служилых людей побивать и под острог, собрався, притти и пушки в воду побобросать и острог зажечь», а также подстрекали ясачных людей не платить никакого ясака, избивать промышленных людей, уходить в отдалённые места. Нелепость этого обвинения была очевидна.
Трагические события в Якутске достигли своего апогея, когда Дежнёв был уже в составе стадухинского отряда, в далёком походе. Но обострение обстановки он видел воочию.
Перессорился Головин и с духовенством Якутска, даже с теми пастырями, которые прибыли с ним. Подозревая священников в сговоре со своими противниками, мнительный воевода проникся к ним недоверием. Был схвачен и брошен в оковах в тюрьму иеромонах Симеон, личный духовник воеводы. Другого священника, Стефана, тоже держали в тюрьме. Головин разрешил отпускать его на время лишь для отправления треб. Отслужив панихиду или окрестив младенца, злополучный отец Стефан снова препровождался под конвоем в камеру. Священника Порфирия сковали в колоде большой нашейной цепью и водили в застенок, где подымали на дыбу. Церковные службы в Якутске почти прекратились.
Вопиющий деспотизм Головина в полной мере испытал на себе и Ерофей Павлович Хабаров, проявивший себя впоследствии как замечательный первопроходец, продолжатель Василия Пояркова в организации исторических походов на Амур.
Многое пришлось претерпеть Ерофею Павловичу от жёсткого и взбалмошного Головина. Ценою неимоверных усилий Хабарову удалось освоить участок земли и засеять рожью на Киренге. Но это новое земледельческое хозяйство было конфисковано по повелению воеводы, и снова его трудолюбивый владелец был ограблен и разорён. Попытка Хабарова добиться справедливости, писать челобитные в Москву закончилась тем, что Головин, разоривший его, повелел заключить жалобщика в тюрьму. Всё же московские власти обратили внимание на бесчинства и злоупотребления, творимые воеводой Головиным, приняли меры к освобождению Хабарова. Ерофей Павлович смог вернуть своё хозяйство на Киренге. Впоследствии, уже при одном из новых воевод, он возглавил новую амурскую экспедицию. Великие заслуги этого славного первопроходца нашли отражение на географической карте. Именем Хабарова назван один из краевых центров российского Дальнего Востока.
Во время одной из бесед со Стадухиным Дежнёв как-то невзначай проговорился о своей обиде на Пояркова, приказавшего отобрать у него и его спутников соболиные шкурки – личную добычу.
– С Васькой будешь толковать без пользы, – высказался Стадухин. – Он тебе непременно скажет: Головин, мол, приказал так поступить. Очень возможно, что сам Петруха, великий корыстолюбец, отдал такое распоряжение, а Васька не посмел его ослушаться. Трусоват наш письменный голова.
– Что же мне делать, Михайло. Смириться?
– Зачем же смиряться? Пиши челобитную на имя государя.
– Боязно как-то. Перехватит Петруха мою челобитную – головы мне не сносить.
– Не перехватит. Только положись на меня. На днях отправляется в Красноярск приказчик одного здешнего купца. Надёжный человек. Он и свезёт твою грамотку. Да и не только твою. Много жалоб на Петруху к государю нашему поступит. Твоя жалоба – ещё маленький камешек в Петрухин огород.
– Пожалуй, напишу челобитную.
Грамотей Трофим Усольцев помог Семёну Ивановичу составить челобитную на имя царя Михаила Фёдоровича. Сам кровно обиженный воеводой, Трофим с превеликим удовольствием взялся за перо.
По традиции, подобные документы писались в нарочито уничижительном тоне: «...Мы, холопи твои, пришли в Ленский острог с твоею, государевою, ясачною казною, и у нас, холопей твоих, те наши соболишка письменный голова Василий Данилов Поярков запечатлел... Пожалей нас, холопей твоих, вели, государь, те наши соболишка распечатать и нам отдать долги свои платить, чтобы нам, холопам твоим, в своих домах, на правеже стояв, в конец не погибнуть и твоей бы царские службы впредь не отбыть...»
Такими слёзными словами заканчивалась челобитная. Опережая события и забегая несколько вперёд, поведаем о её судьбе. Челобитная дошла до Москвы, попала в сибирский приказ и возымела своё действие. На ней сохранилась помета – «По сей выписке Ивашке Иванову, Сеньке Дежнёву, Гришке Простокише соболи их, для государевы и их нужи и доргово подъёму, соболи выдать и написать в приговор». Наряду с именем Дежнёва в данной помете упоминались имена его спутников, с которыми он доставлял ясачную казну в Якутск.
Ответ на челобитную пришёл, когда Семён Иванович уже пребывал в дальних странствиях. А вернулся он в Якутск много лет спустя, когда уже сменилось несколько воевод. Новые власти отговаривались незнанием дела и за давностью лет постарались дело прикрыть. Никаких архивных документов, свидетельствующих о возвращении Дежнёву и его спутникам конфискованных шкурок или о возмещении убытка, не обнаружено.
Последние дни перед родами Абакаяда чувствовала недомогание. А однажды под вечер начались родовые схватки. Семён Иванович выбежал за повитухой, псаломщицей Степанидой. Она и приняла роды легко и сноровисто. Перед этим бесцеремонно выпроводила Дежнёва из избы:
– Погуляй-ка, мужик. Ты покуда здесь лишний.
Дежнёв покорно подчинился. Через некоторое время Степанида позвала его в дом.
– Поздравляю тебя с сынком, казак.
Послышался слабый писк младенца, постепенно перешедший в требовательный и горластый крик.
– Это он материнскую титьку требует, – пояснила повитуха. – Скипяти-ка пару чугунов воды. Надо роженицу да и младенчика обмыть.
Семён Иванович принялся проворно выполнять распоряжение. Потом склонился к жене, державшей в руках розового сына. Спросил её участливо:
– Больно тебе было?
– Не знаю, Сёмушка. Больше кричала от страха, чем от боли. Радость-то какая.
– Великая радость, Аба. Как назовём сынка?
– Это тебе решать. Ты отец. У саха всегда отец даёт сыновьям имена.
– Посоветуйтесь с батюшкой, – предложила повитуха.
Но посоветоваться со священником оказалось не так-то просто. Перессорившись с духовенством, Головин троих пастырей бросил в тюрьму. Из окружения воеводы Дежнёв узнал, что требы обычно свершает Стефан, также пребывающий в тюремной избе. Чтобы воспользоваться его услугами, необходимо получить разрешение воеводы Головина. Тогда конвойный казак приведёт опального пастыря в храм.
Подьячий, прежде чем допустить Дежнёва к воеводе, долго и нудно расспрашивал его – а зачем понадобился священник. Выслушав объяснение, пошёл докладывать Головину. Воевода принять Дежнёва не соизволил, а через подьячего дал милостивое согласие.
– Пускай поп окрестит младенца. Вызови конвойного казака, чтоб сопровождал отца Стефана до храма.
Подьячий передал слова воеводы Дежнёву, возразившему:
– А зачем казака гонять? Я и буду за конвойного.
Эти слова озадачили подьячего.
– Не знаю, одобрит ли Пётр Петрович...
– Не всё ли равно воеводе – какой казак поведёт попа из тюрьмы на крестины.
– Ужо, спрошу воеводу.
– А надо ли беспокоить Петра Петровича по такому пустяшному делу? Не ровен час, разгневается и попадёт тебе.
– Пожалуй, ты прав, казак.
Грозного воеводу подьячий побаивался. Поразмыслив, он передал отца Стефана Дежнёву, решившему проводить крестины не в церкви, а дома. Руководствовался он при этом чувством жалости к опальному священнику. Пусть отец Стефан отмоется в баньке после грязной арестантской избы, кишащей клопами, да наестся досыта. Так и поступил Дежнёв, натопив для злополучного священника баню, сытно накормил его и только после этого приступил к деловому разговору.
– Как советуешь, отче, назвать младенчика?
Отец Стефан, разгорячённый после парной бани, довольный щедрым угощением, называл разные имена. Упомянул и имя Филимон.
– Что сие имя означает, батюшка? – спросил Дежнёв.
– Всякое имя что-нибудь да означает, сын мой. Во всяком имени заключён свой смысл. Филимон по-гречески означает «любимый», «возлюбленный». Коли такое имя тебе приглянулось, в церковную запись внесём Филимона, а в домашнем обиходе можете звать сынка Любимом.
– А ведь неплохо, – откликнулся Семён Иванович. – Что думаешь, Аба?
– Хорошее имя, – согласилась жена.
Так и решили остановить выбор на имени Филимон – Любим. Пригласили псаломщицу Степаниду в качестве крёстной матери. Окрестили младенца Филимоном, а для родителей он стал Любим, Любимушка.
Прощаясь с отцом Стефаном, Семён Иванович попытался выразить ему своё сочувствие.
– Не надо утешать, сын мой, – остановил его священник. – Бог послал нам тяжкое испытание, решил проверить стойкость нашего духа. Служба на Лене сурова. Она требует от нас мужества, отдачи всех сил.
– Но ведь с вами, духовными лицами, Пётр поступает бесчестно, бесчеловечно.
– Бог ему судья. Воевода плохо кончит, помяни моё слово. Тобольский архиерей оповещён обо всех бесчинствах Петра. Сие непременно узнают и святейший патриарх, и государь наш. Не переживай за нас, сын мой. Сам-то держись, не спотыкнись. Приметишь где Петруху, уразумей – сие дьявол в человеческом облике. И шепчи слова молитвы – «да избави нас от лукавого».
Вечерами после работы в бригаде плотников Дежнёв мастерил для сына люльку-качалку, потом изготовил санки для зимы – подрастёт малый, воспользуется санками. Встретив Стадухина, Семён Иванович сказал ему:
– Я подумал, Михайло. Считай меня казаком своего отряда.
В середине августа с Дежнёвым пожелал встретиться Василий Поярков.
– Слышал, казак, формирую большой отряд? – спросил его Поярков.
– Краем уха слыхивал.
– Собираемся открывать и осваивать новые земли на юге. По слухам, там протекает великая река, на которой обитают разные неведомые нам народы.
– Благое дело задумал, Василий.
– Не хотел бы стать участником похода? Казак ты опытный, сноровистый, на хорошем счету.
– За добрые слова спасибо, Василий. Да только опоздал ты с предложением. Я уже дал своё согласие Михайле Стадухину. Теперь я казак его отряда.
– Жаль, Семейка. Не оттого ли поспешил с решением, что дуешься на меня?
– Пошто я должен дуться на тебя, Василий?
– Да за шкурки эти соболиные, что привёз с Яны. Я ведь по распоряжению Петрухи Головина так поступал, не ради своей выгоды.
– Бог вам обоим судья.
Вторичный отъезд мужа Абакаяда пережила спокойно. Отчасти примирилась с долей казачьей жены, отчасти её утешало присутствие маленького сына – она теперь не будет одинока. Когда конный отряд вышел на берег Лены и тронулся в путь, Абакаяда с младенцем на руках старалась держать себя в руках, но, придя домой, уже не сдерживалась и долго билась в истерике. Тревожное предчувствие овладело ею. Долгой будет разлука с мужем, а может быть, и не суждено уже никогда им свидеться.








