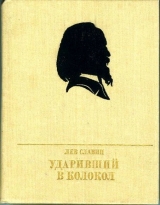
Текст книги "Ударивший в колокол"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Ник! Ты же сам отвечаешь на свои вопросы.
– Я – да. Но это должен был сделать ты.
– По-моему, сделал.
– Не нахожу. Ты, например, зачисляешь в мещанство фотографию, эту, как ты ее называешь, «шарманку живописи». Это несправедливо, в лучших своих образцах фотография – хотя это только еще первые ее шаги – достигает силы искусства. Туда же на свалку ты сбрасываешь Гогарта, называя его «Рембрандтом и Ван-Дейком мещанства». Согласен?
– Нет, конечно. Я все-таки остерегусь выдавать авансы фотографии. Пусть она поработает за свой счет. Если дорастет до истинного художества, буду только рад. Что касается Гогарта, ты, Ник, просто не понял этого места. Может быть, вкралась неясность? Проверю.
– Проверь. Это необходимо. Неровность, моменты спада – это привилегия наша, маленьких литераторов. Ты не имеешь права снижать свой уровень.
– А разве снижаю? Огарев порылся в рукописи.
– Вот «Письмо пятое», – сказал он. – Ты начинаешь его обширнейшей цитатой из «Былого и дум», из той, правда, части, которая не опубликована, но я читал ее в рукописи. И этим ты, сам того не желая, наглядно демонстрируешь преимущество «Былого и дум» перед «Концами и началами». Свобода эпистолярного жанра увлекла тебя в… ну, в некоторую распространенность.
– Скажи уж прямо: в болтливость.
– Я не о том. Александр: в сомнительную концепцию, Ты, не заметив промаха в самой посылке, возводишь огромное здание на шатком фундаменте. Не боишься ли ты, что первый же порыв критического ветра его повалит?
– Я знаю, Ник, твою теорию о логических ошибках, которую ты развиваешь в «Кавказских водах».
– Неужели помнишь? А я запамятовал.
– Изволь, напомню. Примерно так: ничего не стоит построить любую философскую систему на ложном основании, надо только не сообразоваться с действительностью, а вести логическую нить, которой самая форма неизбежно построится в систему.
– Слушай, Александр, а ведь это здорово!
Они оба захохотали.
– Остроумнейшая теория, Ник. Только здесь – я разумею в «Концах и началах» – неприменима. И по очень простой причине: нет ложной посылки.
Огарев вздохнул. В нем не было задора спорщика. И убеждение, что Герцен не прав, доставляло ему страдание. Он сказал без всякого оживления:
– Ты утверждаешь… – Он порылся в рукописи и продолжал, как-то неохотно подбирая слова: —…вот, в «Письме шестом»… Я читаю: «Для меня…»
Огарев поднял голову и пояснил:
– То есть для тебя, Александр.
– Бог мой, как ты тянешь! – сказал Герцен нетерпеливо.
– «…Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ… и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным…»
Огарев опустил рукопись и посмотрел на Герцена взглядом одновременно жалобным и сожалеющим.
– Александр, ты упорно не замечаешь огромную социальную формацию: работников. Ты до сих пор ушиблен крахом революции сорок восьмого года. И ты не видишь, что именно пролетариату предстоит сказать решающее слово.
Герцен откинулся на высокую спинку «патриаршего трона», как прозвали кресло, на котором он сидел во главе стола, и уставился на Огарева с деланно-театральным удивлением.
– Я хотел бы знать, – воскликнул он, – кто передо мной: Николай Огарев или Мишель Бакунин?
– Что ж, – спокойно ответил Огарев, – в Бакунине, при всей фантастичности некоторых его идей, есть чутье современности, быть может более острое, чем у всех нас.
Вот теперь Герцен удивился по-настоящему: в Огареве появилось что-то новое – он линяет в левизну.
Но он промолчал: это не для разговоров за семейным обедом, это слишком серьезно.
Неосторожность
Издателю «Дейли Ньюс».
Сэр, один из главных агентов русской тайной полиции, действительный статский советник Матвей Хотинский, снова в Лондоне. Мы считаем своим долгом оповестить о его приезде всех поляков и наших русских друзей в Англии.
Александр Герцен, издатель «Колокола».
Народу собралось в воскресенье явно меньше, чем неделю назад у Кюна. Зато – гость отборный. Все хорошо известные. Или – с верной рекомендацией. А это сегодня особенно важно потому, что готовились письма в Россию – грех не воспользоваться такой надежной оказией, как Ветошников.
Герцен спешно скинул с себя домашнюю вязаную куртку, натянул сюртук и понесся к дверям встречать званых. Он услышал голос жены:
– Знаете, я сама себе представляюсь как бы смотрительницей музея, которая показывает путешественникам сокровище и объясняет его значение.
Взрыв смеха, последовавший в ответ на это, мог принадлежать только Володе Стасову. Тут вмешался второй голос – раскатистый бас, незнакомый:
– Одна русская дама – да вы, может быть, знаете ее, – Людмила Петровна Шелгунова, говорила, что их сборы, ее и мужа, к вам в дом походили на сбор мусульман к могиле пророка.
«Мрачноватая ирония», – подумалось Герцену. Со Стасовым он обнялся, как всегда при встречах, и шепнул ему на ухо:
– Есть разговор.
К другому – тот нестарый, высокий, статный, лицо живое, держится свободно – с легким поклоном:
– С кем имею честь?
Незнакомый улыбнулся. Что-то озорное мелькнуло в его приветливой улыбке.
– Да вот, – сказал он, кивая на Стасова, – Владимир Васильевич увлек меня к вам. Я, конечно, с радостью и с робостью. Николаем назвали меня отец с матерью. А если вам надобна и фамилия, Успенский.
Герцен вгляделся в него:
– Николай Успенский? Уж не автор ли очерков «Из простонародного быта»?
– Имею неосторожность быть им.
– Ваши рассказы – простите, как вас по батюшке? – украшают «Современник», Николай Васильевич.
– Ну и острое же у вас зрение, Александр Иванович, если вы с вашей орлиной высоты соизволили заметить столь микроскопическую мошку.
– Не придавайте значения словам Николая, – сказал Стасов невольно удивленному Герцену, – уж такой у него стиль: смирение паче гордости.
Герцен ласково улыбнулся. Успенский ему понравился – взгляд прямой, немигающий, ну, чисто соколиный, упрямо сжатые губы, выражение лица смелое, даже дерзкое. Герцен вспомнил отзыв о нем Тургенева: «Человеконенавидец». Но, впрочем, клички, выдаваемые Иваном Сергеевичем, слишком часто носят сугубо личный характер.
Герцен, напротив, – представьте! – не понравился Успенскому. И Александр Иванович это почувствовал: «Вероятно, – подумал он, – Некрасов настроил его против меня».
Большая гостиная наполнялась быстро. Вокруг длинного стола – ни одного стула. Хочешь есть, пить – только стоя. А потянуло присесть – ступай к любой из стен, вдоль них стулья.
Главное украшение стола – грандиозный торт в виде колокола. Герцен не удержался от шутки:
– Ба! Старый знакомый: ведь этот торт был на трехлетии «Колокола». Вообразите, он совсем не изменился за эти два года.
Взяв Стасова под руку, Герцен отвел его в сторону. Гул разговоров и звон посуды за столом позволили беседовать, не снижая голоса.
– Будете возвращаться в Россию, – сказал Герцен, – не берите с собой ничего нелегального. На границу в таможенные пункты разослан список лиц – и вы там первый! – коих должно обыскивать и в случае надобности арестовывать. Список мне сообщен верными людьми, моими польскими корреспондентами. Что из недозволенного хотите перевезти, оставьте у меня: на днях будет надежная оказия.
– Александр Иванович! – Стасов смотрел на него с обожанием. – Я так хотел бы иметь какую-нибудь вашу рукопись, чтобы написанное вашей рукой осталось навеки для России.
– Ну, это значит прямым ходом за решетку. Дать-то я вам дам хотя бы мои «Концы к начала», только не сами повезете, я перешлю все с той же оказией. Ну, а теперь пойдем в люди, не годится нам шептаться в углу, как заговорщикам.
По дороге Герцен знакомил Стасова с теми, кого тот не знал, в первую голову со своими детьми, прибывшими специально на это торжество – Тата, красивая девушка лет восемнадцати, надежда отца и о которой он говорил, что «у нее наши симпатии, она de notre genre»[59]59
…de notre genre – нашего духа (фр.).
[Закрыть], приехала и Бельгии. Он обожал ее, но острый язык его не щадил иногда и любимую дочь. «Моя дочь до того увлеклась живописью, что начала петь», – сказал он, когда она переменила одно увлечение на другое.
Саша, он же Александр Герцен-junior, примчавшийся из Швеции, красивый, как все Герцены, двадцатидвухлетний студент, изучавший естественные науки, до того молчаливый и корректный, что Стасову не понять было, что же он такое.
Одно для него было ясно, и он не скрывал этого от Герцена.
– Из ваших детей самый молодой – это вы, – сказал он.
Герцен рассмеялся.
– Моложе даже ее? – спросил он, указывая на маленькую четырехлетнюю Лизу на руках у матери.
– Ну, она ведь не ваша, – смеясь же, ответил Стасов. Герцен закусил губу: проговорился!
До сих пор скрывали его неофициальный брак с Тучновой. И зa отца их детей выдавали Огарева. А Огарев уже был женат на Мери Сетерленд. Но тоже неофициально. Какое путаное положение!
Немудрено, что Герцен то и дело проговаривался. Особенно же – Наталья Алексеевна. Это естественно при ее порывистости и несдержанности. «Какое причудливое и странно-застенчивое существо», – сказал о ней кто-то из близких к дому Герценов. Вот и сейчас Наталья Алексеевна, заметив, что разговор идет о них, подошла к Стасову.
– Как вам нравится наша Лизочка? – сказала она, прижимая к себе девочку. – Правда, она вылитый Герцен?
– Натали… – пытался остановить ее Герцен.
Но она не слушала и продолжала в каком-то самозабвении:
– Она как осколок блестящей ракеты!
Вдруг поняв, что она сделала неловкость, попробовала перевести разговор и затараторила в тоне светской болтовни:
– Не правда ли, сейчас здесь в Лондоне страшная жара? Но мы здесь не остаемся. Мы все, то есть я с детьми, уезжаем на остров Уайт в прохладу, к морю. А потом к нам присоединится Герцен.
Она была с Герценом на «ты», но называла его не по имени, а «Герцен».
Кельсиев напомнил Герцену о его намерении сказать речь.
– Ну, речь не речь, но несколько слов скажу.
– Воздвигнитесь на возвышение, Александр Иванович, – сказал Кельсиев, придвигая стул, – зане ваш глагол не внимут окрест.
Он подхватил Герцена под локоток, еще кто-то – под другой.
Герцен оглянулся; это был Григорий Григорьевич Перетц.
– Не трудитесь, – сказал Герцен досадливо.
Что-то в внезапной услужливости Перетца ему не поправилось.
– Помилуйте, это нам честь, – сказал Перетц. Узкая щель его рта восторженно раздвинулась, показав дурные зубы.
Мимолетно мгновение, пока Герцен утверждался на этом подобии трибуны, но мысль его, как всегда молниеносная, успела в него уместиться: есть тайные агенты из страха, из-за денег, из злобной зависти, из карьеризма, ради ощущения своей невидимой власти. Но он тут же отторгнул от себя подозрение, поскольку стало известным – правда, от самого Перетца, – что недавно, возвращаясь в Россию, он был задержан и обыскан на таможне. Герцен начал свою речь с нападения. Ему так было легче, атака – его стихия:
– Господа! Доктринеры упрекают «Колокол» в том, что он нравственно ломает старые учреждения и не предлагает никаких новых порядков. Упрек этот несправедлив. Перед вами «Колокол» за пять лет. В нем нет догматической схоластики, но вы найдете там наши мнения о том, что нужно народу. Кстати, именно так озаглавлены статьи Николая Платоновича Огарева в одном из листов «Колокола». Нет, господа! Мы не представляем собой громовержцев, возвещающих молнией и треском волю божью. Манна не падает с небес, она вырастает из почвы, – вызывайте ее, помогите ей развиться, отстраните препятствия – вот задача «Колокола», которую он посильно решал за пять лет…
Герцен воспламенился. Глаза его под высоким великолепным лбом и низко сдвинутыми бровями пылали. Иные слова он подкреплял энергичными взмахами рук. Широкий торс, слегка наклоненный вперед, как бы выражал порыв к действию. Он не казался в эту минуту ни тучным, ни сутулым. Годы слетели с него, как пыль. Звучный голос его лился под сводами зала, и то, что он говорил, казалось непререкаемым.
– Господа! «Колокол» остается вне России только потому, что там свободное слово невозможно, а мы веруем в необходимость высказывать его. Мысль наша, наш колокольный…
Это слово он выделил подчеркнутой интонацией.
– …колокольный звон ни на волос не отошел от тех оснований, на которых мы жили, во имя которых говорилось каждое слово наше!..
Он откашлялся. От пафоса перешел к рассудительному тону:
– Освобождение народа – дело самого народа. Но мы – часть его. Господа!..
Оказалось, что эта рассудительность – только подготовка к завершающему прыжку:
– …Русь подымается от тяжелого сна и идет навстречу своей судьбе!..
Он протянул руку, шевеля пальцами. Значение этого жеста первый понял, как это ни странно, нерасторопный тугодум Аяин. Он быстро вдвинул в развернутую ладонь Герцена бокал с вином.
– Господа, я пью за грядущее величие свободной России! – воскликнул Герцен.
Со всех сторон к нему спешили с бокалами.
До слуха его вдруг сквозь смутный говор и бряцание посуды донеслось чье-то замечание, по-видимому, человека, который не стеснялся, что его могут услышать:
– Похоже на поминки…
Герцен живо повернулся и увидел Николая Успенского. Он смотрел на Герцена как будто с насмешливым вызовом.
На него сбоку в волнении, чуть ли не приплясывая, наседал Аяин, видимо шокированный его словами:
– Как вы можете так говорить… Прекрасное торжество… Похоже на день рождения.
– Увы! – вздохнул Успенский и сказал тоном слишком театральным, чтобы его слова звучали искренне: Каждый знает свой день рождения, но никто не знает дня своей смерти.
– А я… – начал Аяин.
Окружающие с любопытством посмотрели на него. Герцен не сдержал смеха.
– Слушайте, Аяин, – сказал он, – из-за преувеличенного внимания к собственной персоне вы только что чуть не сморозили величайшую глупость, притом довольно зловещую.
– За что вы его так? – пробасил Успенский, когда Аяин отошел, не столько задетый, сколько недоумевающий. – Ведь он человек, в сущности, безобидный.
– Он меня обижает своей пошлостью, – ответил Герцен резко.
Он давно чувствовал, что Успенский непрерывно следит за ним взглядом, точно изучает его. Это забавляло Герцена. Полный дружелюбия, он спросил Успенского:
– Тургенев говорил мне, что вы тоже из семинаристов. Верно? Вот и отец Добролюбова, я слышал, священник, даже иерей большого собора.
– Отец мой – сельский поп, – коротко отозвался Успенский.
– Подумайте, – продолжал Герцен, – сколько духовные школы дали нам прекрасных борцов с самодержавием и с верой. Я думаю, с безбожия все и началось у них. Не так ли?
– Ну, я хоть и попович, а вырос среди дворни.
– Ах вот почему, – воскликнул Герцен, – в вас есть что-то и мужицкое и поповское!
Лицо Успенского неприятно исказилось.
«Уж не обиделся ли он? Малый, видимо, с воспаленным самолюбцем», – подумал Герцен и поспешил сказать приветливо:
– Вы, Николай Васильевич, к нам прямо из Парижа? Ну как он вам? Верно ли, что правительство Гизо предпринимает новый поход против свободы печати?
– Знаете, Александр Иванович… – сказал Успенский, сделал маленькую паузу и даже как бы облизнулся, заранее наслаждаясь своим ответом, – в Париже я больше интересовался гризетками. Невероятно хороши там девочки!
Это была, конечно, намеренная грубость, неуважение явно подчеркнутое, к серьезному тону собеседника.
Герцен решил не обращать внимания на мальчишескую выходку Успенского. Черт возьми, он вынудит, в конце концов, его перейти от бравады к настоящему разговору!
– Я читал, – сказал он, – ваши рассказы в «Современнике». Это, пожалуй, самое мрачное в нашей литературе изображение крестьянского быта. Но этим рассказы значительны и…
Успенский перебил его:
– Назовите их, – сказал он задорно.
Герцен затаил улыбку в уголках рта. «Э, да он проверяет меня».
– С удовольствием, – сказал он вежливо. – «Сельская аптека», «Хорошее житье». Мне нравится в них полное отсутствие сентиментальности, всех этих беллетристических слюней и филантропических слез над горькой участью русского мужика. Самой своей мрачностью эти картины обличительны.
– Вот в этом и разница между нами, – сказал Успенский уже серьезно и даже с назидательностью в тоне. – Вы, Александр Иванович, обличаете господ, чтобы их извести, а я обличаю рабов, чтобы их поднять.
– Вы мельчите наши цели, – сказал Герцен сухо (он начинал раздражаться), – надо засыпать пропасть между образованным меньшинством и народом. Надо школы открывать в деревнях.
– Зря вы, Александр Иванович, – сказал Успенский едва ли не с презрением и не очень скрывая его, – предлагаете просвещать мужиков. Они с голодухи жрут лебеду да мякину. Сперва надо накормить человека, а уже потом ему и книжку подкладывать.
Подошел Огарев. Он поглядывал на Герцена, удивляясь его молчанию. Герцен нервно крутил кончик бороды, иногда покусывал его.
– Я, Николай Васильевич, намерен с вами говорить, как с совершеннолетним, – наконец сказал он, – и думаю, мне нет надобности прибегать, чтобы вы меня поняли, к детскому лепету или лицемерить, ибо лучше молчать, если нельзя иначе.
Успенский даже пошатнулся. Губы его беззвучно зашевелились. Было похоже, что у него захолонуло дыхание. Высокий, широкоплечий, со скрещенными руками – из засучившихся рукавов вылазили могучие запястья, – с грозно сдвинутыми бровями и дерзким изломом рта, он был так живописен, что Герцен невольно залюбовался им. «Васька Буслаев с университетским образованием», – подумал он.
– Детский лепет? – проговорил Успенский (в басе его послышались грозовые рокоты). – Довольно вы уже налепетали в вашем «Колоколе» про крестьянскую общину. А община – это, к вашему сведению, деспотизм. Я знаю случай, и он не единичный, когда община отняла у мужика его единственную соху. За что? За то, что он ослушался ее. В чем? А в том, что этот день община назначила для поголовного пьянства, а он не подчинился и вышел в поле пахать…
Он оборвал свою речь внезапно.
– Да… – проговорил Герцен медленно. – Видимо, Тургенев все-таки прав – вы настоящий нигилист. Вы отрицаете в народе все: разум, честность, совесть.
– Я отношусь к народу, как к равному себе, без барской чувствительности.
Огарев заметил:
– Туманный ответ.
– Нет, дельный, – сказал Герцен задумчиво.
– Вы с вашим «Колоколом», – продолжал Успенский, – вы не идете дальше отмены крепостного права, телесных наказаний и требований свободы слова.
– Мало, по-вашему?
– Накормить мужика надо!
Герцен хотел сказать: «Именно об этом я и писал!» Но не сказал, не захотел оправдываться перед этим питерским буяном из вольницы Чернышевского. К тому же он устал. И потом какая-то правда, пусть безобразно выраженная, в словах Успенского все же есть. Но надо же что-то сказать, чтобы закруглить разговор:
– До тех пор, – сказал Герцен, – пока народ безмолвствует, по слову Пушкина…
– Ваш Пушкин – великосветский шалопай и пустышка, – буркнул Успенский.
Тут Герцена взорвало. Ему захотелось ударить Успенского. Или выгнать. Он сдержал себя. Все равно, почему Успенский болтал о Пушкине – по убеждению или из желания публично покощунствовать.
– Пустышка, по-вашему? – повторил Герцен сквозь сжатые зубы. – Что ж, каждый выбирает Пушкина себе по плечу.
Успенский заметил, что попал в чувствительную точку. Он решил растравить ее.
– Неужели вы не видите, Александр Иванович, – сказал он невинным тоном, смягчая бас, почти учтиво, – что Пушкин поверхностен и безнадежно устарел?
– Я вижу, – отчеканил Герцен, – что вами владеет мечта обывателя: стянуть гения в ту лужу, в которой он сам барахтается.
Успенский досадливо щелкнул пальцами, как бы пытаясь извлечь из воздуха недававшуюся ему реплику. Но воздух ему ничего не выдал.
Он отошел к столу и налил себе водки, выбрал бокал пообъемистее.
– Il a un air de grand distinction[60]60
Он очень изящен (фр.).
[Закрыть],– сказала Наталья Алексеевна, подойдя к Герцену.
Когда она хотела сказать о ком-нибудь, что он изящен, она почему-то переходила на французский.
– Чисто женское суждение. А я в каждом ищу человека, – отозвался Герцен сурово.
– Герцен, это невежливо по отношению ко мне!
– Прости… Мне он чем-то напоминает Энгельсона. та же возбужденность, в которой есть что-то истерическое и несомненно наигранное, почти лицедейское, как и у того.
– Ты прав, – сказал Огарев. – И это истерическое роднит его и с нашим Кельсиевым.
– Пожалуй… С той только разницей, кстати очень существенной: Успенский несомненно даровит. А бедный наш Кельсиев, человек в чем-то способный, безнадежно бездарен в литературе и принимает за талант собственную нервозность.
– Быть может, это вообще в человеческой природе.
– Конечно. Но в наших оно с русским коэффициентом, – живо, не задумываясь, ответил Герцен. – Все лучшее и худшее, что есть в русском человеке, есть в Успенском: стихийность, безалаберность, одаренность. В конце концов в каждом из нас есть что-то от Николая Успенского.
– Как ты понимаешь «стихийность»?
– Безудержность. И в святости, и в растленности.
– Неужели нет разумной середины?
– Почему же? Сколько угодно. Ведь и в самой умеренности можно быть неудержимым.
– В этом человеке, – сказал Огарев, глядя на Успенского, наливавшего себе второй бокал, – сидит демон. Его страсть – неприятие. Он «неприятель» всем и всему. Следственно, бездушен. Помяни мое слово – он кончит плохо.
Огарев словно прозревал будущее… Герцен глянул на часы.
– Ветошников уезжает в Гулль завтра с утра, – сказал он озабоченно. – Стало быть, сейчас самое время передать ему письма. Надобно оповестить всех наших.
Так как считалось, что здесь все свои, то разговоры о письмах – хоть и не громко, но и не шепотом – возникали то там, то здесь, то за столом, где закусывали стоя, то у стен, куда удалялись посидеть, захватив с собой чашечку кофе или бокал с вином. Герцен и Огарев поднялись на второй этаж в кабинет.
«Давно не удавалось побеседовать с вами, дорогой друг. В минуту жизни трудную – мы как-то разобщены…» – писал Огарев.
– Николаю Серно-Соловьевичу? – спросил Герцен, заглянув через его плечо.
Он решил не писать ему отдельного письма, а приписать к огаревскому. Пока что он опустился в кресло и закурил сигару.
«…Мне кажется, – продолжал писать Огарев, – что уяснить необходимость земского собора становится делом обязательным…»
Герцен по-прежнему глядел через его плечо.
«…Я думаю, что из всех последних событий вы убедились, что мое озлобление на литературную дрязгу не было слишком пусто…»
– Надо бы, – вмешался Герцен, осторожно отводя руку с сигарой, чтобы не стряхнуть с нее пепел, – что-нибудь о том, чтобы они там не замыкались со своей пропагандой в Питере.
Огарев кивнул головой и продолжал:
«…Если у вас нет корня в провинциях – ваша работа не пойдет в рост. Я даже рад, что Петербург не в силах ничего сделать… Уясняйте цель – провинциям… Рознь верхушек и народа слишком велика, чтобы понять друг друга, и сближение их всего меньше возможно на невской набережной и Марсовом поле; оно возможно только при реках черноморско-каспийских…»
Огарев устало откинулся на спинку кресла.
– Я только несколько строк, – сказал Герцен, придвигая к себе письмо, – у меня сегодня голова болит, не горазд писать. Только о самом главном.
Он быстро набросал несколько строк. Огарев следил за его рукой. Герцен остановился, кинул значительный взгляд на Огарева и решительно приписал:
«…Мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве… Как вы думаете?»
Посмотрел вопросительно на Огарева. Тот согласно кивнул, вложил письмо в конверт, надписал: «Николаю Александровичу».
Внизу в большом зале Бакунин примостился за посудным столиком и заканчивал уже третье письмо.
Кельсиев устроился на подоконнике. Он строчил письмо, которое по торжественности слога впору назвать посланием. Оно предназначалось также для Николая Серно-Соловьевича и содержало намеки на то, что основной столп «Колокола» по-прежнему, конечно, Герцен, но истинной душой «Колокола» постепенно становится… словом, не будем уточнять, сами понимаете, «понеже в руцех моих вся корреспонденция…»
Ветошников упрятал письма во внутренний карман кителя.
– Это лучшее хранилище, – сказал он, улыбаясь, – нас ведь не обыскивают. Да и досмотру не подвергают.
Он попросил Герцена:
– Очень хотел бы иметь на память ваш дагерротип.
– С удовольствием дам, – сказал Герцен, – да он больно велик, в карман не упрячете.
– А я его заверну в «Таймс» и на дно чемодана, под белье. Да нет, еще такого случая не было, чтобы таможенники или полиция нам надоедали.
Герцен подошел к Кельсиеву и обнял его за плечи. Кельсиев просиял: в последнее время Герцен не очень баловал его своей приветливостью.
– Вы нам оказали драгоценную услугу, – сказал Герцен ласково, – мы обязаны вам Ветошниковым, то есть периодической связью с Россией.
Николай Успенский уже в порядочном подпитии уходил не прощаясь.
– Что-нибудь передать хозяевам? – спросил его неизвестно откуда взявшийся Григорий Григорьевич Перетц.
Успенский глянул на него мутными глазами и сказал коснеющим языком, придерживаясь одной рукой за притолоку:
– Герцену пора отпеть отходную, а то и просто прочесть вечную память…
Ушел, оставив дверь на улицу распахнутой. В ночном рыжеватом тумане его очертания тотчас расплылись гигантской тенью.
А вслед за ним нырнул в туман и Григорий Григорьевич. Добравшись до почтамта, он стряхнул с плаща сырость и быстро набросал депешу.
Телеграфист с сонными глазами долго ее отстукивал. Работа трудная, приходилось латинскими литерами отбивать русские снова. А русские имена такие диковинные, например: «Ветошников», хоть сама телеграмма и была довольно лаконичной:
«Едет Ветошников с опасными документами корреспонденциями от лондонских эмигрантов».








