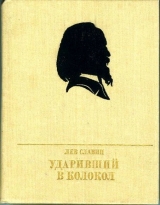
Текст книги "Ударивший в колокол"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Огарев
Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок.
Огарев
Только что прибыли Огаревы.
Освободившись из объятий Герцена, Николай Платонович запел слегка дребезжащим, но верным голосом:
– «Cari luoghi, io vi ritrovas»[49]49
Дорогие места, я опять вас увидел (ит.).
[Закрыть].
– Помилуй бог, – сказал Герцен, смеясь, – когда ж ты их видел!
– Ты – здесь. А мое место всегда рядом с тобой.
– Консуэла… – шептал Герцен, обнимая худенькую остроносую жену Огарева.
Она смотрела на него с робостью и обожанием. Да, так называла ее Натали, когда Наташа Тучкова была еще совсем девчонкой, – «Consuelo di su alma…»[50]50
Утешение моей души (ит.).
[Закрыть]. Сколько вставало при этом воспоминаний…
Разговор, поначалу беспорядочный, то радостный от ощущения своей близости, то грустный от накатившегося прошлого, такого, в сущности, недавнего, а кажется, прошла пропасть времени, именно пропасть, на другом краю которой они – молодые, беспечные… Сейчас впервые за много лет на Герцена повеяло чем-то бесконечно дружеским – до самоотвержения, чем-то глубоко своим. «Я опять мог, – занес он перед сном в свой дневник, – с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы…»
– Вы не поверите… – начала, волнуясь, Наташа.
Герцен тотчас перебил ее:
– Ты не поверишь, ты, ты!.. У нас в семье все говорят друг другу «ты», даже дети взрослым. Вы оба – наши.
Наталья покраснела, и это было так несвойственно ей, отличавшейся скорее мужскими ухватками, что муж посмотрел на нее с искренним удивлением.
Но нет, она все-таки не решилась сказать «ты» этому богу своей юности. Она обошлась без обращения:
– Когда сгорела наша Тальская бумажная фабрика…
Герцен кивнул головой, чуть улыбнувшись. Ему ли не знать, когда он отвалил Нику сорок пять тысяч на эту затею в период его индустриальных увлечений. Разумеется, этот долг он никогда не востребует, разве он и Ник не одно? И разве его самого не увлекла идея приохотить крестьян к вольнонаемному, то есть свободному, труду и таким путем превратить крепостных мужиков в промышленных пролетариев? Ради такого эксперимента не жаль… Э, да что говорить…
Он прислушался к словам Наташи:
– …конечно, несчастье, горе, разорение. А мы с Ником посмотрели друг на друга и – грешным делом – рассмеялись, потому что мысль у нас одна: разорены, но свободны! Теперь можем ехать к Герцену.
Огарев молвил в своей задумчивой манере:
– Конечно, жалко фабрики. Но… Чувствовал ли ты когда-нибудь, Александр, всю тяжесть нашего достояния? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься…
В нежности, с какой Герцен сейчас смотрел на Огарева, был оттенок покровительства, что-то отцовское. Он знал, с какой легкостью Огарев расстается с собственностью. Но знают ли об этом другие? Знают ли они, что он отпустил на волю свыше четырех тысяч крепостных крестьян села Белоомут, доставшегося ему по наследству, что он передал освобожденным крестьянам богатейшие земли за ничтожную, в сущности, плату, да и ее-то взял нехотя, не в силах противиться исступленным требованиям своей первой жены Марии Львовны Рославлевой.
Да и вообще, знает ли кто-нибудь, насколько Николай Огарев – человек не для себя, а для других? Хотя – мысль Герцена всегда двигалась в противоположениях – очевидно, что именно эта самоотдача Огарева является его душевной потребностью, и, стало быть, в этом он тоже человек для себя.
Конечно, Николай Платонович – фигура недовыраженная, почти весь в тени своего великого друга. Гигант Герцен прочно заслонил крупную личность Огарева. Однако в Огареве это не рождало никакого чувства ущербности. И не только потому, что он преклонялся перед мощью Герцена, но и потому, что от природы ему были чужды зависть, обидчивость, тщеславие, жажда власти, весь этот строй низменных мещанских страстей, иногда, впрочем, одолевающих даже и незаурядные натуры.
При этом можно думать, что Огарев при всей своей стихийной самобытности испытывал потребность, как мы сейчас понимаем, почти непреодолимую, – прилепиться душевно к чьей-то сильной воле.
Какое-то время безоговорочным властителем его дум был Станкевич. При распахнутости своего характера оп открыто признавался в этом во всеуслышание хотя бы, к примеру, Грановскому: «Я читаю не книгу, а нечто лучше книги: душу чистого человека, то есть переписку покойного Станкевича…»
Не отсюда ли, не от этой ли тяги к чужому костру, в пламени которого отогревалась его зябкая душа, два первых брака Николая Платоновича, ибо и Рославлева, я Тучкова были волевые натуры. Когда же впоследствии в Лондоне он сошелся с Мери Сетерленд, то и в этой на первый взгляд тихой и безропотной женщине зоркий взгляд Герцена быстро разгадал властный характер.
Отсюда же последнее жизненное увлечение Огарева заговорщицкими затеями Бакунина и Нечаева, вызывавшее столь мучительное негодование Герцена.
Огареву же переходы эти доставались легко. У него была память счастливая на невзгоды: он легко забывал. Но можно ли считать, что это свойство только памяти? Правда, Огарев жаловался на нее Герцену:
– Память меня пуще всего оскорбляет, Герцен. Я бы даже готов употребить медицинские или диетические средства для исправления ее.
Но после признания в стихах:
Люблю ли я людей, которых больше нет,
Чья жизнь истлела здесь в тиши досужной?
Но в памяти моей давно истлел их след,
Как след любви случайной и ненужной,—
следует сказать, что тут беда не столько в памяти, сколько в особых свойствах натуры, особенно поразительных на фоне всегда страстного и пылкого ответа Герцена на жизненные впечатления.
– Да что мы стоим! – спохватился Герцен.
И все же они продолжали стоять, точно в этом положении они могли лучше вглядеться друг в друга. Огарев чуть повыше Герцена, а фигурой схож, оба широкоплечие, коренастые. И бороды, и густые шапки волос как-то уподобляли их друг другу. У Огарева, правда, побольше седины в темно-русых волосах, хоть он и помоложе.

– Не спрашиваю тебя о здоровье, – сказал Герцен. – На всякий случай – ты уж примирись – ничего крепкого за завтраком… Только легкое бордо.
Он знал, что падучая, которой был подвержен Огарев, несовместима с крепкими напитками.
– Я борюсь с обмороками сном, – сказал Огарев задумчиво, и большие серые навыкате глаза его погрустнели, – поздно встаю, ты уж не обессудь.
– Это, положим, всегда за тобой водилось, – засмеялся Герцен.
За завтраком – легкая перепалка. Покуда – разведка боем. Плацдарм – философия. Поле сражения – Гегель.
– Охота тебе, – говорил Огарев в своей будто апатичной, однако неотвязно-настойчивой манере, – охота тебе, Герцен, так восхищаться органикой. Я имею в виду натурфилософию Гегеля. Перечти и ты увидишь, что весьма немногое удовлетворительно и что половина состоит из натянутых абстракций, неопределенных слов и игранная мыслью…
Герцен полуприкрыл глаза. Им овладела сладкая печаль. Здесь, в глубине Англии, на пятом десятке лет на него вдруг повеяло их молодыми московскими спорами в накуренной комнате Ника у Никитских ворот. Так и казалось, что сейчас ворвется размеренный басок парадоксального юноши Сазонова и пылкое громыхание задиры Кетчера.
Глубокое и давнее – с отроческих лет – душевное сродство Герцена и Огарева, по-видимому, не выдохлось от долгой разлуки. Огарев тотчас почувствовал, что он показался Герцену наивным, отсталым, провинциальным. Он отхлебнул бордо – что за кисленький квасок, однако! – и сказал, отирая усы:
– Помнишь ли ты, Герцен, что я еще там, в Москве, в нашей идейной оранжерее…
Герцен с удовольствием шевельнул губами, ему понравился этот образ.
…– отставил в угол идеалистические игрушки Шеллинга и Гегеля. Так же, как и агностицизм Канта…
– Ты даже замахивался и при этом страшно таращил глаза на самого Фейербаха, уличая его в узости и приземленности.
– А! Ты помнишь!
Теперь они посмеивались оба.
Наталья Алексеевна скучающе улыбалась.
– Последний номер «Полярной звезды» отменно хорош, – сказал Огарев, став серьезным. – Однако у меня есть проектец…
Он замолчал.
И вдруг прибавил:
– Если нельзя пробить стену, так расшибем головы.
Это сногсшибательное (может быть, правильнее сказать: стеносшибательное) заявление было проговорено таким же ординарным тоном, каким за столом бросают: «Передайте мне, пожалуйста, соль». Таков Огарев, буян и бунтарь в оболочке флегмы.
– Проектец, чую, славный, – сказал Герцен. – А нельзя ли подробнее? О чьих головах, собственно, идет речь?
Наталья рассмеялась. Огарев посмотрел на нее. Она не сводила с Герцена обожающих глаз.
– Мне надо еще обдумать кое-что, – уклончиво ответил Огарев.
После завтрака пошли гулять. На улице пути их разошлись. Герцен и Наталья ринулись в многолюдные места. Сквозь толпы гуляющих они пробрались на перрон железнодорожной станции Тинклер-Гаус. Втиснулись в вагон, переполненный по случаю воскресного дня. Они стояли, держась за руки, им было весело. Вышли на Ватерлоо-стейшн.
В Лондоне они ездили в набитых людьми омнибусах. Проталкивались к стойкам в маленьких кафе.
Огарев, напротив, вышел на окраину Ричмонда, места болотистые, пустоши, поросшие вереском. Дошел до городского сада, там забрался в отдаленную аллею и здесь ухитрялся отыскивать совершенно безлюдные места. Он избегал столпления. Многолюдье могло вызвать у него припадок падучей. Он шел один, опираясь на трость, и размышлял о разговоре, который у него будет с Герценом по поводу его «проектеца».
«Удастся ли склонить Герцена? Не сочтет ли он „проектец“ новой эфемерой мечтателя Огарева? Да какой, к черту, я мечтатель! Я могу признать, что я слаб характером, но не духом. За бесхарактерность принимают другое – то, что и сам я, пожалуй, соглашусь признать за основу моей натуры – беспечность. Ленив? Ну, это слишком. Леноват иногда».
Огарев улыбнулся, вспомнив свою пародию на стихи Баратынского, широко известные по романсу Глинки:
Не обвиняй меня без нужды
В разврате лености моей.
Еще далеко мне не чужды
Корреспонденции друзей.
Однако этот лентяй, живя в деревне, «вдался», по собственному выражению, «в науки и индустрию». Обложив себя книгами, изучал медицину, фармакологию, физику, химию. Приступил практически задолго до вольнолюбивых мечтаний Петрашевского к созданию в деревне коммунистической колонии. Смело? Но смелости ему было не занимать. Когда их обоих, Герцена и его, арестовали, двадцатидвухлетний Герцен по порывистости и прямоте своей натуры выражался на допросах, может быть, с излишней распространенностью – он, Огарев, все отрицал, во всем замыкался и получил от следственной комиссии характеристику: «Упорный и скрытный фанатик». А был ему тогда двадцать один год. О самой ссылке он отозвался: «…ссылка для меня сносная по положению и равнодушная по решимости терпеть».
Да и позже, в Соколове, где среди членов кружка Герцена шли горячие идейные споры, Огарев выделялся крайностью своих взглядов, которые он облекал в предельно острую форму.
Он ведь мечтал о полном преобразовании деревни. Он хотел создать социалистический оазис в крепостной России. Он подходил к этому не с маниловской умиленной мечтательностью, а практически, как ученый, как социолог, как педагог. Помимо всего, им руководил и чистый интерес к науке. Он любил самый процесс познания. Он никогда не мог противостоять своим увлечениям. Вся его жизнь – длинная цепь непреодоленных соблазнов.
К увлечению химией, Марией Рославлевой, Наташей Тучковой, сенсимонизмом, ботаникой, графиней Салиас де Турнемир, а заодно и ее сестрой Евдокией Сухово-Кобылиной, русской общиной, Фейербахом, фабрикой сукон, Мери Сетерленд прибавилось к закату жизни увлечение анархизмом Бакунина.
В пензенской глуши он затевал создание политехнической школы для крепостных с шестилетним курсом обучения и составил для нее подробный план с учетом последних слов педагогической науки. План был до того совершенен, что, ознакомившись с ним, Натали Герцен за рубежом восхитилась, сказала, что привезет в эту школу своих детей, и советовала привлечь для преподавания виднейших ученых, в том числе Грановского, который, конечно, не откажется по старинной дружбе. Натали не подозревала, что в это время «старинный друг» целомудренно негодовал против Огарева и упрекал его за «искание мелких дешевых наслаждений», «припадки раскаяния» и «успокоение себя в сознании собственного бессилия…».
А другой старинный друг – Герцен, – шутя (но в этой шутке была и доля серьезного), обвинял Огарева в том, что в немалых уже летах еще не достиг совершеннолетия.
– Я, наверно, и не достигну его… – отвечал, вздыхая, Огарев с видом маланхолического молчальника.
Таким и считали многие этого человека, по внешности такого грустного и неразговорчивого. Он и сам иногда выставлял себя таким просто из любви к иронической игре. Это делало Огарева в глазах некоторых современников, наименее проницательных, фигурой загадочной. К примеру, Анненков оказался не в состоянии дать образ Огарева, такой простои по внешности и такой сложный по душевной сути. «Романтический, тихий, мечтательный» – как это далеко от подлинного Огарева! Не будучи в состоянии постичь его, досадуя, что его невозможно свести элементарной формуле, Петушиная Голова пишет с некоторым раздражением, что характер Огарева заключается «в какой-то апатической, ленивой нервозности». А отсутствие внешних жизненных успехов приводит Тетку Полину (второе прозвище Анненкова) к выводу, что Огарев вообще был неудачником. Как это показательно для Анненкова, падкого на громкие имена и шумных знаменитостей! «Он оказывался, – пишет Анненков об Огареве сожалительно, но и с несвойственной ему категоричностью, – полным неудачником во всем, что ни предпринимал».
Утверждение это достойно рассмотрения.
Начнем с вопроса: не был ли сам Анненков неудачником? Трудно быть неудачником, если не совершаешь поступков. Анненков не действовал. Он только наблюдал и остался летописцем литературных нравов своего времени, не всегда объективным и нередко нуждающимся в поправках.
Что касается Огарева, то если можно с известной натяжкой согласиться с утверждением Анненкова, то следует признать, что Николай Платонович был, так сказать, счастливый неудачник.
Он в общем достигал всего, чего хотел. Влюбившись в Марию Львовну Рославлеву, он тотчас женился на ней. Она показалась ему талантливой, образованной, любознательной, большой поклонницей модных тогда романов Жорж Занд. Это все, конечно, очень приятное прибавление к ее красоте. Ах, как ему нужен был Герцен для совета! Много лет спустя Огарев говорил ему: «Ты бы мне сразу сказал, что все ее добродетели только приманка…»
Конечно, бессознательная, для мужчин. Как только мужчина оказывался в ее обворожительных объятиях, выступали другие черты ее характера: раздражительность, нетерпимость, легкомыслие, ужасающее и всестороннее.
Но в те решающие дни Герцен был далеко… К кому же пойти за советом? Разве к Тучкову, соседу по усадьбе, инсарскому предводителю дворянства?
– Не стану советовать, – замахал, руками Тучков. – Уж вы меня, Николай Платонович, от этого увольте. Какой я судья в таком деликатном деле? Судья должен быть беспристрастным. А мне Рославлевы не любы…
Эти две провинциальные аристократические фамилии, род Рославлевых и род Тучковых, оба из столбового русского дворянства, находились в идейном смысле на противоположных концах русского общества. Алексей Алексеевич Тучков – бывший декабрист, счастливо избегнувший наказания, но сохранивший на всю жизнь свои передовые взгляды. Тех же взглядов были обе дочери его – Натали (впоследствии жена Огарева) и Елена (впоследствии жена Николая Сатина, давнего друга Герцена еще со времен университетских].
Мария Рославлева унаследовала от своего отца Льва Рославлева, сутяги, доносчика и кутилы, профинтившего в оргиях свое немалое состояние, кой-какие его черты. Дядя Марии со стороны матери, Александр Алексеевич Панчулидзев, пензенский губернатор, был известен далеко за пределами своей губернии как самодур и ярый реакционер. Поладить с ним можно было, только всучив ему крупную взятку, – этакий Ноздрев на посту крупного административного сатрапа. Взяточничеством грешил и его отец, стало быть дед Марии Львовны, саратовский губернатор. Стойкая наследственность!
Вот из этой живописной семейки и взял себе жену нежный, мечтательный юноша, идеалист и поэт Огарев. Можно себе представить, что получилось из этого брака!
Со временем оказалось, что Мария Львовна унаследовала от своего отца еще и пристрастие к водке. Герцен называл ее «вспыльчивой, самолюбивой и необузданной», а Тургенев – «плешивой вакханкой».
Когда через несколько лет довольно сложной супружеской жизни, совсем не похожей на семейную пастораль в духе пастушеской идиллии, о которой грезил Огарев, Мария Львовна Рославлева упорхнула в Италию с художником Сократом Воробьевым, это развязало руки Огареву, и вскоре он женился (покуда гражданским браком) на юной Наталье Алексеевне Тучковой, в которую был влюблен.
Немалым признаком счастливого существования Огарева надо считать то, что его все любили. Неотразимо было его обаяние, которое Герцен называет «магнитным притяжением». Людей поистине влекло к Огареву. Что? Почему он был, как его называли, «directeur de conscience»[51]51
…directeur de conscience – директор совести (фр.).
[Закрыть], то есть фактическим совестным судьей в семьях Герценов и Тучковых?
Вероятно, потому, что речь этого великого молчальника пусть и не отличалась плавностью, скорее наоборот, за что его и упрекает приверженный к сладкогласию Анненков: «Он говорил мало, неловко, спутанно», – однако тут же, чтобы объяснить, почему же все-таки эта «неловкая, спутанная» речь имела такое влияние на современников, вынужден тут же прибавить: «…но за словом его светилась всегда или великодушная идея, или меткая догадка, илл неожиданная правда».
Герцен весьма считался с художественным вкусом Огарева. И действительно, его оценки, когда они были обращены не на себя, выказывали вкус безупречный. И притом строгий. О, в нужных случаях он умел быть резким, этот «тихий, романтический» Огарев! Не постеснялся же он высказать Тургеневу в решительных выражениях свое низкое мнение о его неудачном произведении «Фауст».
Такой несдержанный еще смолоду в своих увлечениях, здесь, в области искусства, Огарев отличался трезвым вкусом. Он предостерегал Герцена от увлечения жанром аллегорий, к чему тот склонялся в молодости. «Я написал, – не без некоторого самодовольства Герцен извещал Огарева, – небольшую статейку, вроде Жан Поля, аллегорию. Многим она нравится, и даже мне».
«Ты написал аллегорию вроде Жан Поля, – писал Огарев в своем четком и суровом ответе. – Не пиши аллегорий – это фальшивый аккорд в поэзии; что хочешь сказать, говори прямо и смело, а не обиняками».
К выспренней поэзии немецкого литератора Жана Поля Рихтера впоследствии и Герцен относился крайне отрицательно. Но Огарев увидел его пустоту гораздо раньше.
Между прочим, в своем решительном осуждении жанра аллегорий Огарев совпадал; с Белинским. «Поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, – писал Белинский, – чтобы повесть была истинна, то есть не впадала бы в аллегорию…»
Возможно, что слова Огарева, с мнением которого Герцен всегда считался, и удержали в дальнейшем его мощный реалистический талант от удаления в мир призраков, за исключением, конечно, тех случаев, когда он прибегал к аллегориям, чтобы прозрачным иносказанием окрутить вокруг пальца царскую цензуру.
Вечером сошлись в большом двухцветном зале на первом этаже. Почти все свои, из посторонних только Тимофей Всегдаев, на днях приехавший в Англию, да Станислав Тхоржевский. Ну, этот давно как бы стал членом семьи Герценов. Александр Иванович доверял ему всецело и в делах Вольной русской типографии, и даже в политических. Этот маленький бородатый поляк с лицом сказочного гнома предался Герцену душой и телом.
Наташа сидела в углу и вязала, она была в одном из своих – довольно редких – «домоседских» настроений.
Огарев поначалу бренчал на фортепьяно что-то не совсем внятное, импровизировал, что ли. Герцен, который любил определенность во всем, морщился и, не выдержав наконец, попросил его:
– Почитал бы ты нам лучше, Ник.
Огарев опустил на клавиши крышку. Кажется, не без досады. Повернулся на вертящемся табурете.
– Право, не знаю, – сказал он вяло, – нового у меня ничего нет.
Наташа тихо вздохнула. Она знала, что это неправда. Огарев писал каждый день. И помногу. Стих струился из-под его пера легко, иногда безудержно, в привычных берегах. Он почти не марал написанного. И почти всегда писал о прошлом. Он поэт воспоминаний. Память преподносила их растроганно, но, считала Наташа, от времени несколько усохшими и потому отвлеченными.
– Прочти из старого, – предложил Герцен. – Знаешь что? Мое любимое «Ноктурно». Я готов слушать его без конца.
Не вставая с табурета, скрестив руки на груди и глядя куда-то поверх голов, Огарев принялся читать:
Я ждал – знакомых мертвецов
Не встанут ли вдруг кости,
С портретных рам, из тьмы углов
Не явятся ли в гости?
И страшен был пустой мне дом,
Где шаг мой раздавался,
И робко я внимал кругом,
И робко озирался.
Тоска и страх сжимали грудь
Среди бессонной ночи,
И вовсе я не мог сомкнуть
Встревоженные очи.
Герцен подошел к Огареву и обнял его. Тхоржевский тотчас зааплодировал. Всегдаев несмело присоединился к нему.
Наташа подумала:
«Это действительно может пленить мелодичностью, которой так часто не хватает его поэзии».
Она поддела спицей очередную петлю и прибавила мысленно:
«И музыке».
Нет, она положительно не была поклонницей его талантов.
Фортепианные миниатюры, которые вслед за тем стал играть Огарев, тоже не правились ей, вальсы не танцевальны, мазурки вялы. Романсы – он положил на музыку и свои стихи, и чужие и сам подпевал себе – походили, по мнению Наташи, на рифмованную прозу.
И вдруг она вздрогнула. Полно! Огарев ли это? Даже дребезжащий голос его наполнился каким-то неземным звучанием. И не одной ей так показалось. Герцен, казалось, готов был сорваться со стула, Тхоржевский смотрел на Огарева зачарованными глазами. Даже смирный Всегдаев был явно возбужден.
Удивительная музыка! Она как-то возвышалась сама над собой. Она переходила в откровение. Она выхватывала в звуках своих самое драгоценное из смутного дрожания жизни.
Закинув голову, бегая пальцами по клавишам и не глядя на них, Огарев продолжал петь:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово…
Здесь все было совершенно – и самая плоть звука, и гармоничность целого, неожиданная, но и неизбежная, и трагизм души, стремящейся вырваться из своей немоты.
«Как ему это удалось?» – подумала Наташа, когда Огарев кончил и изнеможенно поник над фортепьяно.
– Поразительно! – воскликнул Герцен. – Тебе удалось, Ник, не только создать музыку, равноценную гениальным стихам Лермонтова, но и слить все в одно неразделимое целое. Это шедевр!
Хотя Огарев говорил о себе, что он больше человек сердца, чем ума, его «Кавказские воды» были, конечно, произведением изощренного интеллекта. И вообще, он был человек непредвиденных взлетов. После ряда ординарных стихотворений он вдруг разражался блестящим «Ноктурно». То же – ив музыке.
«Кавказские воды», как, впрочем, и вся «Исповедь», – отличная проза. Следы влияния «Былого и дум» несомненны. Вот, например, пассаж совершенно в герценовском стиле:
«Лахтин не был арестован; только раз был призван к допросу для объяснения этого письма, которое следственной комиссии показалось загадочным, вероятно, потому, что презус-покойный князь Сергей Михайлович Голицын по врожденному слабоумию ничего в нем не понимал; а главный член, поныне благоденствующий князь Александр Федорович Голицын, по честолюбию лакея и шпиона понимал не то, что было в письме, а то, чего ему хотелось, чтоб получить высочайшее потрепание по плечу».
И таких следов влияния немало. Да и сам Огарев писал Герцену:
«Пусть же моя исповедь будет для твоего „Былого и дум“ дополнением до двух прямых».
Конечно, несколько затрудненный, порой шероховатый слог Огарева далеко не достигает герценовской ослепительной ясности. А некоторая умиленность, разлитая в «Кавказских водах», особенно в описании природы и чувства дружбы, разительно отличается от мужественного и страстного пера Герцена.
Поначалу несколько неожиданными кажутся рассуждения Огарева о любви к страданию. Однако так ли они уж неожиданны? Не изливал ли он в этом известное удовлетворение от ощущения иных собственных житейских невзгод? Говоря о ссыльном декабристе Одоевском, он замечает:
«Может быть, он даже любил свое страдание; эхо совершенно в христианском духе… да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия…»
Вот эта черта – самоупоение страданием – чужда, даже противоположна открытой, деятельной, борцовской пушкинской натуре Герцена.
Что касается портретной живописи в «Кавказских водах», то как тут не вспомнить замечания Герцена: «Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях».
Характеристики Одоевского, доктора Майера (выведенного Лермонтовым в «Герое нашего времени» под фамилией Вернер) – поверхностны, плакатно однотонны. Разве можно сравнить их с… но не будем больше мерить Огарева герценовским аршином.
– Ник! – сказал Герцен.
Он иначе не обращался к Огареву – так у них повелось с отроческих лет. Впрочем, Огарев по некоторой торжественности своей натуры называл его не иначе, как полным именем: Александр.
– Ник! Ну что же твой проектец насчет расшибания голов о стену?
Огарев не подхватил ернического тона Герцена.
– Мне нужно еще додумать, – сказал он сдержанно.
– Уж не от сотворения ли мира ты начинаешь? До матушки Екатерины II и Земского собора дошел? Или все еще ныряешь в реформы Петра I?
Почуяв в этих словах замаскированный укол, Огарев ответил с некоторой резкостью:
– Мои мысли, Александр, привязаны к современности. Я не увлекаюсь, как ты, критикой политических промахов истории.
Герцен рассмеялся:
– Дорогой мой, называть продукты истории, хотя бы они и устарели, политическими промахами – то же, что считать лягушку зоологическим промахом.
Их споры никогда не доходили до ссоры. Они могли пикироваться, обмениваться фехтовальными выпадами. Но они слишком любили друг друга, чтоб разойтись даже по принципиальным вопросам.
Дружба эта была поистине неразрывна. «Мы, – свидетельствовал Герцен, – сблизились по какому-то тайному влечению, так, как в растворе сближаются два атома однородного вещества непонятным для них сродством».
В конце концов Герцен всегда уступал Огареву, даже когда видел, что он заблуждается. Он щадил его. И пуще всего не хотел становиться в позицию покровителя или хозяина. Когда ему казалось, что Огарева ущемляют, он обижался за него более, чем за себя. В этом было что-то отцовское, что-то от отношения взрослого к ребенку.
«Этот человек, – заявил Герцен об Огареве, – мне нужен, необходим; я без него – один том недоконченной поэмы, отрывок…»
Другое дело, что иногда, подчиняясь иронической струе своего характера, Герцен подтрунивал над Огаревым. Но, разумеется, добродушно. Так, впоследствии, уже в Женеве, Огарев сообщил Герцену, что перебирается в новую квартиру на улице Малых Философов. Герцен не пропустил случая заметить, что для этой улицы Малых Философов, конечно, лестно заполучить великого философа, а со стороны самого Огарева это акт большой скромности.
Сила этой дружбы иногда удивляла окружающих. Анненков с его порой лобовым подходом к сложным отношениям между людьми облекает дружбу Герцена и Огарева каким-то мистическим ореолом. Он пишет в терминах модного тогда спиритизма о пребывании Герцена в объятиях некоего «блаженного сна, в котором он находился частью и под магнетическим влиянием своего обычного медиума Огарева».
Это не значит, что Герцен не видел недостатков Огарева. Он предпочитал мягко называть их «странности». Он как-то записал в дневнике об Огареве: «Несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое».
Эта страстная дружба Герцена и Огарева была, быть может, самым драгоценным их достоянием.
«Ты мне один остался неизменный,
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем»,—
писал Огарев Герцену.
Ощущение своей душевной близости к Герцену было так велико у Огарева, что он сокрушался, что они не могут, как он выразился, «слиться в одну личность».
Мало сказать, что они были неразлучны – Герцен, Огарев и Наташа, – они были нераздельны.
Особенно на первых порах.
Некоторые друзья Герцена, его московские друзья были обеспокоены внедрением Огаревых в его жизнь. Они ревновали Герцена друг к другу. Крайне, к примеру, негодовала добрейшая Мария Федоровна Корш.
Прослышав о намерении Герцена поручить воспитание своих детей Наташе Тучковой-Огаревой, она с возмущением пишет одному из своих знакомых:
«С горем услышала от Евгения, что А. И. (то есть Герцен. – Л. С.) думает выписать сумасшедшую мышь для воспитания Таты и Оли. Неужели он думает, что она справится с этой задачей лучше, чем Мария Каспаровна Рейхель? Ведь она и умней, и благородней, и, наконец, опытней в этом деле; а та понятия не имеет, как вести ребенка, и потом ни нежности, ни женственности нет в ней ни на волос. Странное заблуждение, которое со временем дорого ему будет стоить…»
Преувеличено? Пожалуй. Однако нельзя отрицать, что в словах Марии Федоровны есть и нечто пророческое.
И Герцен, и Наташа – оба боятся возникающего между ними влечения. Она записывает в дневнике летом 1857 года, когда Герцен и Огаревы жили в Путнее под Лондоном, что она вначале хотела стать для них обоих – и для Огарева, к которому она охладела, и для Герцена, в которого она влюбилась, – да, для них обоих «любящей, преданной сестрой» и «заботливой, любящей нянькой» для детей Герцена. Но любовь, взаимная любовь, опрокинула эти благоразумные планы…
В конце 1856 года, то есть примерно около года после приезда Огаревых в Лондон, Наташа писала своей сестре в Россию:
«Я полюбила его всеми силами измученной души – он видел и молчал, – наконец все было высказано».
Эти дни можно считать окончательным сближением Наташи и Герцена. Ей было в ту пору двадцать семь лет, ему – сорок четыре. В тот момент обе Натальи – та, что умерла несколько лет назад, и эта, живая, рядом, любимица той, первой, слились для Герцена в один образ…
Уже через два месяца после приезда Огаревых Герцен пишет Наташе по случаю дня ее рождения 12 июня 1856 года:
«Друг мой и сестра… дай же мне право поблагодарить тебя за все теплое, родное, что ты внесла в мою разбитую жизнь… Ты разом представляешь мне и Огарева и Наташу – и, сверх того, ты мне сама близка с тех пор, как я тебя короче узнал…»








