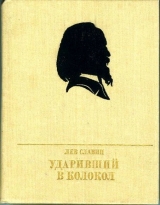
Текст книги "Ударивший в колокол"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
– Знаешь ли ты, Александр, что после твоих здешних писаний о Белинском даже имя его у нас упоминатъ нельзя.
Герцен возразил пока еще мягко, но уже несколько устало, обычной своей присказкой, она у него всегда была наготове для отражения таких вот несостоятельных обвинений:
– Да вся силенка-то моя основана на том, что я говорю правду.
С этого и пошло.
Постепенно выяснялась истинная цель миссии Щепкина в Лондоне.
– Известно ли тебе, Александр, какое тяжелое чувство в нашей среде от твоей эмиграции и от твоего сочинения «О развитии…» – как там? – не то революционных, не то социалистических идей в России?
Герцен с грустью смотрел на старика. Он все-таки надеялся, что в Щепкине возобладает та «своеобразная струя демократии и иронии», которая отличала его прежде.
Но видно, время здорово подмяло под себя московских друзей. Вот чем объясняются эти страшные слова в письме Грановского:
«…Если бы ты мог видеть, что мы стали…»
А Щепкин неумолимо продолжал:
– Твое «свободное слово» сконфузило и обдало ужасом всех нас. Кавелина уж вызывали к властям для разноса.
Оказалось, что Щепкин привез в Лондон целую программу, выработанную московскими друзьями. Согласно этой программе Герцен должен прекратить свои революционные писания, уехать в Америку, дать забыть о себе, а года через два-три попроситься обратно в Россию…
Программа эта ужаснула Герцена.
«Я на вашем месте, – писал он с горечью московским друзьям, – радовался бы, что хоть кому-нибудь удалось вырваться с языком».
Московские друзья… Не было ли теперь в самом образе этом чего-то устарелого, отжившего? «Наши состарившиеся друзья, – теперь называет их Герцен, – московские доктринеры». Не так-то легко отринуть старые дружеские привязанности. Здесь возникает сложное чувство. Герцен и возмущен москвичами, и негодует на них, но и жалеет их, скорбит о них, говорит, что они «представляют несчастное, застрадавшееся, затомившееся, благородное поколение – но не свежую силу, не надежду…».
Грустно было прощание Герцена и Щепкина.
Герцену казалось, что в его лице он прощается с Россией. Да, Щепкин – это Россия настоящая, коренная, и от земли, и от интеллигенции. Это не какой-нибудь Сазонов, ставший полуиностранцем, не Энгельсон, не Кельсиев, из которых сильно повыдохлось их русское. Нет, Михаил Семенович – Россия с ее широтой и с ее приниженностью, с ее талантливостью и с ее робостью, с ее высокой духовностью и с ее рабской приземленностью… Через некоторое время московская поэтесса Ростопчина, ревнуя к низкопробной славе Языкова, сочинила пасквиль «Дом сумасшедших», где есть строки и о Щепкине как о стороннике Герцена:
Подражая демократам,
На властей, на бар гремит…
Став Терситом, став Сократом,
Бедный старец нас смешит.
Значит, все же лондонская встреча прошла не без некоторого революционизирующего влияния на Щепкина. Кое-что от герценовского свободомыслия все же запало в его, по слову Герцена, «надломленную рабством натуру».
В московских и питерских салонах, хоть и шепотком, хоть и иносказательно, а все-таки еще позволяли себе в порядке салонной болтовни погромыхать сдержанным вольнодумством.
Но в отечественной печати – бог мой! – какая казенная серятина!
Когда до Герцена дошли последние номера «Москвитянина» и «Современника», он воскликнул:
– Какая страшная пустота, и что за литератёры! С какой важностью разбираются романы, стихотворения – точно все это пишется учениками гимназии…
И он еще увереннее утверждался в великой пользе существования своего детища, Вольной русской типографии, ибо именно она, а не трусливая скороговорка московских и питерских журналов была подлинным голосом России. Все дело было в том, чтобы раскрепощенное слово достигало России и широко там расходилось.
Этого удалось достигнуть.
Если предположить, что…
Глендуар: Я духов вызывать из тьмы умею.
Готспер: И я, как, впрочем, каждый человек.
Все дело в том лишь, явятся ли духи…
Шекспир
Герцену сообщили, что знаменитый английский историк Томас Карлейль – его поклонник. «С того берега» вызывает его восхищение. Он высоко ценит полные ума и блеска «миниатюры» Герцена. Добавляли при этом, что Карлейль ищет случая познакомиться с ним.
То, что Карлейль называл «миниатюрами», были живые отклики Герцена на политические злобы дня. В листке – одном из первых изданий Вольной русской типографии – «Поляки прощают нас!» Карлейля поразила своей новизной и меткостью мысль Герцена:
«Александр, после 1812 года, победил всю Европу, а взял только Польшу. Его войска, вступая в Париж, завоевали, собственно, одну Варшаву».
Сам приверженный к картинной образности, Карлейль не мог не восхититься такой характеристикой польской эмиграции:
«Перейдя границу, они взяли с собой свою родину и не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету».
А прочтя речь Герцена в годовщину польского восстания, Карлейль отметил ее высокое остроумие, вкладывая в это понятие не внешнюю игру словами, а глубокую внутреннюю значительность. И как пример приводил объяснение Герцена, почему он вопреки своему обыкновению не произносит свою речь изустно, а читает ее:
«Вы знаете, что я провел мою жизнь в стране, где превосходно учатся красноречиво молчать – и где, конечно, нельзя было научиться свободно говорить».
Кстати, по поводу другой речи Герцена, произнесенной на митинге в Сент-Мартинс-холле в Лондоне, Карлейль сказал, что это «речь о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта…»
Знакомство произошло незадолго до Нового года. Разговор их напоминал иногда встречу двух родственных душ, которые наконец нашли друг друга. А иногда – состязание двух действующих вулканов: кто кого превзойдет в огнедышащей силе?
Герцен считал, что талантливость Карлейля граничит с гениальностью. Его не пугала парадоксальность английского историка, она даже нравилась ему. Он находил в Карлейле, по собственному выражению, «крупицу безумия». Иногда они и спорили, и Герцен прибегнул однажды для опровержения Карлейля к авторитету… Карлейля:
– Читали ли вы когда-нибудь «Историю революции» Карлейля? Вот писатель, который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы.
Это вызвало взрыв хохота.
Однако был один момент в их общении, который породил действительно серьезные разногласия. Карлейль приписывал русскому народу особое свойство: талант повиновения. Это вызвало резкий отпор Герцена. Он противопоставил этому странному парадоксу Карлейля другой талант, присущий русскому народу: талант борьбы. Он приводил исторические примеры заговоров, бунтов, мятежей, народных движений против деспотизма.
– Но погодите, – говорил он, – Россия еще не сказала деспотизму своего последнего гневного слова.
Герцен находил, что Карлейль, как и Мишле, впал в распространенную ошибку западных историков, пишущих о России: подменял русский народ русской властью. Историки ставили между ними знак равенства.
Герцен развивал эту мысль в разговоре с Энгельсоном, с которым тогда еще сохранял добрые отношения. В ту пору Герцен надеялся, что Энгельсон будет помогать ему в делах Вольной русской типографии и как организатор, и как автор. Герцен считал, что Энгельсон – прирожденный памфлетист, обладающий даром, как он выражался, «языкомерзия».
– При всем глубоком уважении к Карлейлю, – рассказывал ему Герцен, в некотором возбуждении шагая по комнате, – я резко возражал против его утверждения, что русскому народу «свойствен талант подчинения». Это Россия оболганная, стало быть, не Россия. Я заявил, что сходную мысль высказывает немецкий экономист Гакстгаузен, который пишет даже о «величии повиновения». Покровительственно похлопывая по плечу русский народ, он считает это придуманное им свойство отличительной добродетелью русских. Я сказал Карлейлю, что не поздравляю его с таким совпадением во мнениях с этим монархическим демагогом. Я доказывал, что, напротив, русский народ обладает талантом борьбы. Но послушайте, Энгельсон, ведь самое горькое в том, что – положа руку на сердце – доля правды в утверждении Карлейля есть.
– Вы противоречите себе! – даже возмутился Энгельсон.
– Возможно. Но это потому, что противоречие есть в самом народе. Ведь если бы не было в России борцов за свободу, то не было бы в ней и такого развития всякой полицейщины. Россия порядком отстала от Европы по части технической цивилизации, но чрезвычайно успела в развитии полиции, особенно тайной.
– Это уже другая тема, – возразил Энгельсон.
– Нет, все та же! – вскричал Герцен. – Мы, русские, очень талантливы в музыке, балете, в литературе, в математике, наконец, черт возьми!
Он замолчал. Потом – упавшим голосом:
– И в политическом сыске тоже.
– Вы называете это талантом? – сказал Энгельсон удивленно и с оттенком презрения.
Герцен пожал плечами:
– Вы правы, жаль слова. Ну, не талантливы, а усердны, деятельны.
Еще одну черту сходства находил Герцен между столь разными учеными, как Карлейль и Мишле. У обоих «картины хороши, а рассуждения по образцу Жан Поль Рихтера вздорны».
Между прочим, и здесь одно из совпадений, не столь уж редких, Герцена с Марксом, который писал о Карлейле: «Он вновь разыскал устарелые обороты и слова и сочинил новые выражения по немецкому образцу, в частности по образцу Жан Поля».
Какое согласие, если не во взглядах, то во вкусах!
В другой раз Герцен ставит рядом имена обоих историков в своей работе «Ренессанс» Ж. Мишле:
«Разумеется, из книги Мишле нельзя научиться истории XVI столетия, так, как из книги Карлейля нельзя научиться истории революции…»
Но если у историка Карлейля нельзя научиться истории, то можно получить чисто эстетическое наслаждение, пишет Герцен, от «нескольких картин поразительной художественности» в его работах.
Герцен стал частым и желанным гостем в доме Карлейля.
Стояла ночь, когда Герцен возвращался от Карлейля. Домой не хотелось. Он полюбил эти ночные прогулки по городу.
«…Я люблю Лондон ночью, – признавался Герцен воспитательнице его детей Мальвиде Мейзенбург, – совсем один я иду все дальше и дальше. На днях я был на Ватерлооском мосту, там никого не было, кроме меня, я долго просидел там…»
Не совсем так, если быть точным. Потому, что следующая за этими словами фраза: «Я долго просидел там» – вызвана именно тем обстоятельством, что некоторое время Герцен на мосту Ватерлоо был, ну, скажем, мягко выражаясь, не совсем один.
Да и трудно придумать более подходящее место для уединенной встречи. Для этого, собственно, надо сделать лишь одно небольшое допущение: если предположить, что Ватерлооский мост пересекает не только пространство, но и время, то во всем дальнейшем нет ничего сверхъестественного. В частности, в том, что, взойдя на мост Ватерлоо и присев на скамью, подпертую двумя изваяниями железных верблюдов, сняв шляпу, чтоб отереть взмокший лоб, и одолевая легкую одышку, Герцен внимательно вгляделся в меня, сидевшего рядом и почтительно ему поклонившегося. Что-то знакомое, видно, почудилось Герцену во мне при тусклом свете чугунного фонаря, со скрипом качавшегося над нашими головами под легким ветром с реки. Логичнее всего предположить, что он признал во мне одного из приезжих из России, обильно, особенно по воскресеньям, то ли из политического сочувствия, а то и просто из любопытства посещающих дом Герцена.
Во всяком случае, он снисходительно кивнул мне в ответ. А я заметил его еще издали, когда энергичным шагом, сильно маша руками, он миновал Соммерсет-хауз, набитый бог весть какими канцеляриями лондонского графства.
Отдышавшись, он сказал:
– Что-то пазуха у меня стала уж очень обширная.
– Вы хотите сказать: талия? – осторожно спросил я.
– Ну, это ж несовпадающие понятия. Язык – вещь хитрая и сложная. Не подумайте, что я чураюсь иных слов. Когда нужно, я их вставляю в натуральном виде. Ханжество в языке так же отвратительно, как и во всем другом. Какое счастье опустить руку в эту бездонную мешанину слов, коей является язык, и извлечь нужное, точное, единственное прицельное слово!
Эту маленькую тираду он выпалил единым духом. Я заметил, что он проглатывает концы слов, – признак усталости. Я сказал ему об этом.
Он распростер руки в слишком длинных, как мне показалось, рукавах вдоль спинки скамьи, откинулся на нее поудобнее, проговорил небрежно, глядя в мутно-рыжеватую ночную даль:
– Всякий механизм требует отдыха. А человек, в сущности, небольшая передвижная тепловая и электрическая машина.
Как обычно, пошутив, он остался серьезным, он только взглянул на меня, слегка щуря глаза. Потом он неспешно огладил свою темно-русую лопатообразную бороду, покосился на нее. Там уже было изрядно серебряных нитей. Он вздохнул и сказал:
– А в общем, я хотел бы знать, кто я: величественная руина прошлого или все еще горячая кровь, текущая в ваших жилах и толкающая вас на действия?
Был ли этот вопрос действительно обращен ко мне или из числа риторических, то есть безответных, я так и не понял. Возможно, что ему просто не терпелось выговориться. Случайный прохожий самая для этого подходящая аудитория. На всякий случай я сказал:
– Простите, но меньше всего вы похожи на сентиментального мечтателя.
Он сказал задумчиво:
– Вы полагаете? А я считаю, что иные воспоминания о событиях драгоценнее самих событий. Я, например, никогда не чувствовал всей полноты наслаждения в самую минуту наслаждения. Само собой разумеется, что речь идет не о чувственном наслаждении: котлеты в воспоминании, право, меньше привлекательны, нежели во рту.
Снова лукаво блеснул глазами.
Я решился сказать:
– Я давно знаю, что вы так думаете.
Он повернулся ко мне и, кажется, впервые посмотрел на меня внимательно:
– Откуда?
– Из ваших «Записок одного молодого человека».
– Так… Значит, вы знаете меня.
Он проговорил это несколько разочарованно. Было похоже, что он утратил всякий интерес ко мне. Одно дело – случайный прохожий, некто из тьмы, род привидения, и совсем другое дело – очередной безвестный почитатель – боже, как они ему приелись!
Он пробормотал рассеянно и почему-то по-итальянски, словно забыв обо мне:
– Coricare е nоn dormire, servire е nоn gradire – piu tosto morire[48]48
Ложиться спать и не засыпать, служить и не угодить – лучше уж умереть (ит.).
[Закрыть].
Я даже привстал – так меня это взволновало – и не удержался от восклицания:
– Это поразительно!
Он поднял брови:
– Что?
– А то, что на другом конце мира и на другом конце времени, еще в средние века, другой гений, великий армянский поэт Нарекаци, писал:
Не дай испытать мне муки родов и не родить,
Скорбеть и не плакать,
Покрыться тучами и не пролиться дождем,
Идти и не дойти.
Он явно заинтересовался:
– В средние века, говорите? Право, человечество мало меняется. Есть образы, которые, как земная ось, пронизывают время. У нас мало шансов сказать что-нибудь новое. Если предположить, что лет этак через полтораста найдется чудак, который вздумает писать обо мне, то неизбежно он коснется своим пером и моих современников разной масти, скажем Кетчера и Щепкина, Грановского и Вигеля. Но все они в то же время – и Кетчер, и Грановский, и Щепкин, и Вигель – будут каким-то образом и его современники, точно так же, как в мой образ невольно залетят осколки из собственной личности автора.
– О, это невозможно! То есть, конечно, о вас, Александр Иванович, непременно будут писать. Однако вы писатель до того вне всяких форм и норм, что писать о вас в тривиальном жанре рука не подымется.
Но он, казалось, не слушал меня. Нагнулся над оградой моста. Лицо его, освещенное фонарем, возникало из окружающего мрака, как если бы его писал Рембрандт с его пристрастием к световым эффектам. Фонарь качался под ветром, и свет гулял по его лицу, но оно оставалось неизменным в своей печали, энергии и отваге. Я знал его портрет, рисованный когда-то Витбергом еще в Вятке. Там Герцен божественно красив. Ныне античная правильность его черт упрятана за этой темно-русой полуседой бородатостью.
– Вы слышите Темзу? – спросил он, все еще нависая над рекой.
Я прислушался. Мне вдруг почудилось дыхание моря. Я так и сказал.
Он посмотрел на меня с сожалением.
– То есть, я хочу сказать, – спохватился я, – что море, конечно, отсюда далеко, но сознание, что река в конце концов…
Он не слушал меня.
– Морские волны шумят, как гекзаметры. А здесь, – он презрительно махнул рукой в чернильную пустоту, где невнятно журчала река, – бессвязное лопотанье подвыпившего боцмана.
Я никак не мог подвести разговор к тому, что меня интересовало больше всего и ради чего, собственно, я и оказался на мосту Ватерлоо. Так и не найдя нужной трассы к этой цели, я с отчаяния, которое, говорят, иногда придает смелости, рванул в открытую, напрямую:
– А как ваша работа над этим большим сочинением? Ходят слухи, что уж есть и название. Судя по нему, это, что же, нечто исповедальное?
И тут же поправил себя, опасаясь, что он не примет последнего моего слова, как слишком современного:
– …я имел в виду – автобиографическое?
Он ответил не сразу:
– Нет, погодите… Исповедальное?.. В этом что-то есть. Мне это слово правится. Но вы знаете, и «Исповедь» Руссо, и «Поэзия и правда» Гете, и «Исповедь» Огарева, и все прочие публичные самооголения в истоке своем, я уверен, имеют потребность избавиться от каких-то душевных избытков, может быть даже от душевных отбросов, и таким образом очиститься…
Я подумал:
– «Опавшие листья» Розанова…
А вслух сказал:
– Если это верно, то только для некоторых книг, довольно нечистых, иногда просто нечистоплотных.
Какое там! Он не слушал меня, говорил возбужденно, увлеченный развитием мысли, даже вскочил и короткими быстрыми шажками ходил, едва не бегал вдоль скамьи взад-вперед.
– А так как, – почти кричал он, и голос его гулко разносился над ночной Темзой, – некоторые движения души ведут свое происхождение от физических потребностей Животного, каким когда-то был – а отчасти и остался – современный человек, то можно допустить в виде разумной гипотезы, что все эти исповеди – и литературные, и религиозные – происходят от чисто физиологической функции организма периодически избавляться от всяких ненужных скоплений внутри себя. Разумеется, такое происхождение исповеди не лишает ее в известных случаях высокого нравственного значения. Я указываю только на материальное происхождение этого нравственного побуждения.
– Мне кажется, – робко возразил я, – что ваши рассуждения – это, так сказать, излишки материализма.
Он отмахнулся от меня досадливым движением руки:
– Не будем уточнять. Нет, нет, не будем! Уточнять – это значит вгонять в точку. А правда жизни волнообразна, прихотлива, порой противоречива. И если вы уж заговорили о том произведении, над которым я тружусь, то не ищите полку, на которую можно его положить. Такой полки нет. Одно скажу вам: это будет по замыслу моему нечто универсальное, то есть всеохватывающее: и мое, и общественное, и личное, и историческое, – все это будет связано…
Немного подумав (я и дышать боялся, чтобы не прервать ток его мыслей), он добавил:
– …как и в жизни, где нет ничего отдельно существующего, изолированного. В природе ведь нет вакуума.
Он опустился на скамью и сказал уже спокойнее:
– Исповедальная проза – это не такая, где автор пишет о себе хорошее. А такая, где он пишет о себе плохое. Ибо исповедь – это покаяние, в данном случае публичное. Единственная опасность, которая грозит автору на этом пути, – это самовозвеличение, втаскивание себя на пьедестал. Это так же противно, как кокетливая игра в скромность. Думаю, что принятый мною объемный метод описания предохранит меня от этого. Величие Рембрандта нисколько не умаляется от того, что он был скупой. Так же, как жестокость и кровожадность Тиберия нисколько не оправдана тем, что он был глубокомысленным и проницательным монархом. Я могу сделать вам признание…
Я радостно насторожился.
– Я не знаю, каковы ваши пристрастия в литературе, – продолжал он, – мне, например, некоторые прославленные сочинения с твердой репутацией классических совсем не по вкусу. «Освобожденный Иерусалим» Торквато Таосо скучен. «Новую Элоизу» Руссо я не мог дочитать до конца. «Герман и Доротея» Гёте – произведение мастерское, но утомляющее до противности.
Он говорил это, не глядя на меня, мое мнение, по-видимому, его и не интересовало, хотя я мог бы значительно расширить список хилых и несуразных литературных изделий, но не хотел смешивать эпохи.
– А может быть, – пробормотал он устало, – сказываются годы и я просто становлюсь старым ворчуном.
Мне было больно слышать это от него, и я возразил горячо:
– В вас, Александр Иванович, хватает этого жизненного порыва на добрый десяток людей!
Он ничего не ответил, но не мог скрыть удовлетворенной улыбки. При всем своем гении он любил похвалы и даже иногда был податлив на лесть.
О чем он задумался? Глаза его неподвижно устремлены во что-то былое. Казалось, он забыл о моем присутствии. И все же я решился прервать его. Когда еще мне представится случай узнать о великом произведении из первоисточника? Самые богатые архивы, самые тщательные разыскания, самые счастливые гипотезы не могут сравниться с прямым общением с автором.
Тем более, что я не был уверен, захочет ли этот оборотень, которого зовут Время, предоставить мне еще раз возможность встречи с Герценом.
Срывающимся от волнения голосом я спросил:
– Давно ли и почему вдруг вам захотелось писать это? Он живо повернулся ко мне:
– Вы о «Былом и думах»?
Я уже и говорить не мог, только кивнул головой.
– Как вам сказать… И давно, ж недавно. Еще в вятской ссылке, то есть два десятилетия назад, – боже, каким юным я был тогда! – я затеял описать примечательные встречи в моей жизни. Да не только встречи, вообще выдающиеся моменты моего существования, все яркое, цветистое – и пожар Москвы, в год моего рождения, когда я сосал молоко под выстрелами, и встречу с Огаревым, и учебные годы, и годы странствований, и эпоху любви, эпоху моей Наташи… Конечно, это работа не преходящая, может быть, на всю жизнь… Ну, а второй приступ этого влечения к мемуарам…
Тут оживление покинуло его. Он стал говорить затрудненно. Оказывается, и ему иногда надобно время, чтобы отыскать слово, равноценное мысли.
– …к большому волюму – под влиянием страшных событий, несчастий, ошибок тех лет, что погубили ее…
Я не осмеливался переспрашивать. Я, конечно, понимал: «ее» – это Натали.
Голос его упал, но говорить он продолжал, губы его шевелились, но я только расслышал:
– …надо было преодолеть застенчивость сердца…
Он мотнул головой, словно отгоняя от себя то скорбное, что на него вдруг накатилось. Он сказал просто и серьезно:
– Я посвящу эту книгу Нику.
Он улыбнулся, по-видимому вспомнив что-то забавное. Заметив мой загоревшийся от любопытства и робко вопрошающий взгляд, он сказал:
– Одна ревнивая женщина замышляла отравить меня, чтобы Огарев остался только для нее. Ибо я для него – весь его мир. Как и он для меня.
Я молчал. Наверное, он истолковал мое молчание как возражение, потому что он сказал настойчиво и даже с некоторым вызовом:
– Я привык с Огаревым к безграничному откровению.
И он стиснул мне руку, прощаясь.
– Ох… – простонал я невольно.
Я и забыл, что он славится своими крепкими рукопожатиями, некоторые даже вскрикивают от боли. Он вгляделся в меня.
– Это похоже на сон… – пробормотал он. – Признайтесь, вы вызвали меня посредством спиритического сеанса? Лондон сходит с ума по спиритам.
– Нет, я не прибегал к спиритизму. К тому же я считаю его шарлатанством. А в некоторых случаях – легкой формой психического заболевания.
– В таком случае как называется та сила, которую вы применили, чтобы привести меня сюда?
– Воображение.
Он исчез мгновенно, словно растворился в ночи.
Был ли он здесь?
Я вспомнил сказанное им однажды:
– Что такое чистая мысль, в самом деле? Это – привидение, это духи бесплотные, которые видел Данте и которые, хотя и не имели плоти, но громко рассказывали ему флорентийские анекдоты.
Так он сказал однажды Нику Огареву, человеку, которого он и вправду любил больше всех на свете. Тот отвечал ему тем же.








