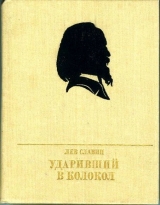
Текст книги "Ударивший в колокол"
Автор книги: Лев Славин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Архимедова точка
В политической экономии, в своей работе «Труд и капитал» и в своих примечаниях к переводу «Политической экономии» Милля, которые гораздо значительнее самого текста, Чернышевский так близко подошел к Марксу, как никто из социалистов домарксова периода, заслужив от Маркса имя «великого русского ученого и критика».
Покровский
Разговор повелся издалека. Вспомнили Белинского. Герцен сидел на диване в домашней вольготной позе, сунув за спину мягкие подушки и подвернув одну ногу под другую.
Чернышевский, напротив, сдвинулся на край стула, держался напряженно, поигрывал непроизвольно пальцами по столу.
Когда Герцен разговаривал, при своей подвижности он долго не мог усидеть на месте.
– Я перипатетик, – говорил он о себе полушутливо и объяснял тем, кто этого не знал, что словом этим (по-немецки «Spazierganger», то есть «прогуливающийся») называли античную философскую школу. Ее руководитель, знаменитый Аристотель, имел обыкновение развивать перед последователями свои философские идеи, прохаживаясь меж колонн храма.
– Я вижу, – сказал Герцен, шагая из угла в угол размеренной поступью, – вы завидуете мне, что я знал Белинского.
– Признаюсь, завидую, – отвечал Чернышевский. Он прибавил тихо, не скрывая удивления: – Как вы догадались?
Он тоже вскочил и зашагал по комнате. Оказывается, и он «перипатетик».
Герцен с явным удовольствием рассмеялся.
– По искоркам в глазах, – сказал он. – Белинский рассказывал мне, что такие же искорки были у него самого в глазах, когда Чаадаев рассказывал ему о своей дружбе с Пушкиным.
Чернышевский усмехнулся. Он понемногу избавлялся от своей робости. Оттаивал.
– Да откуда же, – сказал он, не сгоняя с лица улыбки, – Белинский мог знать, что у него в глазах искорки?
– А ему Чаадаев сказал, как я только что вам. Да вы не смущайтесь, это благородная зависть.
Чернышевский смеялся. Смех его был неожиданно громкий, раскатистый, смех здоровяка. «Непонятно, – удивился про себя Герцен, – как из такого тщедушного тела этот смех Фальстафа».
Сейчас Чернышевским владело стремление почти яростное избавиться наконец от чувства преклонения перед Герценом. Живой Герцен оказался столь же пленительным, как и его писания. Ему надо преодолеть силу этого обаяния. Во что бы то ни стало! Ведь он приехал для разговора о том, чтобы направить гениальный пыл Герцена и огонь всех батарей Вольной русской типографии на иную цель, тут не обойтись без крупного разговора, возможно даже размолвки…
А Герцен смотрел с таким пристальным вниманием и проницательностью, словно он читал его мысли. И в самом деле, он сказал:
– Вы как будто изготовились, Николай Гаврилович, для прыжка на меня.
Чернышевский снял очки, принялся протирать их. Полуослепшие глаза его при этом казались беспомощными и растерянными. Он сказал, стараясь сдержать свою запальчивость:
– Когда ворчат старики, это кончается маразмом. Когда ворчат молодые, это кончается революцией.
Герцен глянул на Чернышевского с живейшим интересом, пока тот седлал очками свой донкихотский нос. Черт возьми, недурно сказано! Мгновенно родилась ответная реплика: «Но дело в том, что мы считаем именно себя молодыми!» Он не успел ее сказать. Чернышевский не дожидался ответа. Теперь он стоял твердо на дорожке, которую мысленно укатал для себя заранее.
– Мы хотели бы, Александр Иванович, чтобы вы нас правильно поняли. Хватать за руку взяточника, накрывать дурацким колпаком высокопоставленного оболтуса, пригвождать к позорному столбу сиятельного держиморду – это, конечно, полезно. Но это маленькая польза. Это дает удовлетворение минутному раздражению. Но это ни на йоту не расширяет освободительное движение в стране. Наоборот, тормозит его, направляет народное негодование не по тому руслу. Удары должно направлять против государственного строя. Бить нужно по самому режиму.
В комнату тихо, чтобы не мешать разговору, вошел Огарев. Мягко ступая в домашних ковровых туфлях, он прошел в угол и тихонько уселся в кресло. Поймав взгляд Чернышевского, он дружески кивнул ему. Огарев питал слабость к Чернышевскому после того, как тот в «Современнике» отозвался о его стихах: «…г. Огарев имеет право занимать одну из самых блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы… с любовью будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык».
Герцен заговорил неожиданно мягко. Это насторожило Огарева. Он знал эту манеру своего друга: внешней сдержанностью тона прикрывать накипающий гнев, с тем чтобы потом нанести громовый удар, – затишье перед бурей:
– Круг тем «Колокола» не мелочен. За ними – слезы крестьянина и стенания бедняка.
Чернышевский молчал. Ему не хотелось отвечать Герцену резкостями. Он вспоминал горькие слова Добролюбова: Герцен потерял чутье к революции, променял его на мирный прогресс под покровом законности. «Я должен найти в себе решимость, – подумал Чернышевский, – сказать ему это…»
Он сказал, стараясь самим тоном притушить острогу слов:
– Вы не знаете, Александр Иванович, новой силы, появившейся в России. Вы все еще рассуждаете о «лишних людях», этих обреченных дворянах, страдающих хандрой. А между тем у нас на Руси народилась новая общественная сила – это разночинная молодежь.
Чернышевский боялся поднять глаза на Герцена. Вдруг из угла – неожиданная поддержка – заговорил Огарев:
– Это так. Умственною силой в России становятся разночинцы.
Чернышевский подхватил:
– Революционные разночинцы, – сказал он, несколько запинаясь, – отмежевались от вас. Вы учинили нам, то есть «Современнику», головомойку. Это вредно для наших общих целей. Простите меня, Александр Иванович, но «Колокол» иногда сбивается на сплетни. Нельзя бороться с деспотическим строем подмигиваньем за его спиной. Скажу вам больше: если бы наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; они дают ему возможность держать своих клиентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах.
– Видите ли, друг мой… – начал Герцен.
Он не смотрел на Чернышевского, он смотрел в потолок, как бы собираясь с мыслями, как бы размышляя вслух.
– Видите ли, – повторил он. – Вы и ваши друзья вознесли себя на пьедестал из благородных негодований и сделали чуть ли не ремесло из мрачных сочувствий страждущим. Мы хотим быть протестом России, ее криком освобождения и боли. Мы хотим быть обличителями злодеев. Мы их делаем смешными. Мы хотим быть не только местью русского общества, но и его иронией. Смех – одно из самых мощных орудий разрушения. От смеха падают идолы. Это сила революционная.
Пока Герцен рассуждал о разящей силе обличительного смеха, Огарев с грустью думал о нем:
«Проницательность изменяет Александру, когда он начинает судить о действиях нового поколения русских революционеров…»
А вслух сказал:
– Быть может, наконец впервые русский народ разобьет инертность своего политического мышления.
– Дай бог! – сказал Герцен, вздохнув. – Но что-то не верится. У русских есть своя беспечность, небрежность, неспетость и отсутствие меры, свидетельствующие о душевной незрелости. Это ничего не говорит против народного характера вообще, – это говорит против среды и времени нашего развития.
– Конечно! – воскликнул Чернышевский, оживившись. – Эта пресловутая смиренность, покорность, безгласие имеют свое историческое происхождение. Крепостное право, царский абсолютизм обузили духовное существо русского человека…
– Вы помните, – задумчиво сказал Огарев, – шайки компрачикосов, о которых писал Гюго? Эти мерзавцы заключали малых ребят в тесные футляры и таким образом насильственно прекращали их физический рост и превращали их в уродливых карликов для своих надобностей. Отсутствие политических свобод задержало идейный рост русского человека, не дало развиться потребности в гражданских свободах, убило самое стремление к ним, поставило на их место безразличие, соглашательство, примирение с собственным уродливым состоянием, которого сам русский человек попросту не замечает, считает его естественной нормой жизни.
– Мало того, – подтвердил Герцен. – Эта жизнь под прессом развила в нашем соотечественнике бессознательно для него самого изворотливость, притворство, двуличие и в ущерб духовности – безудержную жажду материального накопления.
Чернышевский давно выказывал признаки нетерпения. Он не решился прервать Герцена. Но когда тот замолчал, чтобы промочить горло, и, подойдя к столу, пустил шипучую струю зельтерской в стакан, Чернышевский быстро заговорил:
– Но вот сейчас падают самые тяжкие оковы, когда-либо теснившие русского человека. И это не может не повлечь за собой сдвиг в его душевном строе. Воздух свободы! Да он не может не пронизать самую душу человека!
Возражая Чернышевскому, споря с ним, был ли в этот момент Герцен в полном согласии с самим собой? Не было ли в страсти, с которой он защищал свое оружие – обличительную иронию, желания убедить самого себя?
В одном пункте они сошлись безоговорочно: если «Современник» запретят, Герцен брался издавать его в Лондоне. Условились, что приток материалов для журнала обеспечит Чернышевский и на нем же будет лежать забота об оплате типографских расходов, что касается корректуры, то Герцен обещал, что он и Огарев возьмут это на себя.
– Но кто же все-таки этот «-бов», подписавший статью «Литературные мелочи прошлого года»? – спросил он. – Откройте же имя этого беспощадного судьи, вынесшего нам смертный приговор на страницах «Современника»?
Чернышевский удивленно посмотрел на Герцена. Ему трудно было представить себе, что Герцен не угадал в этой подписи Добролюбова.
В статье этой, так чувствительно задевшей Герцена, под невинным – для царской цензуры – названием Добролюбов осуждал такой способ борьбы с царским правительством, который сводился к мелким обличительным укусам по поводу отдельных злоупотреблений чиновников. Добролюбов называл это либеральным «пустозвонством».
И вообще, вся статья его восставала против соглашения с приспособленческой политикой «постепенных экономических улучшений», а заодно порицала обличительную литературу, всю эту хлопотливую погоню за взяточниками, кутерьму вокруг казнокрадов, внешне эффектную, но мало действенную войну с лихоимством и прочими частными злоупотреблениями.
Герцен воспринял статью «Современника» как выпад против обличительной публицистики вообще. Он понимал, что в статье речь о нем, о стиле «Колокола». И в самом деле, на его страницах Герцен отдавал огненный пыл своего пера обличению всевозможных злоупотреблений царских чиновников:
Оценив статью Добролюбова (сразу же скажем: несправедливо) как прямой полемический удар по себе, Герцен решил отвечать. Помимо того, что натуре его было в высшей степени свойственно то, что можно назвать рефлексом ответного удара, он считал, что от обличительной деятельности «Колокола» русскому народу прямая польза. Он считал, что своими смелыми разоблачениями «Колокол» расшатывает царскую власть и революционизирует сознание народа.
Все это вдохновило Герцена на написание резко полемической статьи «Very dangerous!!!»[56]56
«Очень опасно!!!» (англ.).
[Закрыть] – заголовок снабжен, как видите, тремя восклицательными знаками.
Уж он здесь дал волю своему возмущению, в котором была и изрядная доля острой обиды. В то нее время наряду с негодованием против замаскированных упреков «Колоколу», его «Колоколу», Герцен испытал отраду оттого, что давал отповедь, или, как он выразился в письме к Рейхель, «головомойку», «Современнику».
Но, в сущности, это не было простой стычкой двух органов печати по маловажному, едва ли не стилистическому вопросу. Дело обстояло гораздо серьезнее. Эта полемика, замаскированная эзоповским языком, чтобы не привлекать внимания охранительных инстанций, была отражением борьбы двух противоположных политических программ – Герцена, тяготевшего к либеральным реформам, и Добролюбова с его резко революционным направлением.
В своей статье Герцен все еще верит, что «смех – одно из самых мощных орудий разрушения», имея в иду антинародную практику чиновного аппарата, тогда как Добролюбов и Чернышевский заострили свою деятельность против самого государственного строя.
– Приведу вам слова автора этой статьи, Добролюбова, – сказал Чернышевский вместо ответа: «Мы никому не уступим в горячей любви к обличению… мы хотим более цельного и основательного образа действий».
– Понимаю, – перебил его Герцен, – что вы… простите, он, ну, кажется, это все равно, разумеете под этими словами. Здесь мы, Николай Гаврилович, расходимся. Но Добролюбову передайте, что я сожалею, если он задет моей статьей «Very dangerous!!!». Я ведь не знал, что это он, как и не знал, каков он. Только сейчас из ваших слов я догадываюсь, что это человек нашего ряда. В ближайшем же листе «Колокола» я помещу объяснение. Думаю, оно удовлетворит вас.
– Поверьте, Добролюбов глубоко уважает вас, Александр Иванович, и не теряет надежды, что вы и он сблизите свои точки зрения.
Молчание. Решительного слова не было произнесено. Оно висело в воздухе.
Молчание, которое становилось уже тягостным, прервал Чернышевский:
– Я не хотел бы возвращаться к уже сказанному, но для полного уяснения предмета вынужден сказать, что вы, Александр Иванович, простите, не поняли истинного смысла статьи Добролюбова и – еще раз простите – недооценили всю меру ее значительности. Выражение «пожилые мудрецы» не принимайте на свой счет. Сам Добролюбов замечает, что «пожилые мудрецы» «встречаются и между двадцатилетними».
Несмотря на примирительные слова с обеих сторон, собеседники, казалось, понимали, что им не договориться в том основном, что продолжало витать в воздухе.
Герцена несколько задевал наставительный тон Чернышевского. Герцен отдавал должное его уму. Но этот безапелляционный тон, это преувеличенное мнение о «Современнике», о Добролюбове, да, пожалуй, и о самом себе…
А Чернышевский в это время, не меняя своей напряженной позы на краю стула, не жестикулируя в разговоре, не меняя жестковатого выражения лица, думал о Герцене:
«Блеск ума удивительный… Но вот что значит оторванность от России… Весь в прошлом, в фехтовальных спорах в московских салонах сороковых годов…»
А вслух сказал:
– Вам следовало бы, Александр Иванович, поскольку вы свободны от цепей цензуры, давать в «Колоколе» программу войны с самодержавием. Тогда и обличение уместно.
Герцен усмехнулся:
– Боюсь, что вы смотрите на меня как на ценность исключительно археологическую, скажем, как на скелет мамонта.
Чернышевский, казалось, смутился. Он потупил глаза и сказал:
– Ваше отношение к самодержавию – примирение на известных условиях. Наше – никаких условий. Война!
Яснее нельзя было сказать. Это звучало как ультиматум. Но Чернышевский еще искал путей к компромиссу: сопротивление – да, бунт – нет. Да и Герцен еще не терял надежды найти пути согласия со своим гостем. Однако точек соприкосновения не находилось…
В конце концов Чернышевский понял это. Он не хотел тратить время на словесные препирательства со столь искусным спорщиком. Нет, больше ему здесь делать нечего. Его лондонская миссия кончилась. Щепкину не удалось потянуть Герцена вправо, Чернышевскому – влево.
А тут еще Герцен обрушился на редактора «Современника» Некрасова, которого он не жаловал за его путаные денежные дела, в частности с Огаревым.
Этого Чернышевский не выдержал, встал и, сухо попрощавшись, отклонив уговоры Герцена остаться, ушел с досадою и горечью в сердце.
И все же он считал, что известная доля пользы была достигнута этим его стремительным скачком в Лондон. Все-таки он подвинул Герцена к справедливому суждению о Добролюбове и о сегодняшней политической линии «Современника». А четкое размежевание в путях революционной работы также пойдет на пользу общему делу.
Теперь, когда к Герцену пришло понимание новой пoзиции «Современника», он сожалел, что с маху, в порыве своей демонической иронии свалил в одну кучу Добролюбова и Сенковского, мракобесного издателя реакционной «Библиотеки для чтения» николаевской эпохи, клеймя в полемическом задоре их, как пустых и циничных зубоскалов.
В ближайшем листе «Колокола» Герцен поместил заметку под названием «Объяснение статьи „Very dange rous!!!“. Это „Объяснение“ (впору ему называться: „Извиненне“!) вполне в духе рыцарского характера Герцена:
„Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек… Мы не имели в виду ни одного литератора…“
Герцен понимал, что и Чернышевский, и Добролюбов, и он сам – в одной шеренге борцов за свободу. И расхождение между ним и теми двумя начинается дальше – там, где встает вопрос о методах борьбы: Они – за крестьянскую революцию, он – за крестьянскую реформу, – память о крахе революции сорок восьмого года не умирала в нем.
Но за исключением этого внешнее впечатление от свидания Герцена и Чернышевского таково, что они разошлись, не придя к согласию. Однако Добролюбов удовлетворенно улыбнулся, прочитав письмо Чернышевского: „…Разумеется, я ездил не понапрасну…“
А в статье Герцена „Лишние люди и желчевики“, вскоре появившейся в „Колоколе“, Герцен согласился с мнением Чернышевского, что обличительная литература не то чтобы устарела, но, во всяком случае, ее одной недостаточно. „И люди, говорящие, – писал Герцен, имея в виду Чернышевского и Добролюбова, – что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду… совершенно правы“.
Да, они шли – покуда! – разными путями в своей повседневной революционной практике. Но в коренном теоретическом вопросе – о будущем России – их взгляды совпадали. Пути разные, цель одна. Будущее России – социализм. А зерно социализма в его русском воплощении – в крестьянской общине. И в этом, полагали они, преимущество России над Европой. Это зерно живо сейчас. Не утратить бы его! Ведь оно – фундамент грядущего! Так они оба считали, не подозревая о глубине своего заблуждения.
Когда Чернышевский в разговоре с Герценом восставал против негативного направления „Колокола“ и восклицал: „Покажите ваше политическое лицо! Объявите, за что вы и с кем вы!“, – Герцен не сразу ему ответил. Он предпочел сделать это в статье „Русские немцы и немецкие русские“. С пером в руках он чувствовал себя увереннее. Это помогало ему упорядочивать и собственные мысли. Так получила известную определенность и „теория русского социализма“. Герцен строит ее на трех китах. Для большей наглядности он, такой противник всякого схематизма и назидательности, составляет из них колонну и даже метит номерами:
1) право каждого на землю.
2) общинное владение ею.
3) мирское управление.
Он настаивает на этом. Он не перестает повторять это при каждом удобном случае. Да и неудобном – тоже.
Вот это и была та нить, которая связала лондонского изгнанника с вожаком революционных демократов. „Ученый друг, приходивший возмущать покой моей берлоги“ – так с дружелюбной шутливостью именует его Герцен и восхищается его образным определением общины, такой древней и такой юной провозвестницы русского социализма.
„Высшая ступень развития по форме совпадает с его началом… История, как бабушка, страшно любит младших внучат“.
Чернышевский слишком мало пробыл у Герцена, что-бы между ними могла возникнуть личная дружба, но несомненно то влияние, которое в эти краткие дни произвела на Герцена сильная личность Чернышевского. Да он открыто признал это и именно в тех же словах, когда писал в „Колоколе“ в статье „Порядок торжествует!“ о том, что после петрашевцев „является сильная личность Чернышевского… Мы служили временным дополнением друг друга… В Петербурге, Москве и даже в провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедовавших слово“ и делом общую теорию социализма, которой частным случаем являлся сельский вопрос. Но, – прибавляет Герцен, и в этом „но“ заключается сердцевина вопроса, – в этом-то частном случае и была архимедова точка… выборное начало сельской общины… и общинное землевладение…».
Огарев находился в полном согласии с Герценом и Чернышевским. И не потому, что в этот период он совершенно растворился в личности Герцена, а потому, что он, как и они, странным образом упускал из виду, что социализм – это определенная организация производства. А ею и не пахло в общине. Ибо она, русская сельская община, – это, конечно, не почин будущего социалистического строя, а только пережиток «первобытного землевладения».
И это понимали даже утопические социалисты и настаивали на определенной социалистической практике производства.
Но в эти дни – тревожное и смутное начало шестидесятых годов – в этом месте, в насквозь прокуренной комнате герценовского дома по улице Вестбурн-террас, никто не сомневался, что русская крестьянская община и есть действительно та архимедова точка, тот зародыш, который в России разовьется, опережая всю Европу, в воплощение мечты передового человечества – подлинный социалистической строй.
Недоставало только Архимеда. Еще на подступах к шестидесятому году Огарев убедил Герцена, что создание в России тайной революционной организации полезно, возможно и необходимо.
На первой странице «Колокола», начиная с номера 197, стал частым новый лозунг: «Земля и Воля»:
«Вся положительная, созидающая часть нашей пропаганды сводится на те же два слова, которые вы равно находите на первых страницах наших изданий, в ее последних листах, – на Землю и Волю, на развитие того, что нет Воли без Земли и что Земля не прочна без Воли».








