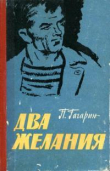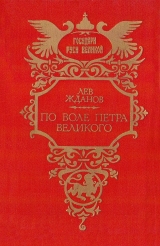
Текст книги "По воле Петра Великого: (Былые дни Сибири)"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Часть III
НОВОЕ ПО-СТАРОМУ
ГЛАВА I
ПРИЕЗД
Ранние непогоды и вьюги со снегами, бушевавшие надо всем необозримым простором северо-западной Сибири в первых числах октября, так же быстро пронеслись, как и налетели...
– Это – молодик-месяц снегами обмывался! – толковали старики и старухи, видя тонкий серпок новой луны, который вдруг заблестел на небе, то появляясь, то исчезая среди тяжёлых разорванных туч, быстро и грозно бегущих на запад от северного края небес, тёмного и холодного, как угроза смерти.
Ещё на западе горели края этих туч, среди которых садилось за далёкими вершинами лесистых гор усталое солнце, а серп луны уже быстро стал подыматься в небе, словно желая поглядеть, куда уйдёт-закатится багровый, пылающий солнечный диск.
И в эту пору, 6 октября 1711 года, выехал из Верхотурья на большом дощаннике новый хозяин Сибири, губернатор Матвей Петрович Гагарин. Целая флотилия меньших судов и лодок провожала его довольно далеко. Потом часть лодок и баркасов вернулась обратно; остальные, занятые свитой и багажом князя, следовали за передовым неуклюжим, но прочно построенным судном, какое и пригодно для плаванья по быстрой капризной Туре-реке, и дальше, по многоводному Тоболу.
На этой передовой барке, кроме довольно тесного и душного помещения в рубке и под палубой, был устроен на средней палубе большой шатёр, украшенный коврами, дорогими мехами. И вся барка была убрана красным сукном, а на мачте и на корме развевались по ветру расписные флаги с государственным гербом и с собственным, гагаринским, на котором красовались медведь, дуб и гагара.
После ненастья дни настали погожие, ясные; только по ночам мороз затягивал тонким ледком лужицы на берегу, оставшиеся после растаявшего снега... Красивые берега Туры, быстро катящей свои воды мимо скал, поросших лесом, сейчас были особенно живописны, когда листва чернолесья, смешанного с хвойными порослями, приняла всевозможные оттенки, от золотисто-жёлтого до ярко-красного, как кровавая листва на осинах.
Теперь, когда ветер стих и не шумел в прибрежных лесах, не разбивал с рокотом холодные волны реки о крутые, скалистые берега, тишина царила вокруг. Кликали только запоздалые стаи перелётных птиц, быстро проносясь порою к югу высоко в небесах; в прибрежных кустах трещали сороки, посвистывали снегири и клесты... И, разрезая эту тишь и покой, громко неслись порою звуки военных гобоев, целого оркестра, который взял с собой Гагарин на новое место своей службы. Барка, на которой помещался оркестр, шла на некотором расстоянии от передовой, и звуки долетали сюда очень отчётливо, как это всегда бывает на воде, но в то же время иными казались они, словно их извлекали не из грубой груди деревянного гобоя, а из другого, более гибкого музыкального инструмента...
Когда дорога, проложенная по правому, более ровному берегу Туры и ведущая от Верхотурья на Туринск, Тюмень и Тобольск, подходила ближе к реке, на ней видны были небольшие отряды драгун, которые сухим путём сопровождали речной караван для большей безопасности. Лошади Гагарина и его экипажи были тоже отправлены вперёд по берегу вместе с камердинером и несколькими слугами, чтобы приготовить как следует губернаторский дом к приезду князя. На одной из задних барок везли парадную карету Гагарина и его новую заграничную коляску, которые нельзя было пустить по ужасной дороге, соединяющей названные города.
А между тем на всём её протяжении видны были толпы людей из соседних с трактом сел и городов. Ямские работники, посадские и слободские люди, пашенные и оброчные крестьяне, каждая артель на своём участке, – чинили и чистили дорогу, «по указу великого государя и по приказу губернатора Сибири, князя Матвея Петровича Гагарина для проезду его губернаторского». Для чего «довелося по большой летней дороге, по которой ставлены повёрстные столбы по грезям и болотам и баяракам мосты мостить самые добрые, гати чинить, а по рекам и по речкам для переправы сделать плоты»... Так писал из Верхотурья воевода, или комендант, по новому наименованию, Иван Иваныч Траханиотов соседнему, Туринскому воеводе-коменданту, Митрофану Алексеевичу Воронцову-Вельяминову. А тот – дальше переслал указ до самого Тобольска через Тюмень...
В три сажени было наказано расчищать дорогу, но для скорости её пока чистили в две сажени. И вдоль всего пути забелели новые повёрстные столбы, причём прежняя, долгая, «сибирская» верста в тысячу сажень была поделена пополам, и таким образом, вместо прежнего расстояния между Тобольском и Верхотурьем, исчисленного в триста шесть вёрст, получилось новых шестьсот двенадцать вёрст. Вместо арабских цифр, как было раньше, Гагарин, любитель старины, приказал метить вёрсты по-славянски, буквами.
Рабочие, завидя караван, сбегались толпами у самого берега, с поклонами и громкими приветствиями встречали и провожали барки. Гагарин тогда выходил из своего шатра и снисходительно кивал им своей жирной головой. В Туринске, хотя и поздно, проплыли барки мимо городка, всё население высыпало на берег приветствовать нового хозяина Сибири. И даже дремавшие в вечернем сумраке колоколенки местных церквей вдруг заговорили, ожили, залились весёлым, праздничным перезвоном, как бывает при встрече владыки-митрополита или самого государя.
Гагаринская флотилия уже подплывала к небольшой приречной слободе, служащей летом пристанью для Тюмени, которая раскинулась подальше от реки, на сухом и лесистом ровном нагорье. Здесь, отделяясь от каравана, поспешили вперёд две-три лодки, чтобы пополнить запас свежего хлеба для свиты, запастись рыбой и живностью для стола. Быстро по течению неслись лодки, подгоняемые к тому же каждая четырьмя вёслами, не считая кормового гребца-рулевого. И двух вёрст не отъехал караван вниз по реке от слободы, как лодки уже стали нагонять его, нагруженные провиантом, который заранее был там принесён по распоряжению передовых гонцов, едущих по берегу верхом.
Одна из этих лодок, вместо того чтобы пристать с кормы и зачалить себя верёвкой к задней барке, на которой устроена была поварня и кладовые, опередила весь ряд судов и приблизилась к тому, где помещался сам губернатор. Кроме груза и трёх гребцов на ней виден был ещё четвёртый человек, пассажир, который уселся на мешках, сваленных на дно лодки.
Как только лодка настигла дощанник, человек поднялся, замахал рукой и крикнул:
– Слово и дело государево за мной!.. Известить надоть самово государя-боярина, князя-воеводу Матвея Петровича Гагарина.
Келецкий, который вместе с несколькими другими лицами из ближней свиты князя стоял уже на корме, ожидая приближения необычайного пассажира, обратился к прапорщику Нефедьеву, заведующему военным конвоем губернатора:
– А, надо его пусциць!.. Може, цо важно?.. Он нех тут бендзе... А я спрошу у князя...
Пока нежданного гостя подымали на палубу, Келецкий успел вернуться, получив распоряжение Гагарина.
– Hex пождёт тут. И жеб един чловек стоял караулем... А я буду пытать, хто он есть? А потом и допущу его на очи губернатора.
Затем, обратясь к прибывшему, он спросил очень ласково, в то же время стараясь своими сверлящими глазами поймать взгляд юрких, бегающих глазок этого человека:
– А хто ж ты есть, пане?.. И цо маш за дело?..
– Ивашка, Петров сын, Нестеров, приказный от якуцкого воеводы, господина Дорофея Афанасьича Трауернихта, посланный с двомя апонцами в столичный град Санкт-Питербурх к самому царю-государю батюшке! – низко кланяясь, смиренным, сладким голоском доложил спрошенный. – Челом бью пресветлому господину моему... Как звать-величать, не ведаю... не взыщи, батюшко...
– Я есм близки секретариуш вельможного князя-губернатора... Я слышал про тех японцув... Про них же писано было аж до Петербургу... То об них, пан Ян... Неструф, хочешь вельможному господину губернатору слово молвиц?.. Где же ж те самы япанезы? Почему ж ты, пан, без них?..
– А так што, государь мой, милостивец, пан секретарьюш, оставил я тех моих апонцов в городу, в Тоболеске до приезду государя-батюшки, князя Матвея Петровича... Как их милость соизволят... Сейчас в Питер везти али погодить... А слово моё не до них касаемое... а самое великое и тайное!.. И самое поспешное!.. Уж поизволь, сделай милость, сдоложить о том его княжеской милости... Я для скорости да ради тайности и не стал дожидаться в городу приезду ево высокой чести, наустречь поспешил... И уж не погневись, ваша милость секретарская: акромя самого князя-милостивца никому своих речей поведать не могу...
Ещё раз внимательно оглядел Нестерова Келецкий, пожал в раздумье плечами и проронил неохотно:
– Добже... Пожди мало, я пойду доложу...
– Уж не взыщи... уж потрудись ради дела государева, не ради меня, раба твоего, холопишки последнего! – часто кланяясь, причитал приказный вслед Келецкому, пока тот не скрылся за шатром.
Гагарин, захваченный неожиданным появлением приказного и заявлением о тайном деле государственной важности, приказал немедленно привести Нестерова в шатёр.
– Только раньше пошарьте у него, не припрятано ль чего по наущению врагов моих, чтобы повредить мне! – приказал князь. – Небось, и прежний воевода тобольский, и все злодеи государевы, воры и расхитители казны рады много дать, чтобы я не доехал до Тобольска, не обрушил кары и мзды на ихние головы... Знают, что еду «чистить» воровское их гнездо...
Приказ был исполнен точно и усердно; и когда минут через десять Нестерова втолкнули в шатёр, так что он почти кубарем подкатился к месту, где на низенькой тахте, устроенной вместо постели и устланной мягкими собольими и бобровыми мехами огромной цены, как в тёплом гнёздышке полулежал и нежился после завтрака князь, затягиваясь трубкой, на бедном приказном весь наряд был в полном беспорядке. Он одной рукой его одёргивал и оправлял, а другой старался получше натянуть на ноги свои пимы, потому что и за голенища этих мягких, тёплых сапог, заглянули два казака, которые и сейчас стояли у поднятой полы шатра, зорко следя за Нестеровым.
А юркий человечек ухитрялся в это самое время усердно отбивать земные поклоны перед Гагариным и умильно причитал:
– Светлейший, всемилостивейший государь-милостивец, яснейший князь воевода, свет Матвей Петрович, раб твой последний, холоп Ивашка челом бьёт!.. Не вели казнить, вели слово молвить!
– Мне он сказал, – кивнув на Келецкого, стоящего у тахты, лениво заговорил Гагарин. – Ты – японцев провожаешь к царю... Где они теперь... в Тобольске?.. Почему ты их там оставил?.. И что хочешь мне поведать, какое слово государево... Сказывай.
Нестеров, не вставая с колен, ближе придвинулся к князю и, косясь на казаков, стоящих позади, пробормотал еле внятно:
– С глазу бы на глаз надоть... дело великой тайности... Тебе одному да Богу! Вот, видит Господь!..
И он стал часто-часто осенять себя широким крестом.
Переглянувшись с Келецким, Гагарин обратился к нему по-французски:
– Он, сдаётся, совсем не опасен... Пусть люди уйдут. А ты останься.
Казаки скрылись по знаку Келецкого.
– А мой лекарь и секретарь тайный не уйдёт! – решительно обратился к приказчику Гагарин, видя, что тот с тревогой ждёт ухода Келецкого. – Что я могу знать, то и он может. Самое важное дело... Говори!..
– О-ох... изволь... О-ох, лучше бы... Да уж коли твоя милость, господине, так желает... Я уж.
– Ну, не мямли! – нетерпеливо окрикнул князь. – Дело толкуй, зачем пришёл...
– Единым духом, твоё светлое сиятельство. Единым духом. Только духу дай набраться. Впервое пред такой высокой особой привёл Бог предстать, – тараторил Нестеров, а сам словно обыскивал глазами вельможу, соображая, в каком он сейчас настроении и что он вообще за человек, и как лучше приступить к важному делу, которое могло принести и счастие и несчастие приказному, как он это давно смекнул своим сметливым умом. Уловив новую тень неудовольствия на полном, румяном после сытного завтрака с винами лице князя, Нестеров весь так и дёрнулся, словно взлететь хотел с земли, осел снова на пятки подогнутых под себя ног и заговорил.
Он подробно передал свою встречу с есаулом Многогрешным и его шайкой объездчиков, вернее грабителей. Особенно расписал находку камня редкой красоты и несметной цены.
Как только речь зашла о рубине, Гагарин насторожился и даже переменил свою позу, сел по-восточному на тахте, забыв свою трубку с душистым табаком. Заискрились глаза и у Келецкого, нервно заходили ноздри его тонкого, длинного носа.
Но Гагарин прямо загорелся от рассказа приказного-доносчика. Все знали, что наряду с женщинами, чуть ли даже не сильнее, чем их, князь любил драгоценные камни. Начал он их собирать ещё в юности, потом, восемнадцать лет тому назад, в 1693 году, попав воеводой в Нерчинск, близко к заветному Китаю, откуда вывозились самые редкие самоцветы, он пополнил своё собрание и продолжал обогащать его, так что теперь в России не было равного ни у кого, не считая, конечно, царских сокровищниц.
Поэтому, услыхав о рубине сказочной величины, да ещё не простом, а заклятом, то есть талисмане, князь не мог сдержать своего волнения, несмотря на выразительные взгляды и покашливанье сдержанного Келецкого, который следил всё время за доносчиком и чуял, что с ним надо быть очень настороже.
– Так, так. Видимое дело, царский клад. Ты прав, Иван. Иваном тебя звать. Ты прав. Ты приказный? Едешь в Петербурх? Ну, там награду получишь за свою службу, когда отвезёшь этих апонцев. А потом ко мне возвращайся. Я тебе хорошее место дам у себя. Я умных людей люблю. Ты умно сделал, что прямо ко мне, что никому... А где же теперь этот разбойник, Васька-есаул? Он, чай, не подумает везти государю камень. Продаст его за великую цену, кому ни на есть. Ранен он, ты говоришь? А купец этот где, у которого он отобрал? Говори же. Что молчишь? Какой ты нудный!.. Живее!..
– Вот, как есть про то и хочу доложить твоей милости! – чувствуя уже себя совершенно свободно, присев теперь на корточки на ковре у тахты, деловито начал Нестеров, отбросив прежний, умильно-рабский тон. – Купец-то не доехал и до Арамильской слободы... Крови он много потерял от порезу, оттого и помер. Приказчик, племянник евонный, с возами да с товарами еле упросился у Васьки-разбойника... На икону божился, что жалобы не донесёт... И с остатками товару отпустил ево Васька на Верхотурье... «Ежели, – сказывал ему, – ежели ты помянешь про нашу встречу, – быть тебе под кнутом и ноздри рваны, и всё отберётся, потому вы с дядей твоим вместе закон порушили самый строгий, обводные товары, запретные государевы, воровски везли, нигде не объявляя. А за ту вину – смертная казнь, сам знаешь!» Так парню толковал Васька. А парень и сам знает, что всё правда! Рад што сам цел и жив... Тихо до дому доедет... Скажет, што от хвори дядя помер в пути...
– Ну... ну... А этот... Васька где... и камень?..
– И Васька тута... и камень с им! – почти шёпотом заговорил Нестеров. – Меня он с японцами как отпускал к Тобольску, при мне нарошно своему ближнему казаку, Федьке Клычу приказывал... Мол, я недужен, так бери от меня государев клад и свези царю-батюшке... Чем он тебя да меня пожалует, то и ладно!.. Так он молвил... И при мне Клыч этот с тремя товарищами словно бы в путь пустился... А я – на Тобольск... А Васька тут же недалече пристал... в Салдинской слободе... Самая она разбойная слобода тута слывёт...
– Знаю, знаю, ну?..
– И поп тамо, на Салде... Отец Семён – всем ворам и разбойникам потатчик и заводчик. Почитай, толкуют, и притон у него воровской... Слышно, што и прислан он был сюды из-под самого Киева не то на приход, не то в ссылку за дела, за разные нехорошие... И с жёнкой, и с дочкой, лет семнадцать, почитай, уж будет... не то двадцать все...
– Знаю, знаю... слыхал я про этого попа, когда ещё сам в Нерчинске сидел... И в Тобольске проездом бывал... Так, ты говоришь, у него кроется этот Васька?
– Не то штоб у ево самово... А есть на погосте на салдинском... усадебка невелика, вдова тамо проживает, ошшо не старуха... И просвирня она у попа Семёна, а иные бают, што и за жену... Потому овдовел теперь поп-то... А баба нужна... А у той жёнки, у Панфиловны, слышно, и корчма водится, и девки гулящие живут... Даже из Тобольску к ней заезжают люди, до блуду охочие и до вина, особливо из духовенства... Словно бы в гости к попу Семёну... А замест того – дым коромыслом идёт у вдовы... у Панфиловны...
– Ну... ну! – нетерпеливо понукал Гагарин доносчика, вошедшего во вкус со своими разоблачениями.
– Так вот в байне у Панфиловны и притулился тот Васька-вор... И шведа лекаря к нему звали... И тот самый казак, который словно бы в столицу поехал клад государю отвезти, туды же вернулся скорёхонько... и с товарищами... Я всё сведал... Сам, словно нищий пришёл, подвязался, в отребья приоделся... да от других нищих всё узнал. Их за людей не считают, от них ничего не кроют... Нищие-то всё и знают, што где деется, по дворам шатаючись... Да ошшо ребятёнков я выспрашивал, што на дворе у Панфиловны... Дашь им сосулечку альбо паточник... Они тебе всё и несут! – сияя от своей находчивости, докладывал добровольный сыщик. – Вот я и прознал за наверно, што Васька тамо и, стало, камень-самоцвет при ём. Вестимо дело, пока жив, он ево не то Клычу, отцу родному не поверит ни на миг единый!..
– Ну, конечно! Ну, разумеется, – невольно вырвалось сразу у Гагарина и его врача-секретаря.
– Вот я и кинулся к тебе, государь-милостивец!.. Пока не оздоровел да не ушёл Васька-вор, изловить ево надоть и отнять клад-то! Неужели ево неумытому рылу такими миллионами владеть?! – с искренней завистью и злобой вырвалось теперь и у доносчика.
– Нет! И быть тому нельзя! Я не позволю того! – быстро, решительно отозвался Гагарин.
– То ж есть царска регалия... Потребно и сдать ту вещь его царскому величеству! – дополнил умный Келецкий решительное, но двусмысленное заявление князя.
– Да... Конечно, надо государю! – подтвердил тот, поняв поправку секретаря. – Ну, пока ступай, голубчик... Скажи, чтобы тебя там покормили, вина дали... Ты, вижу, устал... Наверное, голоден!..
– Второй день, почитай, маковой росинки во рту не было... Сломя голову гнал, тебя бы на пути перенять пораней, государь мой, милостивец! Ваше княжеское сиятельство!.. Тут только подъезжаю к слободе, а твой караван и вот он... Я в лодку прыг и челом добил тебе, батюшко-кормилец!..
– Ещё раз, спасибо за верную и усердную службу!.. Ступай... А мы тут подумаем, как без шуму да повернее изловить этого разбойника-душегубца Ваську и головорезов его... Ступай...
С земными поклонами, пятясь спиной к выходу, выкатился из шатра Нестеров. Келецкий вышел за ним, дал приказ накормить нового члена свиты и обращаться с ним хорошо.
А Гагарин, усталый от допроса и пережитых волнений, вытянулся на своей тахте, снова раскурил полупотухшую трубку и замечтался о неожиданной находке, о дивном рубине, который посылает ему судьба при самом вступлении в обладание Сибирью. Конечно, он и не подумает отослать камня Петру, если только рубин попадёт в его руки.
«Это – доброе предвещание на пороге новой жизни!» – подумал он, потягиваясь на своём мягком, тёплом ложе, поправил подушки, лежащие под головой, затих и стал прислушиваться к журчанью и плеску быстрых волн, ударяющих о бока барки, к лёгкому свисту и шуму ветра в снастях мачты, на которой был поднят парус, благо ветер попутный, в корму... И прислушиваясь к этим звукам, убаюканный ими, князь заснул. Келецкий, осторожно заглянувший минут через десять в шатёр, увидел сомкнутые глаза, услышал глубокое, ровное дыхание, осторожно опустил полу шатра и приказал окружающим:
– Же б было тихо! Князь почивать изволит!..
И до того полный порядок и спокойствие царили на барке, а теперь совсем замерли, притихли люди. Даже здоровяк-лоцман у рулевого штыря стал осторожнее двигать тяжёлое скрипучее правило... Только шум ветра и плеск воды о борты судна по-прежнему нарушали тишину, баюкая задремавшего вельможу.
А Келецкий, оглянувшись, видя, что всё в порядке, прошёл в жилое помещение барки, защищённое от ветра и непогоды и тоже богато убранное сукном и коврами. Здесь сидели у небольшого окошечка, затянутого слюдою, две женщины, единственные во всей ближней свите Гагарина: его экономка, панна Анельця Ционглинская, стройная, полная женщина среднего роста, лет двадцати двух с белой кожей, с нежным румянцем на щеках. Две тяжёлых косы каштанового цвета спускались по спине. Лицо её нельзя было назвать правильно красивым, черты его были не совсем соразмерны и слишком крупны для женщины. Но общее выражение затаённой страсти, веселья и игривой ласки постоянно лежало на этом лице, крылось в уголках полного, пунцового рта, искрилось в больших, слегка навыкате, тёмно-синих глазах, зрачки которых, расширяясь в минуты оживления или страсти, делали их совсем чёрными... И это выражение, эта затаённая чувственность и женственная покорность, написанная на лице, влекли к панне Анельце мужчин больше, чем влечёт холодная красота других женщин. Сейчас экономка, а вернее, одна из постоянных наложниц князя, что-то плела тонким крючком слоновой кости.
Напротив неё, по другую сторону небольшого столика, покрытого тяжёлой шёлковой скатертью, сидела вторая фаворитка, француженка – лектриса, как она числилась по штату, мадемуазель Алина Дюкло, и, гадая заграничными, красиво разрисованными картами, раскидывала их на всякие лады, складывала из них разные решётки, колёса, подобия ромбов, шестиугольников и других математических фигур, беспрерывно считая, пересчитывая карты и нашёптывая какие-то таинственные слова, похожие на заклинания.
Полька с большим интересом следила за действиями своей подруги, с которой жила очень мирно, как мирно порою уживаются в гареме разные жёны одного паши.
Как и можно было ожидать от избалованного, причудливого во всём, сластолюбивого князя, его лектриса представляла полную противоположность панне Анельце, экономке.
Живая, маленькая, нервная, пухленькая, но казавшаяся неполной, благодаря породистой стройности и гибкости стана, с детскими ручками и ножками, с невинным личиком монастырской пансионерки, с звонкой и быстрой речью, с причудливой волной золотисто-рыжеватых кудрей, – она казалась созданной из огня и блеска рядом с положительной, медлительной немного в движениях и словах, пышной и женственной сарматкой.
Но всё это было только внешностью девушки, которая успела в галантном Париже пройти всю школу страстей и разврата, попав в водоворот любовных приключений ещё девочкой одиннадцати лет, и в течение семи-восьми лет, пока она очутилась в доме Гагарина, вполне завершила своё многостороннее «образование» приличной распутницы, творящей крайние мерзости под маской гувернантки, модистки, лектрисы, а не явно, как это делают менее сообразительные остальные развратницы, уличные проститутки и явные кокотки.
Мечтой мадемуазель Алин было составить себе хорошее состояние, вернуться на родину, выйти замуж за какого-нибудь бравого военного и дожить в почёте и довольстве остаток жизни. Но излишняя нервность порою выбивала из колеи расчётливую содержанку, и она гораздо медленнее приближалась к заветной цели, чем могла бы по своим внешним данным и по тонкому, холодному уму, который светился в её серых, стальным блеском отливающих глазах...
При появлении иезуита обе женщина оживились. На обеих он влиял, как мужчина, но различным образом. У панны Анельци к чувственному вожделению примешивалось полное, благоговейное обожание Келецкого, как наставника. Она одна знала, что Келецкий – лицо духовное, тайно исповедовалась ему, получала отпущение грехов и тут же наново грешила и со своим исповедником, и с Гагариным, и ещё изредка с другими, кто умел повлиять на пылкое и чувствительное сердечко панны. Келецкого она обожала до того, что без раздумья совершила бы по его слову какое угодно преступление, не пощадила бы чужой и своей жизни.
Француженка относилась к нему не так.
Правда, она не знала наверное, кто такой этот всеведущий человек, врач, секретарь, начитанный правовед и богослов, который порою вступал в споры и побеждал самых прославленных, начитанных православных попов и светских любителей Священного Писания, каких много было тогда в русском обществе...
Она не задавалась вопросом, как и чем умеет влиять тихий, незначительный, чужой наёмщик на причудливого, избалованного, самовластного Гагарина, на Анельцю, на неё самое, на всех в доме. Француженка не допытывалась, какие тайные пружины и цели мешают сдержанному, гладко выбритому, услужливому человеку, общему любимцу и поверенному, использовать это огромное влияние для скорейшей наживы... Почему он так скромен в своих аппетитах и желаниях, так нестяжателен, почти бескорыстен?.. Отчего старается всех обязать, всем услужить и сам почти не требует взамен услуг, уступок или выгод, тайных и явных?..
«Наверное, недаром он прикидывается таким святошей!» – решила француженка и успокоилась на этом.
Влекло её другое к иезуиту: общность душ, убеждений, или вернее отсутствие всяких убеждений, презрение ко всему, что считается обычным, обязательным и даже священным для большинства людского стада!
Так и Келецкий и Алина называли окружающих, и на этом они сошлись. Себя они тоже не считали выше окружающих, а только умнее.
Усевшись между обеими, Келецкий обратился к Алине:
– Гадаете, очаровательная... Ну, что же выходит?..
Француженка стала ему толковать расположение карт, хотя он прекрасно знал все способы гаданья и даже учил им обеих женщин.
А экономка в это время не громко, словно про себя, проговорила по-польски:
– И как это скучно, если два человека говорят, а третий не понимает...
– Что же делать! – с ласковой улыбкой обернулся к ней иезуит, услыхав тихий, ласковый упрёк. – К сожалению, Алина по-нашему, по-польски не говорит. А по-русски вы обе плохо изъясняетесь...
– Што... што! – вмешалась Алина, уловив слово «по-русски». – Я панимай па рюсь. Я не кавариль карашо... Толька всо панимай, Мошна кавариль...
– Не, не, не! – заторопилась Анельця, видя признаки неудовольствия на лице своего идола. – Прошу говорить по-французски. Я же тоже понимаю... Это я так!..
И мирно потекла беседа, а барка всё дальше и дальше скользила, уносимая вперёд быстрым течением Туры...
* * *
Прошло уже три дня однообразного, медленного плавания. Караван, наконец, вступил в русло широкого, но тоже быстрого Тобола, и к концу пятого дня забелели вдали зубчатые стены, зазолотились маковки пятнадцати церквей Тобольска, этой тогдашней столицы Сибири, расположенной на правом, высоком берегу Иртыша, где небольшая речка Курдюмка впадает в многоводный Иртыш с востока, почти напротив Тобола, впадающего сюда же с юго-западной стороны.
Чётко обозначился город на высоком мысу, с его валами, темнеющими впереди белых стен, с башнями и бойницами на стенах. Высоко поднялась над другими большая каменная палата, построенная над главными воротами крепости недавно при помощи пленных шведов, мастеров, которых очень много очутилось в Сибири и преимущественно в Тобольске после начала Шведской войны.
Здесь и прокормить дешевле стоит пленников, и бежать им отсюда почти невозможно. Да и много пользы могли они принести своими знаниями в новом, полудиком краю. Это больше всего принял в расчёт Пётр, посылая сотнями и тысячами пленных шведов, эстов, ливонцев, финнов сюда со всеми их чадами и домочадцами. Опустелые мызы и дома заселялись в завоёванном краю русскими поселенцами, а сосланные в Сибирь пленники здесь строились заново, устраиваясь удобно на просторе, находя широкое применение для своих знаний и способностей в окружающей неразвитой среде и невольно прививая свои привычки и способы культурного общежития наивным, но смышлёным и способным сибирякам-старожилам.
Так как здесь было слишком далеко от других государств, не считая степных, буддийских и магометанских поселений, опасаться измены со стороны пленных шведов и немцев нельзя было, и их принимали даже в городовую и военную службу, не говоря о том, что они являлись по преимуществу и лекарями, и рудознатцами, и инженерами-строителями крепостей, и архитекторами...
Кроме крепостных стен и нескольких церквей, в Тобольске пока было немного каменных зданий. В Кремле, ещё не отстроенном, а только намеченном, высился губернаторский дворец, такой же неуклюжий, казармообразный, как и губернская палата, или канцелярия губернатора, как магистрат, частный дом и Гостиный двор, с особой палатой, где взвешивались и учитывались привозные товары, и с длинными амбарами для склада товаров. Всё это выглядело прочно, безвкусно и плоско, так как при постройке думали только о необходимом просторе для помещения, а не о внешнем виде жилища.
Особняком стоял ещё один, последний каменный дом столицы – «архиерейские палаты», помимо главного здания, состоящие из большого количества сараев, кладовых, людских и келий, поварен и амбаров, построенных частью из кирпича, частью из вековых сосен и лиственниц. И потому даже деревянные постройки этого обширного двора казались крепостцами, поставленными здесь и там на пространстве земли около полутора десятин, которое занимала архиерейская усадьба.
Самый же Тобольск со всеми посадами и пригородом был построен из дерева. В эту пору в нём насчитывалось тысячи две дворов, с населением около пяти тысяч, считая русских и туземцев – мусульман, у которых даже было построено своих две деревянных мечети в том краю города, где они селились особым мирком. Больше двух тысяч драгун и солдат также имели квартиры в самом Тобольске и по окрестным посадам, слободам и деревням.
Но это был люд пришлый, не имеющий своего угла. Иные роты уходили на охранную службу в крепостцы и городки по Иртышу, в разные концы огромной губернии, другие – возвращались оттуда на отдых; являлись новые кадры по набору или присланные из разных краёв Сибири. Проезжали ещё через город целые караваны и обозы торгового люда из России, направляясь и в дальний Китай, и в калмыцкие степи, и в Якутск, а также тянулись изо всех этих концов на Туринск и Верхотурье по пути в Россию.
Ещё в 1704 году Пётр прислал строжайший указ, чтобы под страхом смертной казни никто не мог выезжать из Сибири в Россию или из России в Сибирь иначе как через Верхотурье. Здесь была устроена главная таможня и досматривались все товары, с которых полагалось брать пошлины – и довольно высокие – в царскую казну.
И потому, начиная с осени и всю зиму, когда замерзали реки и болота, буераки и овраги заносило твёрдым настом снега и открывался почти прямой, лёгкий путь между городами, – длинные вереницы обозов тянулись со всех концов к Тобольску; а уж ближе к Верхотурью, к этим «узким вратам» Сибири – обозы прямо запружали порою путь, и медленной, широкою волной, потоком лошадей, верблюдов, саней, кибиток и людей всё это катилось через Верхотурье к селу Ростесу в Соликамском уезде; и только в пору большой Ирбитской ярмарки часть общего потока на время вливалась в этот небольшой городок, вернее, в торговую слободу, окружённую высоким, крепким частоколом и заборами, чтобы, как гласил указ, присланный из Сибирского приказа на Москве, «и приезжим торговым и сибирским, всяческих чинов людям, не явясь к таможне и не заплатя пошлин, из той ярмонки уехать было невозможно. А ежели такие люди в поимке будут, тем людям чинить жестокое наказанье, а те их товары брать на нас, великого государя, бесповоротно».