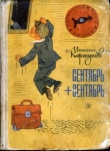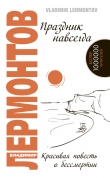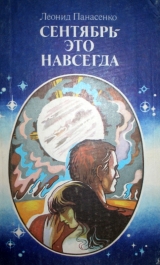
Текст книги "Сентябрь – это навсегда (сборник)"
Автор книги: Леонид Панасенко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Глыба ночи стала подтаивать на востоке. Роберт тронул штурвал, и планер повернул к берегу.
– Я как‑то прочитала роман Хемингуэя о войне в Испании, – сказала Бланка. – Я не поверила, что на войне могут думать о любви и так исступленно отдаваться страсти. Будто в последний раз… – Голос ее задрожал и прервался. – Только здесь, после всего, после тебя… я поняла Марию. Я поняла, что значит – в последний раз…
Роберт хотел возразить ей, но Бланка зябко повела плечом, освобождаясь от его, объятий.
– Я пойду, – сказала она. – Пока еще темно, пока под нами океан…
– Нет! – воскликнул Роберт, цепляясь за ледяные руки Бланки.
– Не задерживай меня, хороший, – ласково сказала девушка. – Мои силы на исходе. Неужели ты хочешь, чтобы я мучилась, чтобы меня сначала убил страх? Лучше помоги тем, кто остается… Вспоминай обо мне хоть изредка, ладно?! Прощай.
Небесная лыжница оттолкнулась от планера. Взмахнув руками, будто пытаясь поймать ускользнувшую опору, она исчезла во мраке.
– Бланка–а-а! – Его крик поглотило пространство.
Ни один атом мироздания не содрогнулся от случившегося, не сорвалась с чистого небосклона ни одна искорка звезды. На приборном щитке вместо красной зажглась зеленая лампочка: перегрузка и крен, мол, исчезли, режим полета вновь оптимальный.
Планер возвращался к Западне.
«Вот все и кончилось, – подумал Роберт. – Больным я ничем помочь не смогу. Они уйдут, все до одного. Как те птицы, которые не имели ног. «Помоги тем, кто остается…» Кому, Бланка? Людям, человечеству? Но я пигмей, пойми. Единственное, что я могу, – уйти за тобой. Ведь одиночество – одна из форм небытия. Я вправе выбрать. Я уже выбрал. Только перед этим… Есть еще Западня, в которой томится Змей. Нельзя, чтобы мое кошмарное создание досталось Хьюзу или его друзьям… Я помогу, любимая, тем, кто остается…»
Роберт набрал на браслете связи секретный код.
– Голоден! Голоден! Голоден! – тут же отозвался плазменный монстр. – Ощущаю острую нехватку энергии. Готов к активному поиску и потреблению.
– Потерпи минутку, – сказал Роберт, – Я уже близко.
Он мстительно улыбнулся, вспомнив постное лицо Хьюза. Наконец‑то полковник встретится с тем, кто обладает и его голосом, и его хищным нравом. Лицом к лицу…
Внизу в предутренней дымке показались строения Западни, огни посадочной–полосы.
– Слушай внимательно, Змей, – Роберт наконец расслабился, откинулся на спинку сидения. – Передаю изменения основной программы. Как понял?
– Вас понял. Готов зафиксировать изменения основной программы.
Роберт вывел планер на посадочную прямую. Туда, поближе к своему детищу, чтобы не мучиться долго…
– Я снимаю все запреты, – твердо сказал он в пуговку микрофона. – Все без исключения. Новая программа: полное потребление в радиусе двух миль с последующим самоуничтожением. Разрешаю экстренный выход на поверхность. Выходи на волю, Змей!
Яростный факел огня ударил из‑под земли неподалеку от лабораторного корпуса, будто под Западней, сокрушая ее постройки и все вокруг, вдруг ожил вулкан.
Взрывная волна подхватила планер буквально в нескольких метрах от посадочной полосы, швырнула обратно в небо. В следующий миг тело Роберта как бы взорвалось адской болью. Он замычал, не в силах ни дохнуть, ни выдохнуть. В глаза будто плеснули кипятком.
Сквозь кровавый туман он все же увидел, как самозабвенно пляшет Змей над горящими развалинами, факелы деревьев, черный дым пожарища, который спрятал остатки Западни. Центра больше не существовало.
Он все чаще попадал в провалы забытья, но все же пробовал ползти. Кое‑что у него получалось – он дополз уже до аллейки, которая вела от подножия холма к тому, что осталось от административного корпуса.
Возвращаясь из очередного провала, Роберт вдруг услышал высокий старушечий голос, который звучал где‑то в небесах, скрытых завесой дыма. Он узнал голос: так пела–плакала на похоронах его отца одна из старушек–плакальщиц. Когда ее голос начинал возвышаться над причитаниями, ему, десятилетнему, казалось – вот сейчас, сию секунду остановится сердце. От черного ужаса, жалости, непонимания того, как это отец, его добрый и веселый отец, мог вот так внезапно умереть.
Сейчас старушкин голос оплакивал прекрасную птицу, которая упала с небес в холодные воды, да не стала рыбой – камнем стала…
– Я иду к тебе, Бланка, – прошептал Роберт.
Ему послышался в небе второй голос, и он даже потянулся к нему навстречу, ломая аккуратно подстриженные кусты. Сбылось! Их отпевают вдвоем. Они уходят вместе…
Последнее, что увидел Роберт, – черную башню Змея, который все‑таки нашел хозяина. Монстр раскачивался над верхушками деревьев, готовясь уничтожить себя и своего создателя. От него исходил смертельный, поистине космический холод. Роберту померещилось, что в последний миг у плазменного чудовища вдруг обнаружилось подобие лица с парой огромных глаз.
Но вот чего в них было больше – сожаления или презрения, он так и не успел понять.
Залив Недотроги
Мне было девятнадцать, когда я впервые увидел море.
Случилось это вечером, почти ночью, несколько странным образом.
Когда я вышел к берегу, луна как раз спряталась. Холодная громада, чью глубину и необъятность невозможно было представить, таилась рядом, в нескольких шагах. На душе стало неуютно. Появилось жутковатое ощущение, будто я иду в темноте у края пропасти. Позже я понял: так большая глубина пугает плохих пловцов.
Стоял полный штиль. Чуть живая вода уходила во мрак и там соединялась с ним.
«Море всегда вне земли, значит, оно хоть немножко, а внеземное», – подумал я. Моря и океаны вдруг представились мне неким космическим существом, поселившимся миллиарды лет назад на Земле. Плюхнулось с небес, заревело, растекаясь, захватило почти весь мир, но часть суши не далась, уцелела. Живут теперь рядом. Опасное это существо или, может, доброе? Кто его знает. Ясно одно: чужое оно земле, чуждое.
«Ты что выдумываешь?» – плеснула волна и облизала мои босые ноги.
Будто по заказу, занавес облаков вдруг раздвинулся. На воде засверкал клинок лунной дорожки. Скалы и тропинку, таинственные глубины и ракушки под ногами залил зыбкий пепельный свет.
И сразу все изменилось.
Куда и девались тревога, ощущение опасности. Ответной волной плеснул в душе восторг: вот оно, море. Долгожданное, еще ни разу не виденное, невозможно красивое даже в этот сонный час.
Я побежал вдоль кромки прибоя, размахивая руками, подпрыгивая. Затем присел на первый попавшийся камень, задумался: «Как же я попал на берег?»
Странность заключалась в следующем. Кузьма Петрович, у которого я остановился, сказал, что возле его дома выхода к морю нет – сплошные скалы и обрывы. Надо, мол, около километра идти по тропе к дому отдыха. Я же, решив прогуляться, прошел от калитки сада буквально двадцать–тридцать шагов и наткнулся на неприметную расщелину в скалах. От нечего делать я протиснулся в нее и… очутился на берегу небольшого залива. Как же так? По–видимому, Кузьма Петрович разбирается только в вине и не знает толком окрестностей.
Я приехал в село из Симферополя последним рейсовым. Еще полчаса потратил, чтобы разыскать дом деда, адрес которого мне дал Коля Зинчук – наш фотокорреспондент.
Кузьма Петрович, маленький и какой‑то обиженный, сразу спросил рекомендацию.
– От Коли я, со Львова. Он у вас уже два раза останавливался.
– Белявый такой, с коробкой? – уточнил дед. От него здорово попахивало вином.
– Ага… Снимает у нас в газете.
– Знаю. Он и меня щелкнул, – Кузьма Петрович неопределенно кивнул, то ли признавая искусство Зинчука, то ли как бы говоря своим жестом: «Баловство все это», однако закончил речь вполне миролюбиво: – Давай паспорт – для прописки надо, и деньги вперед.
Я отдал деду паспорт и деньги. Кузьма Петрович небрежно положил их в карман и пошел в глубь сада. Через несколько шагов он остановился.
– Здесь улики стоят, – Кузьма Петрович показал на смутно виднеющиеся в темноте ящики. – Не перекинь, если ночью под градусом будешь идти.
– Почему обязательно под градусом? – удивился я.
– Про меня хоть под парусом, – хмыкнул дед. – Ты ж отдыхать приехал или как? Захочешь винца – в магазин не ходи. Своего продам.
– Спасибо.
– Не за спасибо. Полтора рубля литр. Зато вино редкое. Оно, зараза, меня сначала человеком сделало, а потом и погубило.
Дед включил во времянке свет и ушел.
Я осмотрелся. Металлическая кровать, столик, стул, возле двери – вешалка. Не густо, но жить можно. Улыбку вызвало постельное белье, на котором в каждом углу красовался черный штамп дома отдыха «Прибой». По всему видать, ходил в свое время Кузьма Петрович и в завхозах.
Мне не сиделось во времянке, хотя часы показывали полночь. Скалы так скалы. Хоть издали увижу море или, может, прибой услышу.
И вот – сбылось.
Сижу на камне. Море дышит у ног, спокойное, будто большой и умный пес. Потерянным колесом от чумацкой повозки катится над головой луна. А за нею в небе – соль. Рассыпали ее там видимо–невидимо, а кто, когда…
Мои смутные размышления прервали чьи‑то шаги – под ногами такого же позднего гуляки, как и я, хрустели ракушки. Я его пока не видел, но определил, что это мужчина – шаги были твердые, уверенные. Может, Кузьма Петрович тоже решил прогуляться перед сном? Нет, непохоже.
Я оглянулся.
Берегом шел высокий немного сутулый человек.
«Вот незадача, – с обидой подумал я. – Нельзя… Нигде нельзя побыть одному. Ночь, глухомань, а от курортников не спрячешься».
Незнакомец подошел ближе.
Теперь я рассмотрел, что он худ, одет в обычный костюм. Именно поэтому капитанская фуражка на его голове показалась мне карикатурно нелепой.
– У вас не найдется спичек? – спросил он. Голос был глуховатый и немного простуженный.
Я молча подал зажигалку.
Когда незнакомец не без труда добыл огонь, я пристальнее вгляделся в его продолговатое, загрубевшее от ветра и солнца лицо. Мне показалось, что я уже где‑то видел эти пронзительные ясно–карие глаза, морщины, которые будто шрамы пересекали лицо, эти короткие усы. Но где?
И вдруг я вспомнил. Невероятность догадки ошеломила меня.
– Вы?.. – пробормотал я и осекся.
«Лучше не приставать к людям со своими расспросами, – подумал я. – Похож? Ну, и ладно… Мало ли кто на кого похож».
Так я подумал, а спросил совершенно другое:
– Как вы сюда попали, Александр Степанович? Что вы здесь делаете?
Грин взглянул на меня остро, почти неприязненно. По–видимому, его при жизни о многом и не всегда уместно спрашивали. Затем будто дунул ветер и повернул флюгер его настроения. Грин улыбнулся. Так, словно достал из кармана последнюю серебряную монету.
– Я здесь с оказией, из Зурбагана, – сказал он и махнул рукой в сторону моря. – Я раньше жил неподалеку. В Феодосии… Осталась большая работа, роман…
– «Недотрога»? – спросил я. – Но ведь вы его написали только в уме, Александр Степанович. Сохранилось несколько отрывков. Четыре или пять.
– Нет–нет, – сказал Грин и затянулся. Огонек папиросы на миг осветил его грубое лицо. – Я записал… Почти все… Я торопился и не говорил Нине. Хотел ее обрадовать: вот, мол, история мастера Ферроля и его дочери Хариты, о которой я тебе столько рассказывал… Затем мы переехали в Старый Крым, я занялся другой повестью… Короче, рукопись где‑то здесь. Она не пропала – я это чувствую. Точно так же было с рукописью «Кораблей в Лиссе». Я знал, верил – и она нашлась.
Это был явно неуместный и жестокий вопрос, но он созрел давно, висел на языке и таки сорвался:
– Почему вы так рано ушли от нас?
На какой‑то миг, показалось, он оставил и меня, и этот берег, полетел в тихий городок, городок цветов и руин, в свой белый дом под зонтами высоких орехов. Наверное, он вошел и в свою комнату, где скучал на стене портрет Эдгара По.
Воспоминание обожгло Грина болью. Уголки губ опустились, и он ответил, тщательно подбирая слова:
– Вы знаете, я жил возле моря, и все равно мне с каждым днем все больше не хватало воздуха. Дурацкая болезнь – я не мог ничего съесть, умирал от голода и не мог даже подкрепиться глотком ветра…. В Зурбагане все было по–другому. Там я ходил здоровый и сильный, будто тысяча Гераклов. В тавернах знакомые охотно угощали меня вином, а смуглые девушки на улицах дарили быстрые и таинственные взгляды…
Мы медленно шли берегом и молчали. Такое состояние мне даже нравилось: я уже пробовал работать со словом и меня пугало, когда слов вокруг становилось слишком много. Они тогда мгновенно теряли цену и шуршали, будто мусор.
– А что вы, молодой человек, ищете у моря? – поинтересовался Грин.
Я рассказал ему о детдоме, в котором учился, своей работе в газете, о том, что уже напечатал две фантастические новеллы, но недоволен ими и мечтаю теперь написать хотя бы один хороший рассказ.
– О чем? – спросил Грин. – У вас есть сюжет? Вы его видите?
Я покачал головой:
– Нет. Есть пока только желание… Я пробовал. Ничего не получается. Нужна первая фраза. Тревожная и музыкальная. А ее нет. Еще я знаю, что в конце рассказа должна быть опасность, беда. И избавление. Я хочу, чтобы мой читатель облегченно вздохнул.
– Нужен ключ повествования, – согласился Грин. – Когда я начинал «Недотрогу», никак не мог взять верный тон. Раз сорок начинал… Тут ничего не посоветуешь. Все, кто пишет, знают ошибки предшественников и все равно повторяют их и мучаются каждый раз заново. Иначе ничего не получится… Одно скажу: чередуйте жизнь. Ныряйте в нее с головой, но затем обязательно отойдите в сторону, найдите укромный уголок и побудьте одни. Пока душа не закончит свою работу.
– Вы будто о живой говорите, – улыбнулся я.
– А как же иначе? – удивился Александр Степанович. – Разум – штука вспомогательная. Будто словарь или энциклопедия. А она – наш главный инструмент.
Грин взглянул на часы.
Я испугался. Вот уйдет сейчас, и кончится сказка. Все будет: море, скалы, солнце и брызги, но не станет чуда общения, и мир потеряет половину своего обаяния.
Будто поняв мои мысли, Грин сказал:
– Я здесь прогуливаюсь каждый вечер. Приходите. Вы умеете молчать.
Вернувшись в свою времянку, я сразу же нырнул под одеяло. Но только закрыл глаза, как опять увидел залив Недотроги. «Чем, кстати, не название?» – подумал я во сне. Затем декорации поменялись, и я очутился в редакции молодежки, где работал уже второй год.
– Грина, говоришь, видел? – переспросил наш завотделом спорта Володя Галий и рассмеялся: – Ну, ты даешь, старик. Это тебе в Крыму солнце голову напекло. Впрочем, ты же фантаст.
Прислушавшись, не идет ли по коридору редактор, он деловито предложил:
– Идем ударим по пиву. Что‑то репортаж не пишется.
Наверное, я согласился, потому что утром спал очень долго и проснулся только тогда, когда ко мне постучал Кузьма Петрович и сказал, что я просплю «царство небесное».
За ночь море набросало на песок буро–зеленых водорослей. От них остро несло йодом и рыбой. Вдоль воды важно прохаживались чайки, а на горизонте стоял белый пароход.
Я зашел в сельский магазинчик и теперь возвращался к дому Кузьмы Петровича. На пляже дома отдыха и дальше, на диком, было пустынно. За живой изгородью низкорослых акаций и маслин в дощатых корпусах с верандами начиналась праздная жизнь, когда одни только идут умываться, а другие уже успели позавтракать и спешат кто к морю, а кто по делам в село.
Чтобы запастись продуктами на всю неделю, я решил зайти по дороге еще и на рынок. Для села он оказался неожиданно большим и уже многолюдным. Правда, покупали пока мало. Шла большая приценка или лучше сказать – рассматривание. Я тоже медленно пошел вдоль рядов, над которыми пчелы развешивали нити сладких медовых запахов. Вот виноград. Прямо клубится гроздьями на столах – зеленоватый, желтый, с розовым отливом, а рядом синий, почти черный. Персики настолько спелые, что, кажется, прижавшись друг к другу, чувствуют, как пульсирует внутри сок. Его там так много, что кольни солнце пушистую щечку лучом – и плод брызнет, взорвется на прилавке. А с чем сравнить запах сотен дынь, лежащих в мешках, корзинах, горками на земле?
Будто врач–практикант первого пациента, я долго выстукиваю и выслушиваю огромный арбуз. Понятия не имею, как должен «звучать» спелый, но что‑нибудь ведь надо купить. Тем более, что арбуз такой прохладный и важный.
– Вот это встреча! Привет, пресса! – слышу вдруг за спиной знакомый голос.
Земляка зовут Петром, фамилия, кажется, Зайцев. Он кандидат в мастера спорта, заходил несколько раз к Володе Галию. Работает Петр в облпотребсоюзе, любит прихвастнуть своими «возможностями», но, по–моему, кроме джинсов, которые сейчас на нем, ничего не достал и достать не может. Впрочем, не исключено, что и джинсы куплены у спекулянтов.
Петр, захлебываясь от избытка впечатлений, рассказывает, как он «классно» устроился в пансионате, о том, что уже «закадрил» медсестру, которая принимала у него путевку, вспоминает последние соревнования:
– Я его ка–а-к врежу…
В следующий миг взгляд Петра уходит мимо меня, он напрягается, словно бегун в ожидании выстрела стартового пистолета.
– Есть фрахт, на двоих, – шепчет Петр и уходит в толпу, будто торпедный катер.
Через минуту он возвращается с двумя девицами. Одна – симпатичная полная блондинка – назвалась Катей, другая, черненькая и какая‑то лениво–расслабленная, – Светланой.
– Поэт, – со значением представляет меня Петр. – Два сборника, вечер в Политехническом, бешеные гонорары. Почитательниц таланта принимает только по четвергам.
Он весело подмигивает мне, а я немею от такой бессовестной лжи.
– Не скромничай, старик, – смеется Петр. Светлана после такой «информации» начинает просыпаться – разве что только не зевает и не потягивается. Петр же усиленно заговаривает зубы Кате, показывая тем самым мне, кого из девиц он «зафрахтовал».
– Здесь рядом чудесный пляж, – говорю я, вспомнив заливчик. – Я покажу. И людей там, наверное, немного.
– Клево! – неизвестно чему радуется Катя.
– Пошли, – командует земляк.
Я не сразу, но все же нашел расщелину.
Первым на правах спортсмена и «души компании» в нее втиснулся Зайцев.
Однако произошла заминка.
Петр долго пыхтел в расщелине, поворачиваясь там так и сяк. Наконец, с обескураженным видом выбрался обратно.
– Что это еще за дыра? – сердито спросил он. – Нет там входа. Только живот исцарапал.
– Меньше есть надо, – засмеялась Светлана, самая худенькая из нас.
Она решительно юркнула в расщелину. Все замолчали.
– Не получается, – сконфуженно призналась девушка через пару минут.
– А ты сам там был? – подозрительно прищурился Петр.
– Был. Вчера вечером. – Я покраснел, чувствуя, что компания подозревает розыгрыш. – Подержи арбуз.
Я боком вошел в щель между скалами и, цепляясь сумкой с продуктами за стены, выбрался на другую сторону.
– Ты где? – донесся, как из колодца, голос Петра.
– Здесь, – ответил я, не зная, что делать дальше. – Попробуйте еще раз, ребята.
– Издеваешься, старик, – зло хохотнул Зайцев за каменной стеной. – Сиди сам в своем «заповеднике».
Он, наверное, сказал что‑то девицам, потому что те тоже засмеялись: Катя звонко, а Светлана снова дремотно.
– Арбуз твой мы реквизировали, – крикнул Петр уже издали. – Приходи, старик, вечером на танцы. Адью.
Они ушли, а я, оставив сумку возле входа, направился к воде. На берегу заливчика никого не было. Это и удивило, и обрадовало. Я неважный пловец, к тому же сто лет не загорал – нечего людей пугать.
Как легко мне плылось первый раз в море! Потом это происходило сотни раз, впечатление потерялось в ворохе других, осталось лишь ощущение необыкновенной свободы. Я впервые не думал о глубине, о том, хватит ли сил доплыть до берега, где смогу достать дно. Плыл, пока не устал, затем вернулся – невесомый, счастливый.
Уже на берегу, когда шел к одежде, море подбросило еще один подарок: я споткнулся и, глянув под ноги, поднял средних размеров раковину.
«Будет память», – я бросил находку в сумку.
Хотелось поскорее увидеть Грина, но день только вошел в силу, а мы условились встретиться вечером. Попробую пописать, пока на сердце легкая тоска и неудовлетворенность миром, – решил я. Это чувство было мне уже знакомо. Особенно остро я испытывал его, когда попрощался с детдомом и остался один. Разумеется, у меня появились новые друзья, много времени занимала работа, кроме того, я готовился к поступлению в университет. И все же… Это была разновидность одиночества, точнее, его отголосок, как говорят врачи, – рецидив. Так болят даже по прошествии многих лет отмороженные пальцы. Особенно много холода было в воспоминаниях об интернатской жизни. Детдом всех уравнивал и был тем благословен. А вот школа–интернат, в которой я учился раньше… Огромная, с мраморными полами в высоких и длиннющих коридорах… По субботам, а особенно на каникулах почти все дети разъезжались к родным и родственникам. На весь интернат нас оставалось человек двадцать – таких же неприкаянных, как и я. Из разных классов и групп. Днем нас сводили в кучу, но мы были чужие друг другу – каждый в своей скорлупке. При первой же возможности, погибая от страха и тоски, мы все равно расползались по огромному пятиэтажному зданию, забивались в укромные места. Нас водили в кино и до отвала кормили в столовой, в клубе целый день гремел телевизор. А мы прислушивались в коридорах к своим одиноким, гулким шагам и вечером старались побыстрее уснуть, укрывшись с головой. В моей спальне во тьме едва виднелось восемнадцать заправленных кроватей, и от сознания, что ты один в большой комнате, становилось жутко и холодно. Там я, видно, и приморозил душу.
Теперь, когда я садился за стол и оставался один на один с листом чистой бумаги, мне всякий раз хотелось написать, как плохо одному. Однако нужные слова разбегались, перед глазами вновь появлялся фонарь, который качался во дворе напротив окон нашей спальни, и огромные тени веток ореха снова начинали кривляться на стенах, молча окружать спрятавшегося под одеялом мальчика.
Я промучился почти до вечера, извел несколько страниц, потом порвал написанное и отправился к заливу Недотроги.
Грин сидел на «моем» камне и курил.
– Как ваши поиски, Александр Степанович? – спросил я. – Нашли рукопись?
– Это была бы трагедия, – добродушно признался он. – Потом, позже… Интересен сам поиск. Я как бы возвращаюсь в те годы, воссоздаю их, начинаю переживать заново. Может, я напишу совсем другой роман. Или повесть.
– Так «Недотрога» только повод? – уточнил я.
– Вы нарушаете правила игры, молодой человек. Не узнавайте все до конца – вам самому же будет неинтересно. Мы обязательно найдем рукопись. Но по пути к ней столько интересного: встречи с людьми и приключения, тайны и находки, наконец, радость общения с морем, звездами, камнями, травой… Кстати, вы не были здесь весной?
– Нет, – ответил я, удивившись непоследовательности Грина.
– Жаль, – вздохнул он. – Мне постоянно не хватает слов, чтобы изобразить самое простое. Скажем, как цветет в горах тамариск. А попробуйте, например, передать запах обыкновенной придорожной полыни. Вот если бы можно было смешать воедино слова, краски, звуки, запахи. Но и этого мало. Мы не умеем передавать ощущения, чувства. Вот главное… Вы можете вспомнить о кино. Нет. Это попытка, эксперимент. До настоящего синтеза, передачи мироощущения еще далеко. Мы все равно немые.
– Бог мой! – воскликнул я. – Если вы, Мастер, мучаетесь невысказанностью, невозможностью найти словесную форму, в которую поместилась бы жизнь, то что остается мне. Я полдня сегодня марал бумагу. И ни одно – представьте! – ни одно слово не заговорило. Они вели себя так, будто я их позвал на казнь.
– Стоп, – перебил меня Грин. – Запишите, это удачное сравнение.
Прищурившись, он посмотрел на закатное небо, улыбнулся:
– Почаще бродите по берегу. Быть может, вам повезет и вы найдете волшебную раковину.
– Местный фольклор?
– Да, легенда… Сейчас на удивление тихие ночи. Так вот. Именно в такие ночи дельфины, не боясь пораниться о камни, подплывают вплотную к берегу. Смотрят, что мы понастроили возле моря, на наши бесчисленные следы, переговариваются. Их любовь к людям необъяснима. Возможно, несмотря на то, что мы их часто губим, они все равно считают нас своими братьями. Легенда об этом ничего не говорит… Под утро дельфины уходят. В знак бескорыстной любви они выбрасывают на берег раковину. Каждый ее может найти. Одному она пепельницей будет, другому – сувениром. А тому, у кого не глухое сердце, раковина нашепчет необыкновенную историю.
Александр Степанович замолчал.
– Только записывай, – пошутил я. – Теперь мне ясно, откуда берутся многотомные собрания сочинений.
– Как бы не так, – вздохнул Грин. Он приблизил свое лицо к моему и, глядя на меня внимательно и строго, сказал: – Волшебная раковина, к сожалению, разового пользования. Расскажет историю – и умолкнет. Навсегда. Потом ею хоть гвозди заколачивай. Но есть одна странность…
Он замолчал, достал папиросы.
Я понял – продолжения не будет. Впрочем, и так все ясно.
– Где вы остановились, Александр Степанович? – спросил я. – Вы не боитесь, что вас узнают, начнут досаждать расспросами?
– Здесь рукой подать до Зурбагана, —объяснил Грин. – А вон за той скалой у меня стоит славная лодка. Кстати, вам пора домой.
– Но я не собирался, – запротестовал я.
– Поспешите, – таинственно сказал Грин. – Дома все поймете.
Я не стал спорить. Вернувшись в свою времянку, включил свет, осмотрелся. Никаких признаков «чуда». Подумалось:
«Наверное, я надоел Александру Степановичу окололитературными разговорами. Вот он меня и отпровадил романтическим способом».
Я поужинал и решил разобрать свои припасы. Меж консервных банок первым делом попалась раковина, которую нашел утром на берегу. От нечего делать приложил розовую створку к уху: шумит ли в ней море, как говорят?
Раковину и впрямь наполняли какие‑то звуки. В них при желании можно было без труда различить и шипение прибоя, и всплески волн. Я уже хотел положить свою находку на стол, как вдруг случилось невероятное. В хаосе звуков, которые жили в раковине, мне послышался человеческий голос. Тихий, едва различимый, который что‑то сказал о тучке и одиноком всаднике.
Я замер.
«Неужто… волшебная? Не может быть. Грин на ходу сочинил ту легенду – разве не ясно. Но голос. Ведь я отчетливо слышал голос…»
На всякий случай я схватил ручку, придвинул чистый лист. Затем поплотнее прижал к уху раковину. Будто сквозь шорох палой листвы опять пробился далекий голос. На сей раз негромкий, но отчетливый:
«В вышине, среди чистого неба, мчалась белая тучка. За ней свирепой ордой неспешно двигались черные грозовые облака, и это пушистое создание небес казалось одиноким всадником, который что есть силы удирал от погони…»
Я вздрогнул, будто это гнались за мной, и стал поспешно записывать:
«В вышине, среди чистого неба, мчалась белая тучка. За ней свирепой ордой неспешно двигались черные грозовые облака, и это пушистое создание небес казалось одиноким всадником, который что есть силы удирал от погони…
Заросли полыни и маков. А еще каленая земля, почему‑то пахнущая муравьями. Он упал на нее, будто в воду. Удивленные маки стряхнули свои лепестки. Он не заплакал, потому что несказанная горечь сжала маленькое сердце, перехватила дыхание. Он решил умереть. Лежал, втиснув горбатое безобразное тело в полевые цветы, и ожидал молнии, которая испепелит его. Молнии не было. Вместо нее в вышине удирал и никак не мог удрать одинокий всадник, а где‑то далеко, возле таверны, опять вспыхнула перебранка и грянуло три выстрела.
Мигель знал, что это могло значить. Старый Горгони иногда все же узнавал, что его сына поколотили в поселке мальчишки. Тогда он выскакивал из таверны, стрелял куда глаза глядят и яростно выкрикивал:
– Сам дьявол еще в утробе матери подменил моего настоящего сына на этого выродка. Каждый–всякий бьет его, а он, видите ли, не может вытряхнуть из обидчика его вонючую душу. Горе мне, несчастному! Как упросить дьявола, чтобы взял назад этого выродка? Ну ничего! Для начала я пристрелю хоть одного пса из тех, что не пьют со мной. Берегитесь, корсиканские ублюдки! Горгони начинает мстить за свой позор…
Потом он выплевывал табачную жвачку и вновь шел утолять свою неистребимую жажду. К этому уже все привыкли.
Матери Мигель не помнил. Только изредка, когда мальчику становилось совсем невмоготу, сияющим крылом касалось его нечто удивительно теплое и ласковое. В сердце просыпалась щемящая боль, глаза переполняли слезы. Мигелю казалось, что это и есть мама, ее добрый дух, который никогда не обижает, а только прощает и одаривает лаской.
Одинокий всадник все же удрал за горизонт. Мигель еще раз всхлипнул и поднялся. Что поделаешь – даже небо не принимает такого безобразного мальчугана. А может, отец и правду говорит, что он сын самого Дьявола? Мигель почистил одежду. Пустырями и зарослями поплелся к замку. Когда‑то богатый и большой род Горгони теперь окончательно перевелся, замок превратился в развалины: ночами в нем носились стаи голодных крыс. Разве только в каминном зале собирались иногда давнишние друзья Горгони – контрабандисты и пираты чуть ли не со всей Корсики. Тогда до утра не стихал перезвон бокалов, раздавались взрывы ругани и хохота. А то еще приводили с собой каких‑то лохматых, грязных женщин, и бокалы звенели громче. Отец первым заводил песни, в которых говорилось о бурном море, богатой добыче, ну и, конечно, о пузатых бочонках с ромом и последней пуле, которую он приберег капитану…
– Горе ты мое, – заплакала кухарка, увидев побитого Мигеля. Прижгла настойкой из трав царапины на его лице, наложила в тарелку мяса. Только теперь мальчик вспомнил, что не ел с самого утра. Рвал большими кусками лепешку, жадно глотал, все прислушиваясь, не слышно ли на лестнице тяжелых шагов отца.
Под вечер Мигель спустился во внутренний двор.
Здесь было уютно и тихо. По углам из полуразрушенной кладки выбивались молодые побеги, а возле пристройки на кильблоках стоял небольшой парусник. Старик Горгони долго возился с ним, чтобы получился он быстрым и неприметным – призраком скользил вдоль побережья. Парусник был готов, и сегодня вечером отец собирался испытать его – спустить на воду…
Во дворе пахло свежим деревом. Мигель нацеплял на себя золотых завитушек стружки, присел возле мачты. Прикрыл глаза. И привиделось ему вольное море, по которому мчится сказочный корабль. И он, свободный от злого отца и недобрых людей, стоит рядом с капитаном, а тот обнял его. Вскрикивают чайки, все выше волны за бортом. А там, впереди, куда несут их паруса, уже виден берег и город, сотканный из солнечных лучей. И живут в том городе одни поэты, художники и музыканты.
Под руку мальчику попался котелок с засохшим клеем. Хотел было выбросить, но вдруг заметил голубые и розовые разводы плесени, изумился. Привиделся ему там весенний сад: земля усыпана лепестками, деревья в лощину сбегают, будто белые призраки плывут на пахучих ветрах. А еще тонко звенят пчелы. Эх, если бы ему краски, о которых он столько слышал! Как легко можно было бы изобразить все это! Вот кружатся в воздухе тоненькие паутинки. Они то собираются н хороводы, то вновь разлетаются, и ветви почтительно клонятся, уступая им дорогу. А то все замирает на миг, и остаются только кружева из этих паутинок, покой деревьев и белое кипение цветов. Это и есть пахучие ветры, которые бродят в садах. Интересно, умеет ли кто‑нибудь на земле рисовать ветер?