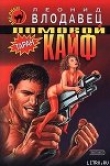Текст книги "Закон рукопашного боя"
Автор книги: Леонид Влодавец
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Покамест Клещ воевал, боль немного угасла. А теперь заболела и кровью сочиться стала рана.
– Видать, к Марфе надо идти! – промолвил старик, взвалил связанного и потерявшего сознание Костя на спину и поволок подземным ходом, повесив польский карабин на шею, а кольцо фонаря взяв в зубы.
Шел он тяжело, пошатываясь, с передыхами, чуя, что все Марфино снадобье уже вышло и живет он теперь только собственным остатком сил. Хватило сил дойти до хода, который выводил его в подземную штаб-квартиру. Тут сзади радостно крикнули:
– Дедушка! Это я, Агап!
Клещ опустил Ржевусского на пол и дождался, пока из темноты к нему не подковыляли Агап с Надеждой.
– А, господин Ржевусский! – узнала Надежда, кривившаяся от боли. – Опять попался? Везучий, лейтенант!
– Ладно, – проворчал старик, – идем-ка покуда ко мне, а после вас надобно в лазарет определять.
– А может, у тебя, старинушка, тут и гошпиталь есть? – Надежда попыталась улыбнуться.
– Может, и есть, – хмыкнул Клещ. – А покамест в «штаб» пойдем.
Крошка, испуганно сидевшая в углу, даже повеселела, когда увидела входящих.
– Боже мой, вы вернулись! – воскликнула она и осеклась. Когда Клещ поставил на стол фонарь, свалив Костя на лавку, Крошка увидела, что все четверо запачканы кровью. Меньше всего крови было на Агапе – он только испачкался, когда вел раненую Надежду.
Клещ жадно зачерпнул из кадки квасу, выпил одним духом, отвалился к стене.
Спустя полчаса Клещ и Агап втащили Костя, у которого начался жар и бред, на площадку перед запертой дверью в Марфин подвал.
Клещ постучал трижды, условным стуком. На сей раз Марфа открыла почти сразу.
– Господи, прости и помилуй, – перекрестилась она, – никак убил кого?
– Ну, кого убил, того не воскресишь, – проворчал Клещ, – ты, чай, не господь бог. Живой он, только битый крепко. Смотри, чтоб вылечила!
– Бог даст – вылечу, – сурово нахмурилась Марфа, – а коли нет – не обессудь. Поротых-то мне не впервой лечить. Снимай с него все да клади на живот… Ох ты, мать честная, да его и по животу стегали! Ты, что ли, изверг?
– Пришлось, – буркнул Клещ, – не ждать же, покуда голову срубит?
С Констанция стянули сапоги, штаны, мундир и все исподнее. Он уже не рвался никуда, был вял, лишь бормотал что-то невнятное. Марфа деловито готовила какие-то чистые тряпки, приспосабливала на них мазь из глиняной крынки.
Когда Ржевусского, смазанного и перевязанного, наконец уложили животом на тюфяк и прикрыли одеялом, Марфа увидела рану на плече Клеща и проворчала:
– И тебе, душегуб, досталось? Эх, за малым ведь не пришибли! С того, кто тебя убьет, господь все грехи спишет!
– Погоди, – отстранился Клещ, – сейчас тебе еще увечную приведу. А мое дело малое, после поглядишь.
Клещ с Агапом отправились обратно и вернулись с Надеждой.
– Батюшки, – удивилась Марфа, – никак барышня Муравьева… Иван Юрьич-то, поди, слезами изойдет, коли узнает! Ну-ка, мужики, пошли отсюдова!
– А я тоже ранетый, – хмыкнул Клещ, – перевяжи сперва, а уж потом пойду.
Споро и ловко наложила Марфа Клещу повязку, дала новую рубаху и нитку с иголкой – армяк простреленный чинить.
– Идите с богом, – сказала Марфа, – барышне полежать у меня придется. С ногами-то шутки плохи!
Пока Марфа пользовала девицу Муравьеву, Клещ и Агап, добравшись до Клещевой «штаб-квартиры», взялись разглядывать план.
– Вона как… – водя грязным пальцем по желтоватой бумаге, бормотал Клещ. – Стенку-то, что ты, внучек, пробивал, не столь давно и поставили. Правильно, стало быть, Иван Юрьич говорил: «За этой-де стенкой дорога до самого царя…» Все хитрил, боялся небось, что я чего украду, из Кремля-то… А стенку-то по его приказу и клали. Вот она, красным нарисована. И вот эту тоже. И тут, и тут вот еще. Конечно, небось сама матушка Катерина велела, а он-то назирал, чтоб добро сложили. Понятно… Сказывал Иван Юрьич, что тогда велено было Кремль сломать, а на месте его возвесть дворец небывалый. Но, видать, не заладилось чего-то – бросили… А ходы-то загодя закладывали, чтоб в новый дворец через них не пройти. Так, глянем-ка на тот, по которому мы с Надеждой идти не решились. Этот-то не заложен, но под цифирью надо искать, чего-то про него прописано. Во… «Сей ход рыт зело давно и креплен деревом, коее суть дряхлое и червем изъедено. Выведен оный в подвал Теремного дворца близь старого нужника, от коего вонь и сырь идет и нечистоты в ход сочатся. Оный ход перегораживать стенкой разумею ненадобным, ибо вскорости и сам рухнет…» Однакож, как я думаю, не рухнул еще.
– Неужто пойдешь, дедушка? – прошептал Агап.
– И ты пойдешь, внучек… – нехорошо улыбнулся старик.
У Агапа сжалось сердце. Испуг отразился на лице, и Клещ помрачнел:
– Пойдешь, пойдешь! Божился мне, что слушаться будешь? То, что было, – это присказка. Сказка впереди.
НА ДНЕ
Палабретти мог бы и не проснуться. Он уже несколько раз не то терял сознание, не то засыпал, теряя счет времени и ориентировку в пространстве, хотя вроде бы никуда не мог свернуть и сбиться с дороги. Сил у него почти не было. Продвинувшись на какой-нибудь десяток метров вперед, он обессилевал и впадал в забытье. Сырость, холодные камни вытягивали тепло, высасывали энергию, а он уже утратил алкогольный подогрев, почти сутки находясь в кромешной тьме и адской вони. Впрочем, вонь его уже не беспокоила. Привык. Он уже не мог как следует соображать и поэтому не догадывался, что каждый раз, забывшись и перестав ощущать себя, сползает назад по уклону трубы. Фактически он некоторое время вообще не мог продвинуться вперед, барахтаясь где-то в середине трубы.
В последний раз он отключился надолго. Наверно, в забытьи он пробыл несколько часов. Голову сверлила боль, все тело ныло, но, как видно, включился какой-то скрытый запас сил, который тело приберегало на крайний случай.
Палабретти пополз, упрямо протискиваясь вперед, не останавливаясь и не жалея локтей и коленей. Возможно, этот запас сил был дарован ему богом, которому Сандро возносил горячие и путаные молитвы. Главное, о чем молил маркитант, был свет. «Дай, господи, увидеть свет!» – вот и вся молитва.
И он его увидел.
В очередной раз приподняв голову, Палабретти зажмурил глаза. Впереди тускло маячил овал света. Палабретти показалось, что это мерещится, что это ошибка. Он зажмурился, еще раз поморгал – нет, овал оставался! Сил прибыло, Сандро пополз быстрее и спустя пять минут увидел уже не овал, а круг. Он был на верном пути. Труба была искривлена, но Палабретти уже прополз вогнутый участок, и ему оставалось лишь десять метров до цели. Хотя он полз намного быстрее, чем прежде, эти метры были самые тяжелые. Тем не менее вскоре Палабретти оказался у обреза трубы.
Однако, когда он достиг цели и глянул туда, откуда шел свет, внушавший надежду на спасение, разочарование его оказалось чудовищным.
Труба выходила в глубокий кирпичный колодец с отвесными сырыми и осклизлыми стенками, обросшими теми же омерзительными водорослями, что и труба. В полуметре от трубы, источая зловоние, тускло поблескивала поверхность воды, даже не воды, сказать точнее, а нечистотной жижи. А свет, отбрасывавший блики на воду, шел сверху, из круглой дыры, находившейся метрах в десяти.
И то был не солнечный свет, а красноватый дрожащий свет слюдяного фонарика.
Это был тупик похуже прежнего. Все надежды рушились.
Палабретти отчетливо понял, что отсюда ему не выбраться ни за что. Если там, где фонарь, не появятся люди, то Палабретти останется здесь и через несколько часов отдаст богу душу.
То, что это выгребная яма, Сандро понял некоторое время спустя. В маркитанта вселился некоторый оптимизм. Если наверху горит фонарь, значит, люди сюда заходят и справляют свои надобности. Если так, то рано или поздно кто-то должен был прийти, и у Палабретти появлялись шансы. Мизерные, но шансы…
Он лежал в трубе, изредка высовывая голову в колодец и прислушиваясь. Ждал. Но гулкая тишина лишь изредка нарушалась плеском сорвавшейся со стены капли. Сверху не долетало никаких звуков. Только мерцало сквозь дыру пламя невидимой свечи в фонаре, тусклое, почти призрачное. А холод и предательская слабость опять накатили на Сандро. Начали неметь пальцы ног и рук. Сырость отбирала тепло и медленно убивала Палабретти. Прошел час, другой…
Сандро понял, что если он не будет спасен в последующие два часа, то заснет вечным сном. Глаза уже смыкались, ощущение холода притуплялось. Конец близился.
Но тут послышался глухой, но недальний стук. Кто-то бил металлом по камню. Стук шел не сверху, а откуда-то из-за стен колодца. Удар повторился и прозвучал громче. Третий удар оказался еще звонче, и следом за ним из стены, что располагалась напротив трубы, выпал кирпич. Плеснула вода, брызги вонючей жижи долетели до лица Палабретти. Еще удар и плеск упавших кирпичей. Сандро поднял голову и разглядел на темно-буром фоне стены колодца светлое пятно. Это была дыра, через которую проникал свет фонаря. Там были люди! Там было спасение! Сандро хотел крикнуть, но издал лишь сипение – у него пропал голос. Несколько новых ударов расширили дыру, Сандро увидел на секунду лицо человека и хотел помахать ему рукой, высунувшись из трубы, но рука, ослабев, не хотела повиноваться. Отчаяние охватило маркитанта. Спасение было в двух шагах, а он даже не мог подать о себе знак. Вдруг те люди, что долбили киркой стену колодца, увидев нечистоты, уйдут, а то еще и заделают дыру? Титаническим усилием Сандро пододвинулся к обрезу трубы. Он жадно захватил воздух, начиненный удушливым смрадом, и испустил стон, который был услышан.
– Стой! – приказал Клещ, предупреждая новый удар Агапа по каменной стене…
Три часа назад они вошли в старинный ход, где крепь была и впрямь ненадежна.
Когда появилась дыра и густая вонь хлынула в подвал, Клещ досадливо поморщился:
– В нужник прорубились… – И вот тут-то и послышался шорох, а затем донесся стон…
– Живой кто-то? – шепотом спросил Агап. – А может…
Он хотел сказать «нечистый», но подумал, что лучше не поминать.
Клещ, стараясь не показываться в дыре, посветил фонарем и сказал:
– Мужик какой-то из трубы глядит. Квелый, еле глаза лупают. Ну, раздолби-ка дыру!
Агап долбанул раз, другой, третий… Кирпичи плюхались в воду, и скоро уже можно было протиснуться в дыру, да только в жижу лезть не хотелось.
– Мил человек! – позвал Клещ. – Отзовись-ка! Али рукой подвигай! Живой ли?
Палабретти услышал русскую речь, но она его не испугала. Он был готов принять помощь хоть от самого дьявола. Ничего, разумеется, не поняв, он вяло пошевелил рукой.
– Живой, – констатировал Клещ, – а в дерьмо лезть неохота.
– Жердину бы али багор какой, – помечтал Агап. – Багор-то сподручнее, коли у него руки не держат…
– Цыц! – вдруг прошипел Клещ.
Агап замолчал. Сверху послышался лязг засова и скрип открываемой двери. Потом опять лязгнул засов, шаги перешли в топтанье на месте.
– Никак кто-то до ветру пошел… – прокомментировал Клещ шепотом.
Но тут произошло непредвиденное.
Вверху, там, где слышались шаги, вдруг треснуло, грохнуло… Клещ с Агапом шарахнулись от дыры, отскочив в глубину подвала. Откуда-то сверху и колодец рухнул целый дождь кирпичей, мигом заваливший и колодец, и дыру в кладке. С десяток кирпичей ввалилось и в подвал.
– Ну, Агап-Еруслан! Раздолбал так раздолбал – весь нужник навернулся! – пробормотал Клещ. – Ну да ладно, хрен с ним, с нужником этим, а мужику, которого завалило, – царствие небесное, не виноваты мы. Могло и нас придавить, если б сунулись. Ладно, надобно подбирать иное место, может, и вылезем где…
НАВЕРХУ
– Это катастрофа, – пробормотал де Сегюр. – Чудовищная, нелепая катастрофа!
– Самое главное – сохранить все в тайне! – Коленкур держал в руке очиненное перо, и оно тряслось, потому что генерала била дрожь. – Хотя бы сами обстоятельства!
– Вы правы, – кивнул Лористон, – надо держать все в максимальной секретности. По крайней мере, до тех пор, пока это будет возможно.
– Не представляю себе, как это удастся, – выдавил де Сегюр, – вы понимаете, господа, ВСЕ последствия?
– Не хуже вас, граф. Малолетний Наполеон II при маме-австриячке. Оживление роялистов, новая Вандея, мятеж в армии. Кто будет вести переговоры с русскими и от чьего имени? Наконец, кто поведет армию? Мюрат? Ней? Сумасшедший Жюно? Даву? Вы или я? – Коленкур уронил перо и в волнении заходил по комнате.
– Как вы сохраните это в тайне? – повторил Сегюр. – Сейчас двадцать гвардейцев работают в этой шахте, разбирая обломки. Вы можете заставить их молчать?
– Они присягали. Несоблюдение тайны – расстрел.
– Тогда не было бы ни шпионов, ни изменников. Но они есть. Кроме того, допуская, что гвардейцы будут молчать, я не уверен, что в штабе будут молчать точно так же. Болтунов у нас хватает. Единственно, за кого могу поручиться, так это за мамелюка Рустана.
С шумом вошел Себастиани, от него шел не самый приятный запах, но в глазах была неподдельная радость.
– Он жив, господа! Жив и почти не ранен. Маленькие царапины. Правда, его нужно тщательно обработать, возможно заражение.
– Господь явил чудо… – сказал де Сегюр. – Когда я увидел эту кучу кирпичей…
– Мы можем войти к нему?
– Не меньше чем через полчаса. Вся одежда изорвана и испачкана, ее пришлось выбросить тут же, прямо в шахту. Сейчас Рустан отмывает его в третьей воде. Доктор сказал, что у сира нервный шок. Он с трудом воспринимает окружающее. Какие-то навязчивые идеи. Возможно, последствия сотрясения. Падение вместе с кучей обломков с высоты двух туазов – это кое-что.
– Помутнение разума, – нахмурился Коленкур, – это похуже, чем смерть.
– Разум монарха – разум его приближенных, – заметил Лористон. – Люди должны видеть императора, а разум проявляется через приказы.
– Заменить гения невозможно… – пролепетал де Сегюр. – Мы погибли.
– Не торопите события, – ответил Лористон. – Пока все еще неясно.
– Что вы имеете в виду, генерал?
– Я просто прошу не торопиться с выводами. Если войска смогут видеть вождя, они будут уверены в победе. А наше дело – поддерживать эту уверенность.
Вошел лейб-медик, бледный, растерянный, утомленный.
– Он спит. Сильное нервное потрясение, вероятно, падение сказалось на психике.
– Это мы уже поняли, – процедил Лористон. – Как вы думаете, сколько это продлится?
– Душевные болезни – вещь очень сложная. Возможно, он уже завтра придет в себя. А может быть – никогда. У него навязчивые идеи. Он убеждает всех, что он не император, а маркитант Палабретти, зовет какую-то Крошку, требует позвать Ржевусского, поручика польских улан…
– У него все смешалось в голове… – пробормотал Себастиани. – Ржевусский – это тот улан из корпуса Понятовского, который привозил прокламацию. Маркитанта Палабретти я хорошо помню, это земляк императора, толстячок, заросший бородой от шеи до ушей. Когда-то он убежал с Корсики, чтобы не участвовать в вендетте. Потом был волонтером, получил ранение и ушел в отставку. Он очень скуп, но так и не разбогател.
– Откуда император может его знать? – прищурился Лористон.
– Полагаю, что по Корсике, – пожал плечами Себастиани. – Остров небольшой, там многие друг друга знают.
– Тем не менее раньше его император никогда не вспоминал, – заметил Коленкур.
– Это ничего не значит.
– Нет, это значит многое, – криво усмехнулся Лористон. – Доктор, вы хорошо помните шрамы, родинки и другие приметы на теле императора?
– Да, ваше сиятельство. Я помню все шрамы и родинки. Но к чему это?
– Вы не заметили никаких различий?
– Пока нет, господин маркиз, но…
– Попытайтесь выяснить это завтра.
– И все же, могу я знать, зачем это нужно?
– Вы уверены, что это действительно император?
– Боюсь, месье, что это будет трудно сделать. Он сильно исцарапан, многие царапины весьма глубоки, и я боюсь, что они оставят новые шрамы. Впрочем, разумеется, все шрамы от старых ран я смогу различить.
– Какую чушь вы вообразили себе, Лористон! – возмутился де Сегюр. – Откуда там может взяться другой человек?
– Да… – пробормотал Себастиани. – Вы что же, маркиз, предполагаете, что нам решили подменить императора?
– Я знаю, господа, что разные стечения обстоятельств могут вызвать самые серьезные последствия. Позаботьтесь, чтобы завтра утром маркитанта Палабретти доставили сюда.
– Так или иначе, но у нас есть человек, которого можно выдавать за вождя нации. Какая вам разница, кто будет ходить в сером рединготе, с мрачным лицом?
– Значит, править армией и Францией придется нам?
– Да, и при этом делать все, чтобы никто об этом не узнал. Вы уверены, Себастиани, что гвардейцы, которые нашли его, не проболтаются?
– Мы с доктором уже позаботились об этом… – мрачно кивнул Себастиани. Лейб-медик, вздрогнув, тоже наклонил голову.
– Каждый из двадцати выпил по кружке вина, найденного в подвалах Кремля, – пробормотал Себастиани. – Доктор всыпал в бочку столько отравы, что хватило бы и на целую роту…
– Я пошел мыться, – сказал Себастиани после минуты общего подавленного молчания, – прошу простить меня, господа.
– Доктор, – сказал Лористон в тоне мягкого приказа, – будьте добры не оставлять императора без присмотра.
– Разумеется, господин маркиз, я буду рядом. Вы знаете, только сейчас я подумал, что есть один признак, по которому можно, пожалуй, поверить в подлинность императора. Он был простужен, недомогал еще со времен битвы у Можайска. Так вот, господа, человек, которого вытащили из шахты, тоже простужен.
– Это аргумент, – согласился Лористон, – хотя совпадения бывают и более убедительные. Я вас не задерживаю, месье.
Доктор поклонился и вышел.
– Тихий убийца, – прошептал де Сегюр так, что его никто не услышал.
– Александр, – переходя на конфиденциальный тон, произнес Коленкур, обращаясь к Лористону, – вы хорошо знаете, во всяком случае, лучше всех нас, что представляет собой император. Вы знаете его с детства, вы много лет были его адъютантом…
– Я понимаю вас, Арман. Я сделаю все, что от меня зависит.
– И еще. Мы много раз противодействовали друг другу в русском вопросе. После того, что случилось, я думаю, что скорый мир должен рассматриваться как подарок судьбы…
– Несомненно, мой друг. Думаю, что в ближайшее время сир распорядится о начале переговоров. Я возьму их на себя.
– Я рад нашему взаимопониманию.
ЖЕНЩИНЫ
Марфа утерла с лица Надежды Муравьевой пот, выступивший во время мучительной операции. Свинцовый катышек неправильной формы валялся на столе, а Надеждино бедро, перевязанное чистыми тряпицами, под которые Марфа подложила одну из своих мазей, понемногу ощущало, как притупляется боль.
– Ты уж, милая сударыня, извини, что одежу твою попортила, – сказала ведунья, – придется, вишь ты, пока что по-простому одеться, господского-то нет у меня.
– Спасибо и на том, – пробормотала Надежда, отходя от боли, – рожала – так не мучилась…
– А чего ж не кричала-то? Надо кричать, с криком-то легче оно…
– Стыдно. Я – офицер.
– Баба ты. Извиняй, конечно, я уж старая да грубая, по благородному-то не умею… Так вот, простую да глупую бабу послушай: женщине за мужиками гнаться не след. Чего ихнее, то ихнее, а что наше – то наше. Дите, говоришь, в Москву увезли? Кто?
– Цыганка одна, Настя. Дедушка Клещ ее нашел, но она от него сбежала. У нее сила какая-то есть, странная, потусторонняя, быть может. С ее помощью она завораживает. Ведь сама отдала ребенка ей в руки! Господи, бедный мой мальчик!
Надежда зарыдала… Марфа посмотрела на нее удовлетворенно и сказала:
– Вот теперь-то совсем иное, прости господи! Поплачь, поплачь, дурь-то выйдет. Как младенец крещен?
– Евгением…
– Господское имя, известное дело. А сколь ему от роду?
– В феврале год будет, – всхлипнула Надежда.
– Тебе, матушка, надобно было не встревать в Клещевы плутни, а ко мне сразу идти, – степенно сказала Марфа. Ну да ладно, попробуем ужо…
– Что «попробуем»? – не поняла Надежда.
– Дите твое поискать. Я ведь не Клещ, мне, чтоб человека в Москве углядеть да сюда привести, бегать не надо…
– Как же это? – удивленно прошептала Муравьева.
– Да так уж… Ведаю – и все.
– Господи, – Надежда перекрестилась, – да ты не ведьма ли, Марфушка?
– Ведьма – зла, ведьма сглаз, порчу напускает, ссорит… У ведьмы – черная сила. А я ведунья, у меня сила белая, добрая. Вот Настя, что дите стащила, – та ведьма.
– И ты не боишься ее?
– Ты-то на войне воевать боялась?
– Когда как…
– Вот и я так же. Вы там пуляете друг в дружку, кому повезло, так попал, а кому не повезло, так убили. Вот так и у нас.
Марфа полезла в один из сундуков, достала мешочек, от которого потянуло душистым травяным запахом. Развязав бечевку, стягивающую горловину мешочка, она взяла деревянную ложку и, зачерпнув из мешка серого порошка, похожего на сенную труху, высыпала в большую медную ступку. Затем завязала мешочек, положила на место, достала другой. В этом был белый, мелкий, как пыль, порошок, и его Марфа тоже высыпала в ступку, но уже не одну ложку, а три. Третий порошок, черный, Марфа добыла из крынки, стоявшей на полке. Крепко перемешав в ступке порошки, ведунья достала из маленького горшочка несколько комков красноватого, дурно пахнущего вещества и, взвесив их на ладони, отправила в ступку. Потом несколько минут она растирала комки и смешивала с прежними порошками.
Изготовив смесь, Марфа взяла небольшой чугунок, наплескала в него три ковша воды из деревянного ведра и ухватом запихнула в печь.
– Ну, как закипит вода, готовься, – сказала Марфа. – Без тебя-то мне не найти ни Настю, ни его, Евгения твоего родного. Старайся припомнить, какова она была, да и сына припомни, чтоб в голове держался. Обличье все, поняла?
Надежда зажмурилась, припоминая. Марфа, не торопясь, вынула из шкапчика бутыль с синим раствором, похожим на медный купорос, и налила в глиняную миску. Туда же, в миску, она высыпала смесь из четырех веществ, находившуюся в ступке. В миске образовалась странная буроватая кашица, которую Марфа перемешала палочкой и превратила в тягучую, киселеподобную массу. Тут закипела вода в чугунке, Марфа ловко выхватила его из печи и поставила перед лавкой, на которой сидела девица Муравьева.
Ковшиком зачерпнув кипятку, Марфа смыла «кисель» из миски в чугунок. Тут же в чугунке заклокотало, и из него повалил густой желтоватый пар с дурманяще-сладким запахом.
Надежда ощутила, как Марфа садится на табурет, прямо напротив нее, и берется левой рукой за правую руку Надежды, а правой – за левую. Получилось кольцо, посередине которого струился пар из горшка. Этот пар быстро проникал в легкие, растворялся в крови и нес по всему телу какое-то необыкновенное, неведомое Надежде состояние.
– Спи не спи, спи не спи, спи не спи! – голос Марфы послышался как бы издалека, гулко, будто колокольный звон. – Выглядывай сына, сына выглядывай! – внушала Марфа, которую Надежда уже не видела. Она вдруг ярко и четко увидела себя с малышом на руках в детской дядюшкиного имения. – Добро, добро, добро! – поощрила Марфа. – Гляди Настю, гляди Настю, гляди Настю!
Надежда ощутила, как что-то теплое и дурманящее словно бы выносит ее душу из тела. Она пронеслась через мрак туда, в недавнее прошлое, и увидела перед собой черноглазую, очень красивую женщину в цветастом платье, с огромными серьгами в ушах, серебряным монистом на шее и зеленой косынкой, стягивающей густые, черные, как вороново крыло, волосы.
Едва образ Насти всплыл из памяти Надежды с максимальной четкостью, как его словно стерли, и Надежда, очнувшись, открыла глаза.
– Молодец, – похвалила Марфа, – быстро вспомнила. Теперь она ко мне в память перешла. Я и буду искать… Теперь вот что, девонька. Я сейчас как бы засну. Говорить что буду, бубнить или ругаться – не слушай. Не буди меня, слышь! Что б ни сталось – не буди! Как встану и с закрытыми глазами пойду – тоже не мешайся. Страшно будет, мерещиться что начнет – молись господу, о сыне молись! Проснусь до срока – сына не увидишь. Ну, держись, милая!
Марфа вынула из-за ворота ладанку, высыпала на ладонь несколько мелких кристалликов, отодвинула чугунок от Надежды и уселась перед ним сама. Кристаллики упали в булькающее варево, и от него пошел розовый, все более краснеющий пар. Марфа закрыла глаза, откинула голову, опершись спиной о стену подвала, лицо ее стало мертвенно-бледным. Надежду взяла жуть, она отодвинулась подальше и стала тихонько молиться, упрашивая господа бога вернуть ей дитя…
Минуты две Марфа не двигалась, Надежде даже казалось, что она умерла. Потом Марфа, не открывая глаз, каким-то необычным деревянным голосом сказала:
– Злодейка. Пошто дите своровала? Отдай!
Надежда сжалась, но молиться не перестала.
– Вижу. Вижу тебя, злодейка. Не уйдешь. Не прячься, не мучься – все одно мой верх, – продолжала свой диалог с невидимой врагиней Марфа.
– Боже правый, помоги ей! – прошептала Надежда, которой трудно было оставаться в стороне.
– Черную силу зовешь – не дозовешься. Волки ее съели, вороны унесли, огонь сжег, ветер развеял. Совесть, что волк, – возьмет за горло – не упустит. Не мучься, не прячься, меня слушай, к богу вернешься! – Губы Марфы произносили эти слова совершенно бесстрастно, как видно, вся эмоциональная энергия этой женщины была в ином, недоступном для понимания мире…
– Туда идешь. Туда, родимая. И здесь повернула правильно. Не стой, не стой, не останавливайся. Дальше иди, хорошо иди, прямо иди. Здесь налево поверни, французов обойди. Во двор сверни, дальше иди!
Надежда, вслушиваясь в слова, произносимые Марфой, ощущала, как сердце начинает учащать бег.
– Не я тебя веду – бог ведет. Нет бога русского, нет цыганского – един бог, едина сила, едино блаженство и едина мука. Иди. Тут садом, садом проходи. У стены щель, в нее боком, мальца не повреди. Дом обойди, сарай обойди, заходи в дровеник. Положь мальца на пол. Бочку откати, подпол открой. Бери малого левой, придерживайся правой, полезай в подпол. Добро. Веревку дерни, закрой за собой. Добро. Иди далее, хорошо идешь… Не думай о черном. О белом думай, о боге думай, душу спасаешь! Вправо теперь, вправо иди. Бог ведет, не я веду. Душа светлеет, бог тебя любит, бог тебя в блаженство вечное ведет. Иди. Не думай о черном. Не страшись – его сила божьей не ровня. Еще иди, не стой, не стой, прямо иди. К богу идешь, к спасению. Злая сила покинула, добрая приняла. Иди, родимая, моя взяла. Лестница, бережней, ставь ногу ровней. Добро идешь, туда идешь. Пришла. Стучи три раза!
И тут послышался явственный троекратный стук в дверь.
Марфа, не открывая глаз, встала, сделала шаг, словно лунатик, и такими же механическими, деревянными шагами, твердо и звучно ступая, подошла к двери. Лязгнул металл, и Надежда, широко открыв глаза от суеверного ужаса, все еще не веря во вновь обретенное счастье, увидела на пороге бледную, закутанную в шаль цыганку с младенцем на руках. Ее лицо было так же неподвижно, как и Марфино.
– К ней иди. Верни дите матери – господь грехи простит. – Марфа встала у двери, открыв Насте проход к Надежде. Цыганка все теми же завороженными шагами подошла туда, где сидела Надежда, и протянула ей малыша. Муравьева привстала, шагнула навстречу и осторожно взяла ребенка из ее рук. Малыш тихо посапывал, причмокивал губками.
Теми же механическими движениями Марфа открыла дверь подвала, ведущую в подземный ход, и сказала по-прежнему неживым голосом:
– Ступай с богом. На тот год сама родишь, свое дите кормить будешь. Ступай – как пришла, так и ушла.
Настя вышла и теми же механическими шагами, какими передвигалась Марфа, сошла в подземный ход. Шаги ее гулко отдавались в каменных сводах, постепенно удаляясь, и наконец затихли.
Лишь после этого Марфа затворила дверь и задвинула засов. После этого она взяла руками горшок, над которым уже не было пара, и выплеснула в печь. Наконец ведунья села на прежнее место и в прежнюю позу. Глаза ее открылись, лицо мигом порозовело.
– Скажи, Марфа Петровна, а как это ты с ней разговаривала? Я бы ни за что не поверила, если б не видела все сама.
– Это, милушка, так просто не сказывается, ведовство – дело тайное. Оно как топор: один дрова рубит, а другой – головы сечет. Не каждому дадено. Меня бабка обучила, перед смертью передала все. А со мной помрет все, поди-ка. Травы надо знать, да коренья, да каменья, да как чего сушить, да тереть, да парить. Слова надо знать, они как ключики – ларчики отпирают, а в ларчиках тайности да хитрости лежат.
– Ты знаешь, Марфа Петровна, – припомнила Надежда, – в старину были такие люди, алхимисты, которые искали философский камень, чтоб свинец переделывать в золото. А ты не умеешь?
– Нет, не умею. И не надобно этого. Коли золота будет много – так оно и цениться будет мало. А алхимики-то все дураки. Знавала я одного, чернокнижник был, тоже, вишь ты, золото захотел добыть. Так надышался ртути, что помер, прости господи.
– А лекарство от всех болезней ты не знаешь? – не отставала Надежда. – Его в древности называли панацея…
– А могли бы смертью назвать, – заметила Марфа. – Смерть – вот она и есть от всех хворей лекарство. Не бывает такого, чтобы все сразу лечить. Это только Клещ, язви его в душу, от всех болезней настой нашел – водочку. А как прихватило, так ко мне приполз, чтоб я ему силы прибавила…