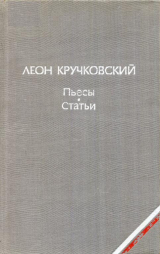
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Р у т (смотрит на нее, потом на Туртерелля, тихо). Неприятно здесь как-то… и девушка, кажется, не слишком любезна. Как она на нас смотрит!..
О ф и ц е р. Вы хоть не часто встречаетесь с ними. Кто только порхает, как вы, по Европе, по н а ш е й Европе, тот даже не замечает этих взглядов. В конце концов, не всюду же смотрят на нас одинаково.
Р у т. Это верно. В прошлом году я дважды была в Варшаве. Признаюсь, герр майор, там я особенно не любила ходить по улицам.
О ф и ц е р. Жаль, что вам не пришлось побывать где-нибудь еще подальше на Востоке.
Р у т. Покорно благодарю, нет, нет! Я гораздо лучше чувствую себя в Копенгагене, Брюсселе, Париже… Хотя и там иной раз, в доме или на улице, случается ловить на себе неприязненные взгляды…
О ф и ц е р. Вероятно, только тогда, когда вы бываете в обществе военных, таких, например, как я…
Р у т. В конце концов, какое мне дело до всего этого? Я никому не причиняю зла.
О ф и ц е р. Скорее, наоборот! Вы даете людям только радость, только красоту! И разве вы не вправе жаловаться на нас, слушателей своих концертов, которые вы дарите всей немецкой Европе?
Р у т. Никогда ни на что не жалуюсь. Я привыкла делать только то, что мне нравится, и, можете себе представить, почти никогда не встречала отпора. (С минуту молча разглядывает Фаншетту.) Занятная девушка. Она очень красива, вы не находите? Во всяком случае, интересная… (Еще тише.) Хорошо бы узнать, понимает она или тот, другой, по-немецки?
О ф и ц е р. Сейчас мы убедимся. (Громко в глубь комнаты.) Что, в этом городке есть что-нибудь интересное для обозрения? Мы здесь проездом, у нас есть свободных полчаса…
Фаншетта безучастна.
Т у р т е р е л л ь (после минутной паузы). Я немного понимаю по-немецки, но говорить, простите, не умею. Нет, здесь вы не найдете ничего интересного.
Ф а н ш е т т а (словно проснувшись, резко). Дядюшка Туртерелль, почему ты не скажешь правду этому господину?
Т у р т е р е л л ь. Не вмешивайся, Фаншетта.
О ф и ц е р (повеселев). Минуточку! Значит, все-таки что-то есть?
Т у р т е р е л л ь. Не слушайте эту девчонку. Я уже сказал, в нашем городке нет ничего, что было бы достойно внимания туристов.
Р у т. А может быть, есть, только вы об этом не знаете?
Т у р т е р е л л ь. Прошу извинить меня, я живу в этом городе сорок лет. Здесь нет ничего любопытного.
О ф и ц е р (вполголоса). Забавные люди. У них, как у всех жителей маленьких городишек, есть какие-то свои, смешные тайны…
Р у т. Однако эта девушка знает, что говорит. И, кажется, она не слишком расположена к нам. Я это чувствую, майор.
О ф и ц е р. Вы только чувствуете, Рут, а я знаю наверняка.
Р у т. Она думает о нас, хотя вовсе не смотрит в нашу сторону. Это раздражает, вы не находите?
О ф и ц е р. Мы, немцы, должны иметь крепкие нервы. Даже такие очаровательные мотыльки, как вы, которые никому не делают зла! Как-никак вы немка.
Р у т. Но ведь это не имеет никакого значения. Я артистка, майор. Как вы любезно выразились, дарю людям радость и красоту. Взамен за это хочу, чтобы меня окружали улыбающиеся люди, добрые и благожелательные взгляды.
О ф и ц е р. Слишком многого хотите. В Европе, к сожалению, нас не любят…
Р у т. Если это правда, странно, что вы говорите об этом так спокойно.
О ф и ц е р. Привык.
Р у т (устремив взгляд на Фаншетту, с минуту молча наблюдает за нею. Понизив голос). Вы в самом деле думаете, что нас не любят?
О ф и ц е р. Если хотите, спросим девушку.
Р у т. Что за выдумки, майор! (Тихо.) Лучше попросите себе пива. Мне хочется посмотреть на нее вблизи.
О ф и ц е р. Разве только ради вас, потому что пиво на редкость дрянное. (Фаншетте.) Мадемуазель, не откажите в любезности дать еще пива.
Фаншетта молча подходит, забирает кружку, возвращается к буфету, наполняет кружку пивом. Рут все время наблюдает за Фаншеттой.
(С иронической усмешкой смотрит на Рут, а когда Фаншетта ставит перед ним пиво, устремляет взгляд на нее.) Мерси, мадемуазель. Вы действительно француженка?
Ф а н ш е т т а. Во Франции живут французы, мсье.
О ф и ц е р. Я потому спрашиваю, что для француженки вы слишком молчаливы…
Р у т (улыбаясь). Для француженки у вас слишком холодные, слишком северные глаза…
Ф а н ш е т т а. Возможно. Французы теперь должны быть холодными и молчаливыми. Не хозяева в своем доме. (Уходит за стойку.)
Т у р т е р е л л ь (обеспокоенный, вмешивается с деланным смехом). Французы теперь поумнели. Наша старинная словоохотливость не довела нас до добра. В конце концов… солнце светит для всех!..
О ф и ц е р (развеселившись). Солнце для всех? Что вы хотите этим сказать?
Ф а н ш е т т а (громко, почти кричит). Перестань! Перестань, дядюшка Туртерелль! (Поворачивается спиной, сжимая виски руками.)
Т у р т е р е л л ь (подходит к офицеру, наклоняется к нему, вполголоса). Извините, господа, эта девушка сегодня очень расстроена. Ее отца постигло страшное несчастье.
О ф и ц е р. Ах так. Очень жаль. Благодарю, что предупредили.
Р у т (прерывает молчание). Оказывается, это просто семейная неприятность. Наверно, она его очень любит… (Помолчав.) А я своего отца увижу завтра. Жаль, что вы его не знаете. Очень милый старый господин. Только есть в нем что-то внушающее робость. (Смеется.) Я иногда про себя называю его «олимпийцем»…
О ф и ц е р. Это большое имя – Зонненбрух.
Р у т. Нет, это больше, чем имя. (Задумалась, Немного погодя, взглянув на Фаншетту.) А знаете, эта девушка чем-то сразу меня заинтересовала.
О ф и ц е р. Встревожила, хотите вы сказать?
Р у т. Не знаю. Страдающие люди оказывают на окружающих какое-то магнетическое действие. Я всегда это чувствую, и это меня раздражает и в то же время безумно притягивает. Папа назвал бы это извращенностью.
О ф и ц е р. Вы несколько испорчены успехом, Рут. Мы, немцы, все прошли через это, и сегодня в каждом из нас есть что-то от этой, как вы говорите, извращенности. Да, почти в каждом. (Посмотрел на часы.) Что ж, расплатимся и пойдем взглянем на забавный городишко, в котором будто бы нет ничего интересного. (Вынимает бумажник, бросает на стол несколько франков.)
На улице слышны приближающиеся шаги, голоса, крики, затем быстро проходят несколько человек, м у ж ч и н и ж е н щ и н; д в о е н е м е ц к и х с о л д а т, в шлемах, с винтовками в руках, окриками подгоняют их; на тротуаре перед дверью ресторанчика появляется е ф р е й т о р с автоматом в руке, резко открывает дверь, с шумом входит.
Е ф р е й т о р. Аллес раус! Выходить! Всем немедленно выходить! (Замечает офицера, вытягивается во фронт, отдает честь.) Простите, герр майор! Не сразу заметил. Выполняю приказ отправить жителей городка на рынок.
О ф и ц е р (сухо). Это меня не интересует.
Р у т (оживившись). А меня интересует. Ефрейтор, подойдите поближе.
Ефрейтор подходит.
В чем там дело?
Е ф р е й т о р. Будут вешать заложников. Семерых. Три дня назад недалеко от городка партизаны устроили крушение воинского состава. Население обязано присутствовать при казни. Разрешите удалиться, герр майор?
О ф и ц е р (нетерпеливо). Делайте свое дело. (Стоя спиной к нему, иронически смотрит в лицо Рут.)
Прислонясь к стене, Фаншетта сидит за стойкой с закрытыми глазами, не двигаясь с места. Туртерелль стоит в нерешительности, смотрит на нее с беспокойством.
Е ф р е й т о р (обращается к ним грубо, хотя несколько стеснен присутствием немецких гостей). Выходить! Прошу немедленно выходить!
Ф а н ш е т т а (с закрытыми глазами, отчетливо и внешне спокойно). Нет! Нет! Нет! Нет!
Е ф р е й т о р. Прошу не сопротивляться. (Идет за буфетную стойку.) Прошу немедленно выходить.
Ф а н ш е т т а. Нет. Нет.
Т у р т е р е л л ь (за спиной офицера, обращаясь к нему и к Рут). Там ее отец, среди этих семерых… Страшное несчастье, господа…
Офицер смотрит на него, разводит руками.
Р у т (вдруг встает, твердым шагом идет в глубину комнаты). Минутку, ефрейтор. Вместо этой девушки пойду я.
О ф и ц е р (встает, рассерженный). Вы с ума сошли, Рут?
Р у т (решительно). Я хочу это видеть, майор. Должна это видеть. Пойдете со мной?
О ф и ц е р. Но это глупо, Рут!
Р у т. В таком случае я иду одна. Только скажите ефрейтору, Чтобы уходил отсюда.
Е ф р е й т о р (сбитый с толку). Если господин майор прикажет…
Офицер жестом дает понять ефрейтору, чтобы он оставил в покое Фаншетту.
Е ф р е й т о р (вытягивается, отдает честь, поворачивается к Туртереллю). Лос! Лос! Выходи!
Выходит Т у р т е р е л л ь, за ним е ф р е й т о р. Фаншетта стоит неподвижно, глаза закрыты. К ней подходит Рут, глядит ей в лицо. Фаншетта открывает глаза, обе смотрят друг на друга.
Ф а н ш е т т а (пораженная). Зачем вы туда идете? Для чего?
Р у т (с беспокойством). Я не могу вам это объяснить. Да и не знаю, поймете ли вы меня.
Ф а н ш е т т а. Вы злая, жестокая женщина.
Р у т. Но почему же? Я никому не сделала и не делаю зла.
Ф а н ш е т т а (с мукой). Прошу вас, оставьте меня…
О ф и ц е р. Рут, это, наконец, бессмысленно!
Р у т (возбужденно). Все бессмысленно! Все! А вы прескучный человек, майор! (Фаншетте.) До свидания, мадемуазель! (Поворачивается к майору.) Идемте, проводите меня.
Выходят. Фаншетта с минуту неподвижно смотрит им вслед, затем медленно, как автомат, идет к двери, останавливается перед нею, головой и руками прижимаясь к стеклу; падает на пол.
З а н а в е с.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕХолл в загородном доме профессора Зонненбруха в Геттингене. В глубине с левой стороны деревянная лестница, ведущая на втором этаж. Рядом с лестницей, по правую сторону, широкая стеклянная дверь, открытая на террасу с видом на сад. В левой боковой стене дверь в переднюю к парадному подъезду, возле двери столик с телефоном. В правой стене дверь в столовую и другие комнаты. В углу, образованном изгибом лестницы, маленький круглый столик и легкие дачные кресла. Вдоль стен полки с кустарной керамикой. У правой стены, ближе к авансцене, камин, над ним зажженная электрическая лампа на кронштейне. Шестой час вечера. В саду начинает смеркаться. Перед открытой дверью на террасу Л и з е л ь, в темном платье, сидит в кресле, смотрит в сад; мало заметная со стороны зрительного зала, она, кажется, не существует для окружающего, так же как и окружающее для нее. На переднем плане, у камина, Б е р т а. Уже несколько лет неподвижная из-за паралича ног, она сидит в своем кресле-самокате, одетая в несколько старомодное вечернее платье, просматривает газету, но заметно, что чего-то или кого-то ждет.
На столике кофейный сервиз, бутылка коньяку, рюмки и тарелка с яблоками. Из столовой выходит Р у т, в домашнем платье, с кофейником в руке, идет к столику, Наливает кофе в чашку. Следом за ней выходит З о н н е н б р у х, в темном костюме, в очках.
З о н н е н б р у х. Побольше кофе, Рут!
Р у т. Только одну чашку, папа. Не забывай о вечере. Да. И одну рюмку коньяку. (Хочет налить.)
З о н н е н б р у х (останавливает ее, рассматривает бутылку). Где ты это достала?
Р у т. От меня подарок тебе, папа. Привезла из Франции.
З о н н е н б р у х. Привезла из Франции? (С вежливой решительностью.) Благодарю за то, что ты вспомнила обо мне, но… возьми это назад.
Р у т. Почему? Ты ведь всегда любил немного коньяку в кофе?
З о н н е н б р у х. Всегда любил, но теперь не хочу. Запомни это, Рут. Теперь ничего не хочу о т т у д а.
Р у т. Но это чудачество, папа. Не понимаю тебя.
Берта опускает газету, смотрит на них.
З о н н е н б р у х. Мне очень жаль, что ты не понимаешь. Во всяком случае, убери это, а взамен, если уж ты так добра, принеси из буфета орехового ликера. Ну, ступай, ступай, дитя мое.
Р у т, пожимая плечами, смотрит на Берту, уходит с бутылкой.
Б е р т а. Ты мог бы быть немного деликатнее, Вальтер. Иногда ты поступаешь бессердечно. Бедняжка Рут, посмотрел бы ты, какое у нее было несчастное лицо!
З о н н е н б р у х (негромко, сдерживая раздражение). Ты хорошо знаешь, Берта, я не хочу иметь ничего общего со всем этим, ничего общего. Ни с тем, что они там делают, ни с тем, что они оттуда привозят. Ничего общего, понимаешь, Берта?
Б е р т а. Перестань! Противно слушать, что ты говоришь! В лучшем случае это можно назвать чудачеством и педантизмом.
З о н н е н б р у х. Я честный немец, Берта. Может быть, Рут не отдает себе отчета в этих вещах, у нее были, конечно, самые лучшие намерения, тем не менее мне очень неприятно.
Б е р т а. Тебе неприятно все, чем живет сегодня каждый истинный немец. Все, во что мы верим и что любим. Нет, не будем лучше говорить об этом. Пей кофе, Вальтер, он, наверно, уже остыл.
Р у т возвращается с бутылкой ликера, молча наливает в рюмку.
(Говорит из-за газеты.) Подумать только, Вальтер, что сегодня ты празднуешь тридцатилетие своей деятельности, которая принесла тебе признание и уважение всей Германии! Боже, что было бы, если бы твои мысли стали известны людям!
З о н н е н б р у х. Я держу свои мысли исключительно для себя.
Б е р т а. Спасибо хоть за это! Было бы еще лучше, если бы ты не поверял их даже нам, своим близким.
З о н н е н б р у х. Я делаю это очень редко – и никогда из внутреннего побуждения. Я привык довольствоваться обществом самого себя. Оставьте меня в покое.
Р у т. Ты мне не нравишься, папа. (Целует его.) Ты по-прежнему очарователен, но с каждым днем все больше ворчишь на весь свет.
З о н н е н б р у х. Что поделаешь, дитя мое, если свет с каждым днем становится все хуже. (С ударением.) Кому это знать, как не тебе. Что ни говори, а во Франции, кроме коньяка, ты видела и кое-что другое.
Р у т. Я, отец, вижу только то, что хочу видеть. Остальное меня не касается. (Немного погодя, словно борясь с собою.) Ах, ты не знаешь, какой яркой может быть теперь жизнь! Какой яркой!
З о н н е н б р у х (пристально вглядываясь в нее). Все вы точно насекомые; красивые и жестокие насекомые!
Р у т (нервно смеется). Не говори обо мне во множественном числе. Я хочу жить, отвечая только за себя.
Лизель внезапно встает с кресла, выходит на середину холла, смотрит на Рут. Заметив это, Рут смотрит ей в глаза. Лизель отворачивается, медленно идет к двери столовой.
Р у т (быстро бежит за ней, хватает за руку). Лизель, прости меня. Я забыла, что ты здесь.
Л и з е л ь. Ты забываешь не только об этом. (Не глядя на нее, уходит.)
Общее молчание.
З о н н е н б р у х. Бедняжка Лизель! Мне иногда думается, что мы забываем об ее ужасном горе и слишком мало считаемся с нею.
Рут отходит в глубь холла и, остановившись у двери террасы, смотрит в сад.
Б е р т а. Что же мы можем сделать? Она должна найти силы в себе самой. Тысячи немецких женщин переживают сегодня то же самое. (Помолчав.) Нелегко было и мне примириться со смертью Эрика, хотя он и погиб на поле славы…
З о н н е н б р у х. Лизель потеряла не только Эрика: детей, дом – все. Не знаю, заметила ли ты, какие у нее глаза. Безумные от ненависти.
Б е р т а. Это хорошо. Она должна ненавидеть.
З о н н е н б р у х. Как тебе кажется – кого?
Б е р т а. Наших врагов, разумеется. Тех, кто убил ее мужа под Сталинградом, и тех, кто бросил бомбы на ее дом и детей.
З о н н е н б р у х (встает, расстроенный, оглядывается вокруг). Так. Ну что же? (Смотрит на часы.) У нас еще есть полчаса. Рут, не пройдешь ли ты со мной в сад?
Из передней входит А н т о н и й.
А н т о н и й. Герр профессор, я хотел напомнить, что у меня уже целый час сидит Гоппе. Герр профессор обещал принять его на минутку.
З о н н е н б р у х. Верно! Еще этот Гоппе. Хорошо, просите его, Антоний.
А н т о н и й уходит.
Р у т. Кто это такой – Гоппе?
З о н н е н б р у х. Старый служащий моего института. Теперь, увы, служит другим делам. Живет яркой жизнью где-то на Востоке…
Рут пожимает плечами, хочет уйти.
Б е р т а. Рут, дорогая моя, надо бы уже затемниться и зажечь свет.
Р у т задергивает плотную, темную штору на дверях, зажигает большую люстру, затем уходит по лестнице наверх. Входит Г о п п е, ведет за руку тринадцатилетнего мальчика.
Г о п п е. Я только на пять минут… пришел проведать Антония, поболтали мы с ним часок, но, если герр профессор позволит… Боже мой! Какое это счастье – видеть профессора в добром здоровье… Гейни, поклонись хорошенько! (В сторону Берты.) Добрый вечер, фрау.
З о н н е н б р у х. Я очень рад, дорогой Гоппе, что мне удалось выхлопотать для вас несколько дней отпуска, я особо просил об этом ректора. А ваш сынок, вижу, становится все больше похожим на вас. Это хорошо, у порядочных людей и дети должны быть похожи на родителей.
Г о п п е. Мы делаем все, что возможно, герр профессор. По правде говоря, мне хотелось только пожать руку профессору. Разумеется, я буду на торжестве в университете, но, наверно, где-нибудь в последних рядах. Таким, как я, трудно будет пробраться поближе к профессору.
З о н н е н б р у х. Ну что, Берта, узнаешь его? Мне кажется, Гоппе, этот мундир вам не к лицу… Что это за мундир, Гоппе, – пехота, интендантство?
Г о п п е. Жандармерия, герр профессор.
З о н н е н б р у х. А! Жандармерия… (Пристально смотрит на Гоппе. Помолчав.) Почему вы не переоделись, идя сюда?
Г о п п е. Инструкция, герр профессор…
З о н н е н б р у х. Инструкция? (Кивает головой, пауза.) Впрочем, это не имеет значения. Садитесь, пожалуйста. Думаю, что не откажетесь от рюмки орехового ликера? (Наливает.)
Б е р т а. Можно узнать, Гоппе, из какой части Европы вы прибыли?
Г о п п е. Это не является тайной. С Востока, из генерал-губернаторства.
З о н н е н б р у х. И что же вы там делаете, Гоппе, в этом генерал-губернаторстве?
Г о п п е. Служу, герр профессор, ничего интересного. Не стоит и рассказывать.
З о н н е н б р у х. У порядочного человека всегда есть что рассказать о деле, которым он занимается.
Б е р т а. Это так просто, Вальтер: он работает для победы нашего народа.
Г о п п е. (торопливо). Вот именно! Совершенно верно!
З о н н е н б р у х (с ударением). Но мне хотелось бы знать, что это за работа. У вас, Гоппе, лично у вас.
Г о п п е (под пристальным взглядом Зонненбруха, тихо). Если герр профессор хочет знать правду, то скажу, что порядочным людям там искать нечего… (Все более смущаясь.) Порядочные люди должны сидеть дома, с женой, с детьми.
Б е р т а. Мне кажется, Вальтер, что твои вопросы не совсем уместны. Жена и дети, герр Гоппе, живут не на луне, их судьба, их будущее связано с судьбами и будущностью Германии.
Г о п п е (сбитый с толку). Ваша правда, я это понимаю…
З о н н е н б р у х. Во всяком случае, мой дорогой Гоппе, надеюсь, что ваши руки совершенно чисты – вот как мои!
Г о п п е. На службе этого никогда нельзя знать, герр профессор, особенно там, на Востоке. Это дикий край, ужасные люди…
З о н н е н б р у х. По крайней мере не говорите этого при, мальчике, он готов поверить. (Резко.) И вообще не говорите глупостей.
Б е р т а. Гоппе хорошо знает, что говорит. Перед гибелью Эрик с Восточного фронта писал то же самое: дикий край, ужасные люди…
Г о п п е. Боже! Я не знал, что герр Эрик погиб…
З о н н е н б р у х (не отвечает. Немного погодя, показывает на мальчика). Этот молодой человек, кажется, старший у вас?
Г о п п е. Старший. Исполнилось тринадцать, герр профессор.
З о н н е н б р у х (иронически). Ну, у него еще есть время. Вы, кажется, любите детей, Гоппе?
Г о п п е (точно поперхнувшись). Люблю, герр профессор…
З о н н е н б р у х. Все мы любим детей, но вовсе не становимся от этого лучше. (Протягивает руку к тарелке с яблоками, выбирает одно.) Вот это тебе, малыш, чтобы не было скучно с нами…
Гоппе, остолбенев, смотрит чуть не со страхом. Гейни вертит яблоко в руках.
Г о п п е (хрипло, почти кричит). Поблагодари, Гейни! Поблагодари, Гейни! Поблагодари герра профессора!
З о н н е н б р у х (гладит мальчика по голове). Ешь, ешь, на здоровье. Яблоки прибавляют человеку здоровья и жизни. Надо, Гоппе, давать детям побольше яблок. Это полезно. Полезно и вкусно, правда, малыш?
Гейни, грызя яблоко, кивает головой.
(Смеется, глядя на Гоппе.) У вас, Гоппе, такое лицо, точно вы со мной не согласны.
Г о п п е (тоже пытается смеяться). Да нет, что вы, герр профессор. Кто его знает, отчего иной раз бывает глупое лицо. От глупости разве… Человек ведь себя хорошо не знает… (Торопливо встает.) Пожалуй, мы уже пойдем…
З о н н е н б р у х. Что ж, не гоню вас, но…
Г о п п е. Еще бы, пять минут давно прошли. Если герр профессор разрешит, я зайду завтра на минутку в наш институт, хоть взглянуть, подышать воздухом лаборатории…
З о н н е н б р у х. Мы всегда вам рады, Гоппе. Кончайте поскорей… как это сказала Берта? – ах да, «работать ради победы нашего народа…». Ну, так до свидания. Будь здоров, малыш.
Г о п п е. Гейни, попрощайся! Низко кланяюсь, сударыня! (С порога.) Боже мой! Поистине счастье, что у нас есть такие люди, как герр профессор Зонненбрух!
Выходят.
Б е р т а. Хотела бы я знать, многие ли думают о тебе так, как этот Гоппе?
З о н н е н б р у х. Так хорошо думают, хочешь ты сказать?
Б е р т а. В его глазах ты воплощение совершенства.
З о н н е н б р у х. Не будем преувеличивать. Гоппе не думает обо мне ни хорошо, ни плохо. Сила привычки – вот и все.
Б е р т а. А я вот не могу привыкнуть! Веришь, Вальтер, я физически страдаю, слушая иногда, как ты разговариваешь с людьми – с теми, разумеется, которых ты считаешь возможным осчастливить своим доверием. Вот хотя бы такой Гоппе. Обыкновенный, простой человек, наверное честно исполняет свои обязанности… А ты? Вместо того чтобы поддержать его, ободрить, ты… Или ты и в самом деле не чувствуешь, что наша судьба, судьба немцев, – это и твоя судьба?
З о н н е н б р у х. В самом деле, Берта. У меня нет ничего общего с тем, что ты называешь «судьбой немцев». Настоящие немцы, те, которые достойны называться немцами, верь мне, они со мною. Вот здесь они, в моем сердце! (Прижимает руку к груди.)
Б е р т а (презрительно). Эх ты, эстет! Всегда был эгоистом.
З о н н е н б р у х. Я всегда был верен своим идеалам. Верен им и сегодня. Поэтому я еще не усомнился в смысле жизни. (Помолчав.) Да. Да. Оба мы, Берта, уже в том возрасте, когда можно говорить друг другу правду в глаза без опасения, что это разобьет нашу совместную жизнь…
Б е р т а. Нашу совместную жизнь? Было время, что я не видела ничего, кроме нее. Ты, дети, дом… Но это было давно, очень давно…
З о н н е н б р у х. Ты права. Давно расстались мы с нашим счастьем… а что-то похожее, помнится, было в этом доме… Можешь, если угодно, говорить об этом с сожалением. Не только мы двое, ты и я, – все немцы расстались со своим счастьем, с красотой и добром и вступили на путь безумия.
Б е р т а. Немцы борются за свое право на жизнь – или ты глух и слеп, Вальтер?
З о н н е н б р у х. Прошу тебя, Берта, не говори со мной таким языком. Это я могу прочитать в газете. (Помолчав.) Скажи мне, ты когда-нибудь вспоминаешь об Эрике?
Б е р т а. Я постоянно помню обо всех молодых, смелых немцах, которые гибнут ежечасно. Нет, я не ропщу, что мой старший сын пал с ними. Это позволяет мне еще больше любить наш народ и еще сильнее ненавидеть его врагов. (С внезапным беспокойством.) Где же Вилли? Я хочу, чтобы он уже был со мною! Почему его еще нет?
З о н н е н б р у х (стал рядом с Бертой, положил руку ей на плечо. С глубокой печалью). Бедная Берта! Когда два года назад ты заболела, я думал, что физические страдания вылечат тебя от безумия, которому ты поддалась, как тысячи, миллионы других. Я не предполагал, что твоя болезнь явится для этого новым источником силы. Но это злая, враждебная сила! Сила, которая погубит немцев. Погубит немцев!
На втором этаже слышны сильные, упругие шаги. По ступенькам сбегает В и л л и, он в мундире, свежий и веселый. Зонненбрух отходит от Берты, снимает очки, протирает их.
В и л л и. Вот и я, мама! (Обнимает Берту, целует крепко и долго.)
Б е р т а. Наконец-то, мой мальчик! (Не отпускает его руки, всматривается, счастливая.) Ты прекрасно выглядишь, но из трех дней, которых я так ждала, ты проспал целых пять часов! Что… у нас еще есть немного времени?
В и л л и (глядя на часы). Машины прибудут через двадцать минут. Я вижу, ты совсем готова, мама? Конечно, я еду с тобой. А Рут, кажется, хочет отвезти отца на своем маленьком «мерседесе»? (Смеется.) Не знаю только, прилично ли, что юбиляр приедет в таком скромном экипаже?
З о н н е н б р у х. Я могу поехать и трамваем. Тридцать лет назад я ездил только трамваем. Но не в этом дело. Должен предупредить тебя, Вилли, что сегодняшний вечер будет очень скучный.
В и л л и. Я приготовился ко всему. Принял чудесную ванну, чувствую себя замечательно и могу выслушать дюжину профессорских речей.
Б е р т а. Отец тоже приготовил речь. Будем надеяться (с ударением), что все смогут аплодировать ей без всяких оговорок…
З о н н е н б р у х. Сомневаюсь. Я не скажу почти ничего нового. Скорее, даже буду повторяться. Я и сегодня могу сказать только то, что говорил и думал тридцать лет назад.
В и л л и (иронически). Разве в биологии, отец, ничего не изменилось за тридцать лет?
З о н н е н б р у х. Разумеется, изменилось. Но я не собираюсь сегодня говорить о биологии.
Б е р т а. О чем же ты будешь говорить?
З о н н е н б р у х. Не беспокойся, Берта. То, что я собираюсь сказать, никого не заденет. Это будут просто воспоминания о людях, с которыми я работал на протяжении тридцати лет. Кого же это может задеть, сама посуди?
В и л л и. Короче говоря, сентиментальная речь?
З о н н е н б р у х (подходит к Вилли, кладет руку ему на плечо, смотрит в глаза). Речь о неутраченных надеждах и о преходящих явлениях – вот как можно ее назвать, если хочешь знать, мой сын! (Отворачивается, уходит в столовую.)
В и л л и (смотрит ему вслед, затем берет ближайший стул, садится возле Берты, берет ее руку в свои). Ну, рассказывай, мама, рассказывай! Как твое здоровье? Выглядишь ты несколько хуже, чем полгода назад…
Б е р т а. Тебе так кажется. Может быть, из-за этого черного платья.
В и л л и. И седых волос прибавилось, ого-го! Но это тебе к лицу!
Б е р т а. Не утешай меня. Молодых и красивых женщин вокруг тебя, наверно, достаточно, береги комплименты для них. Расскажи лучше о себе! Что ты теперь делаешь там, в этой Норвегии?
В и л л и (смеясь). Все то же, хотя каждый день что-нибудь новое.
Б е р т а (тише, с тревогой). Трудно, правда?
В и л л и. Не беспокойся, сил у нас предостаточно. Фюрер не обманется в нас. И вы – тоже!
Б е р т а. Иногда я не могу отделаться от разных страхов, от дурных мыслей. Знаю, что это слабость, стыжусь ее и все-таки… Бывают даже такие дни, когда я боюсь слушать сводки…
В и л л и (мрачно). Да, немножко тяжело.
Б е р т а (с возмущением). А его это совсем не трогает!
В и л л и. Кого, мама?
Б е р т а. Отца, конечно. Отгородился от всех, и ни до чего ему нет дела! Это его не касается – понимаешь? Раньше не радовался нашим победам, это тоже его «не касалось», а теперь… нет, зачем я только говорю тебе все это?
В и л л и (нахмурившись). Ты не сказала мне ничего нового, мама.
Б е р т а (помолчав). Счастье еще, что хоть как ученый он выполняет свой долг перед народом. Еще никогда он не работал так много, как сейчас. По целым дням не выходит из лаборатории.
В и л л и. Я не разбираюсь в этом, но мне приходилось слышать, что результатами его исследований очень интересуются в военно-медицинских кругах.
Б е р т а. Возможно. Но, кажется, и это мало его занимает. Ты не можешь себе представить, как тяжело мне сейчас жить с ним под одной крышей. Надел на себя какую-то невидимую броню, скорлупу, сквозь которую ничто не проникает. Сам он тоже молчит, но так даже лучше. (Тише.) Боюсь, как бы он не сказал сегодня что-нибудь скандальное…
В и л л и. Будь спокойна. Не осмелится. Может быть, нехорошо так говорить о родном отце, но поверь мне, я его знаю, он трус.
Б е р т а. Педант и комедиант. Представь себе, он твердит, что истинный немец – это он! Если сегодня он публично заявит что-нибудь подобное, я, наверно, со стыда провалюсь сквозь землю. Что бы там ни было, все-таки мы носим его фамилию – и я и ты.
В и л л и (беспечно). Что касается меня, мама, то я делаю все, чтобы фамилия Зонненбрух производила на людей надлежащее впечатление. Есть люди, которые дрожат, когда слышат это имя.
Б е р т а (нетвердо). Я не верю тебе. У тебя такие ясные, чистые глаза. Тебя можно только любить, мальчик!
В и л л и. Есть и такие, что любят. Но мне дорога только твоя любовь, мама. Всякая другая рано или поздно все равно наскучит.
Б е р т а. Нет, это ты – ты для меня все! С тех пор как болезнь приковала меня к креслу, я живу только мыслями о тебе. Верю в твое сильное, здоровое тело, в твою деятельную, смелую душу. Я не смогла бы перенести свою беспомощность, свое увечье, если бы твой образ не стоял всегда перед моими глазами.
В и л л и. Терпеть не могу это твое кресло! (Экзальтированно.) Если бы я мог постоянно быть с тобой, я переносил бы тебя на руках!
Б е р т а. Ты теперь так редко приезжаешь! Я понимаю, что ты там нужен, мирюсь с этим, но с каждым днем мне все более необходимы твой голос, твоя рука… В конце концов, тебя могли бы уже перевести куда-нибудь поближе, в Бельгию, например, или в Голландию.
В и л л и. Работы, мама, у нас сегодня всюду по горло.
Б е р т а (гладя его руки). Мне так хотелось бы увидеть тебя как-нибудь за работой…
В и л л и. Это не так интересно, как ты думаешь. Часто даже скучно. Люди, которыми мы вынуждены заниматься, не слишком изобретательны: думают и делают всегда примерно одно и то же. (С внезапным оживлением шарит у себя в кармане.) Постой-ка! Я заговорился с тобой и совсем забыл… (Достает коробочку, открывает.) Привез тебе прелестную вещицу, думаю, что для сегодняшнего вечера к этому платью будет очень кстати… (Передавая ожерелье.) Посмотри, как красиво!..
Б е р т а. Очень! Очень! Какой изящный и нежный рисунок! Наверно, и цена немалая, правда?
В и л л и. Это неважно. Я рад, что тебе понравилось. Дай надену.
Б е р т а. Придется побранить тебя. Разоряешься для старухи!
В и л л и. Я купил его случайно, прямо-таки за бесценок. (Застегнул ожерелье у матери на шее.) Замечательно. Именно его и недоставало к черному платью и к твоим волосам… У прежней владелицы тоже были седые волосы…
Б е р т а. Кто она такая?
В и л л и. Как тебе сказать? Мать. Иначе я не могу определить. Просто мать. (Таинственно.) Сказала мне, что это талисман, приносящий счастье, и что надевать его надо в исключительных, особенных случаях. Сегодня как раз и есть такая особенная минута: юбилей профессора Зонненбруха.
Б е р т а. Пожалуйста, Вилли, отвези меня в мою комнату, я хочу посмотреть в зеркало. Ведь еще осталось немного времени, правда?
В и л л и. По меньшей мере пятнадцать минут.







