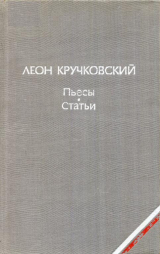
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
ПУТЬ К «НЕМЦАМ»{17}
Дамы и господа! Дорогие немецкие друзья!
Разрешите мне начать с одного личного воспоминания. Как вам известно, годы войны я провел в лагере для военнопленных. В связи с этим фактом моей биографии один из берлинских рецензентов написал в статье о премьере «Зонненбрухов», что я пять лет просидел «за фашистской колючей проволокой» и что это была «немецкая колючая проволока». Так вот я хотел бы исправить некоторую неточность этой информации. Колючая проволока, за которой я пережил пять лет плена в немецком лагере, была не немецкая, а испанская. Это кажется нелепым, но так было на самом деле.
Однажды ноябрьским днем, ровно десять лет тому назад, нашу колонну военнопленных ввели в ворота предназначенного для нас лагеря. Работы по его окончательному оборудованию не были еще закончены. Территория лагеря была окружена всего лишь одним рядом колючей проволоки, поэтому спешно сооружались новые линии заграждений. На огромном дворе громоздились большие клубки проволоки. К каждому из них была прикреплена жестяная пластинка с фабричной маркой. Надписи на пластинках были испанские. Проволока была доставлена с барселонской фабрики. Генерал Франко чем мог выплачивал долг благодарности Гитлеру…
Лично для меня это открытие не было откровением. Я относился к людям, которые в гитлеризме видели только одну из темных сил фашистского заговора против человечества, правда, силу самую страшную. Для таких людей, как я, не было неожиданным оказаться в лагере, охраняемом солдатами гитлеровского вермахта и окруженном колючей проволокой из фашистской Испании. Но среди моих коллег-военнопленных, офицеров старой польской армии, было немало таких, которые боготворили генерала Франко и, может быть, больше ненавидели немцев, чем Гитлера. Эти люди долго не могли понять, как случилось, что они должны сидеть в немецком лагере за испанской проволокой.
Почему я вспоминаю этот далекий случай и именно здесь, в Берлине, во время дискуссии о «Зонненбрухах»? Потому что есть определенная последовательность в том, что я как человек и как писатель через долгий ряд лет пришел к пьесе о немцах. Давно, еще задолго до 1939 года, для меня было ясно и очевидно, что «колючая проволока» настоящего фронта современной борьбы за судьбы мира проходит не между народами, а через народы, что и в Германии она проходила, да и теперь проходит между демократией и фашизмом или неофашизмом, между миром и войной.
Был, однако, период в несколько лет, когда миру могло казаться, что эта линия фронта борьбы у самих немцев перечеркнута или почти совсем стерта. Мы знаем, что этому периоду предшествовала массовая и методичная ликвидация нескольких сотен тысяч лучших революционных активистов рабочего класса, который вдруг из мощной многомиллионной общественной силы превратился в аморфную искалеченную колоду с полностью парализованными центрами сознания и воли. Это имело трагические последствия для всего народа, который стал легкой жертвой самой омерзительной националистической и империалистической пропаганды, а затем, как продолжение этого, в подавляющем большинстве, активно либо пассивно, публично либо молча, одобрил Гитлера перед лицом всего мира. В результате народы европейских стран, захваченных Гитлером, перестали в те годы отличать немца от нациста и в массе своей идентифицировали эти два понятия. Это был как бы расизм à rebours[5]5
Наоборот (франц.).
[Закрыть] не только в Германии, но и за ее границами. Люди как бы потеряли тогда способность к историческому мышлению, поддались, сами того не ведая, навязанным гитлеризмом критериям «биологизма» и всей геббельсовской демонологии. Политико-моральная проблема вины и ответственности немецкого народа за Гитлера вылилась в мрачный тезис о «врожденной преступности немцев», тезис фатальный и бескомпромиссный.
Эта точка зрения не могла измениться сразу, на следующий день после поражения третьего рейха. Не могла она также не найти отражения в литературе первых послевоенных лет, которая является не только плодом индивидуального вдохновения, но и свидетельством коллективного мышления. У европейских писателей эмоциональное видение, когда речь заходила о немецкой тематике, на некоторое время вытеснило способность диалектического видения. Психологически это было объяснимо, но рано или поздно должно было наступить время и для другой позиции литературы в отношении немецкой проблемы. Я касаюсь тут вопроса дистанции, который, как мне кажется, стал одним из главных пунктов проходящей здесь, в Германии, дискуссии о «Зонненбрухах». Я читал в берлинской прессе, что у немецких писателей еще нет этой дистанции, необходимой для научного понимания и определенной объективизации видения. Я думаю, что дистанция во времени во многих литературных событиях может быть заменена или дополнена дистанцией в пространстве. Мне кажется, что, может быть, нам, смотрящим со стороны на немецкое общество, легче не только формулировать упреки и обвинения, но и дать объективную политическую и моральную оценку явлений, характеризующих это общество.
Естественно, наши выводы о немцах могут быть разной точности и полноты, и здесь все зависит от интуиции, правильности мышления, честности, наконец, таланта писателя. Но только в одном случае эти выводы будут позитивными, плодотворными, – если они будут сделаны на основе анализа широких процессов, происходящих в коллективном сознании наших народов! Я хочу этим сказать, что и мы в Польше, точно так же, как и вы у себя в Германии, стоим перед лицом больших задач национального воспитания. Вот уже пять лет прогрессивные силы в нашей стране ведут неслыханно тяжелую работу по преобразованию не только конституционных, экономических и общественных форм, но и по преобразованию сознания широких масс нашего народа. История и старые общественные отношения наслоили в их душе и сознании столько предрассудков и фальшивых оценок, нанесли столько травм, что можно открыто говорить о настоятельности переворота мышления, о внедрении в сознание интернационализма, опирающегося на подлинный народный патриотизм, свободный от шовинистической истерии. Этот переворот уже происходит, и рабочий класс вместе с передовой интеллигенцией являются его главной преобразующей силой.
Именно из волн этого исторического процесса, происходящего в сегодняшней Польше, родилась моя пьеса о немцах, поскольку вопрос об отношении к немцам в нашем обществе продолжает быть одним из главных показателей коллективного мироощущения и мышления.
«Зонненбрухи» – это не только еще одна театральная пьеса, хорошая или плохая. Это, как мне видится, определенный общественно-политический и моральный акт, попытка поляка продраться сквозь густую мглу нашей памяти о гитлеровской оккупации. Если эта попытка оказалась возможной уже спустя четыре года после войны, то это прежде всего выражение происходящих у нас перемен, тех перемен, на историческом пути которых силы прогресса в Польше встречаются – и должны были встретиться! – с силами возрожденной Германии.
Тысячи вчерашних Иоахимов Петерсов мужественно сражаются сегодня на передней линии, на самом горячем участке общего для всех нас фронта борьбы за будущее человечества. Так пусть же этот факт будет решающим в последнем, уже не театральном, а историческом эпилоге реальной до недавнего времени драмы всех немецких зонненбрухов.
ЕЩЕ О «НЕМЦАХ»{18}
Начнем с названия, поскольку именно оно вызвало больше всего возражений и недоумений.
Публикуя весной 1949 года в журнале «Одродзене» первый акт моей пьесы, я воспользовался первоначальным условным названием «Немцы – люди». Уже написав пьесу целиком, я понял, что оно не выражает достаточно точно содержания произведения. Это не означает, что в ходе работы я отошел от первоначального замысла, не означает также какую-либо «нечеткость концепции» пьесы. Дело, скорее, в том, что формула «Немцы – люди» определяла попросту исходный пункт, с которого я начал разрабатывать данную тему, и в этом смысле она несомненно обладала определенной полемической остротой, полемической в отношении трактовки в нашей послевоенной литературе (и не только нашей) немецкой проблемы и немцев, трактовки, сводившейся почти исключительно к показу страданий, травм и чувств. Литературный образ немца в наших романах, повестях, пьесах и фильмах на тему оккупации был образом скорее сатанинским, чем реалистическим, образом очень слабой познавательной ценности или вообще лишенным ее. Были жесты и выражения лиц, действия и поступки, но не вскрывались мотивы действий, внутренний механизм «функционеров преступлений», тот механизм, который использовался гитлеровским империализмом в своей чудовищной игре.
Этот ведущий к опасным упрощениям метод следовало каким-то образом преодолеть, особенно по мере того как с течением времени начала вырисовываться непреодолимая потребность поисков идеологических и практически-политических концепций решения «немецкой проблемы» способом, полезным для мира во всем мире и для жизни народов – соседей Германии. В основу этой концепции должна быть также заложена необходимость создания определенной психологической настроенности у народов, переживших гитлеровскую оккупацию.
И вот название «Немцы – люди» означало для меня некий исходный пункт попытки отойти в литературе от плакатного портрета «лающего немца» и поставить перед собой вопрос: как они «это» совмещали со своей обычной человеческой жизнью там, в своем рейхе, среди своих жен, родителей, детей? Какими они были между собой, когда их не видели наши глаза? Не гитлеровская дрессированная бестия, член национал-социалистской партии, кадр террористического аппарата, а обычный, «нормальный» немецкий человек, – каким он, собственно, был, и в чем заключалась его вина?
Немцы – большой народ и живут в самом центре Европы. Слишком часто и слишком ощутимо врывались они в жизнь других народов, так что не только их политика, но и внутренние, «человеческие» дела пробуждали в нас самый пристальный интерес. Война и гитлеровская оккупация приблизили «немецкую проблему» до ужаса близко, так что «интерес» должен был у многих из нас превратиться в страсть постигнуть внутренний механизм всего того, что нас мучило физически, морально и политически с 1939 по 1945 год.
Я думаю, что в этом смысле формула «Немцы – люди» достаточно четко просматривается в моей пьесе, в ее замысле и «подтексте». На титульном листе после окончательного завершения произведения остались просто «Немцы».
И вот тут, собственно, и начались возражения и недоразумения.
Я неоднократно читал и слышал, что «Немцы» как название – это слишком широкое обобщение конкретного содержания моей драмы с ее конфликтом, фабулой и персонажами. Говорят, что мелкобуржуазная интеллигенция, к которой относится семья Зонненбрухов, не может быть признана достаточно «типичной» для всего, о чем мы думаем, говоря: немцы. Один из публицистов образно выразился, что моя пьеса «дает нам представление о судьбе опилок, не давая, однако, почувствовать силу магнита», то есть немецкого пролетариата как классового гегемона.
Такой подход кажется мне слишком схематичным. Из несомненного факта, что пролетариат как класс является революционным гегемоном нашей эпохи, не следует, однако, совсем, что рабочие массы какой-либо определенной страны, в определенный период и по определенным причинам не могут временно оказаться в ситуации, не имеющей ничего общего не только с революционной гегемонией, но и вообще с какой-либо субъективной политической самостоятельностью. Что же касается вопроса, о котором речь идет в настоящее время, то, может быть, следует вспомнить некоторые факты, видимо, недостаточно у нас известные либо недостаточно запомнившиеся.
Остается фактом, что гитлеровский режим в первые годы своего господства почти полностью ликвидировал численно огромный политический актив немецкого пролетариата. Прежде чем европейские народы испытали на себе всю жестокость и беспощадность коричневого фашизма, он в течение ряда «мирных» лет испытывал свои методы в собственной стране, главным образом на немецком рабочем классе. С 1932 по 1936 год в Германии было уничтожено около двухсот пятидесяти тысяч антифашистов, в большинстве своем членов КПГ, свыше шестисот тысяч на много лет заключено в лагерях и тюрьмах, остальные, спасаясь, эмигрировали. После 1936 года в Германии остались только жалкие крохи, разбросанные и изолированные от масс остатки всего того, что составляло мозг, нервную систему и руки немецкого пролетариата. Никогда еще в истории многомиллионный класс (около 50 процентов населения Германии), класс в основе своей революционный, не был так последовательно и эффективно парализован на ряд лет, лишен своего политического костяка, своего революционного актива. Первые годы войны, годы ошеломляющих военных успехов Гитлера, если что-либо и изменили в этой картине, то только в худшую сторону. В сознании немецких масс они довершили дело опустошения, привели к тому, что в жизни Германии это был период глубочайшего упадка, помрачения и паралича сознания и классовой воли народных масс.
В Берлине мне рассказывали об одном из крупнейших металлургических заводов Германии, на котором в течение всего периода гитлеризма из двенадцати тысяч занятых рабочих число членов национал-социалистской партии никогда не превышало ста пятидесяти человек. Итак, всего 1,2 процента, – цифра весьма красноречивая. Но на этом самом заводе в течение всего времени войны не было ни одного случая саботажа, ни одной попытки нарушить высокий, продиктованный войной ритм производства – и это тоже красноречивый факт. Зонненбрухи были не только на университетских кафедрах, они стояли у доменных печей и станков. Только те, с кафедр, к своей позиции еще приспосабливали «философию»…
Это подтверждают, пожалуй, наиболее компетентно, высказывания самих немцев, подтверждает немецкая литература (хотя бы книги Анны Зегерс) и демократическая публицистика, это подтверждают – после постановки моей пьесы в Берлине – почти все высказывания о широкой типичности Зонненбрухов, высказывания, с которыми я имел возможность познакомиться в прессе или услышать во время дискуссий и бесед. Эти высказывания позволяют мне легко представить себе действие, основное содержание и персонажей моей пьесы перенесенными без каких-либо значительных изменений в иную среду немецкого общества того же самого периода.
И посему: может быть, в самом деле – «Немцы»? Может быть, «обобщение» не так уж безосновательно? А если уж обязательно «драма опилок», то, может быть, просто принять, что гитлеризм, вопреки своей программе «Volksgemeinschaft»[6]6
Народное общество (нем.).
[Закрыть], каким-то воистину «тотальным», опустошающим образом взорвал немецкое общество, включая бо́льшую часть рабочего класса.
Одна из берлинских газет проводила в ноябре прошлого года среди писателей, театральных и общественных деятелей анкету на тему «Зонненбрухов». Приведя ряд высказываний в нескольких номерах, она суммировала их в редакционной статье. В этой статье, знаменательно озаглавленной «Это касается каждого из нас», автор останавливается на вопросе, в чем заключается своеобразие и новизна «Зонненбрухов» в сравнении с послевоенными пьесами немецких прогрессивных авторов на подобные темы.
«Глубокое впечатление, произведенное «Зонненбрухами», в немалой степени объясняется тем, что эта пьеса вскрывает внутреннюю ситуацию не Германии, а немцев в гитлеровском рейхе. Большинство пьес до нее лишь касались этого вопроса. Показывая фашизм извне, они не охватывали явления в полной мере, а посему не объясняли его и непонятное делали еще более непонятным. Жестокая бестия, фанатический преступник, которым пьесы до сих пор занимались, был ведь только симптомом чумы, а не самим бедствием. Он не мог бы стать типической фигурой, если бы зараженность почти всего национального организма не дала ему питательной среды для развития. Именно эту инфекцию, хотя еще не ее источники, мы и прослеживаем в «Зонненбрухах», и это более всего и отличает данную пьесу от тематически аналогичных немецких пьес».
О чем же конкретно идет речь?
«Прежние антифашистские немецкие пьесы, изображая преступные действия выродившихся личностей, позволяли зрителю (немецкому. – Л. К.) решительно от них отмежеваться. «Зонненбрухи», как первая попытка в новом направлении, уже не позволяют этого сделать. Ибо здесь речь идет не об индивидах и их преступных действиях, а о среднем немце, обо мне, о тебе, о нас, сидящих в зрительном зале. «Tua res agitur»[7]7
«Твое дело торжествует» (латин.).
[Закрыть]: анализируется слабость и вина каждого из нас…»
Я привел здесь эту довольно длинную цитату не только для того, чтобы реакцией Берлина осветить вопрос о правомерности или неправомерности польского названия моей пьесы. Мне хотелось еще ответить на один упрек, с которым иногда встречаюсь в Польше, упрек в том, что я не показал в достаточной степени немецкое движение Сопротивления, представленное у меня, как известно, скорее, символическим образом Петерса.
Я всегда относился и отношусь с наивысшим уважением к героизму немецких антифашистов. По другому поводу я уже писал, что это был героизм высшего порядка, высшего потому, что это были «одиночки» в терроризированном обществе, бойцы без тыла. Нужна была воистину величайшая выдержка духа, чтобы не усомниться и бороться именно там, в самом логове врага, у самых источников все уничтожающей силы, бороться в обстановке преступного, массового фанатизма одной части собственного народа и глухого бессилия другой.
Вот горестное признание одного из этих людей.
«Миллионы антигитлеровски настроенных немцев, – пишет Александр Абуш, – пассивно смотрели на борьбу и смерть лучших своих людей, тайком оказывая им от случая к случаю скупую помощь; в конце концов, запуганные жестокими преследованиями, они стали довольствоваться пассивным утешением: «Я не меняю своих убеждений, однако нет иного выхода, как только ждать». Таким образом, они способствовали расколу подпольного движения Сопротивления и изоляции его от собственного общества».
«Подлинное значение немецкого подполья, – добавляет тот же автор, – заключалось в том, что его бойцы олицетворяли надежду и веру в будущее».
Именно это и воплощает образ Иоахима Петерса в моей пьесе. Это проистекало не только из верности исторической правде, но и из самих принципов пьесы.
«Немцы» не являются и не задуманы как драма о немецком движении Сопротивления (я думаю, что это, скорее, тема для прогрессивных немецких писателей). Это пьеса об отсутствии движения Сопротивления в Германии, точнее – о причинах слабости и изоляции этого движения, которое при всем своем моральном значении «надежды и веры в будущее» никоим образом не могло быть в данных условиях «мощным магнитом» для миллионов, десятков миллионов «опилок», не только мелкобуржуазных… В «Немцах» я хотел и пытался добраться до ошибок и вины «честного немца», ибо на эти ошибки и виновность гитлеризм опирался значительно сильнее и шире, чем на дивизии СС и сеть гестапо. На глупость и трусость мелкой буржуазии, на слабость и бессилие миллионного рабочего класса, равно как и на империалистические устремления буржуазии.
И, странное дело, в Польше не все поняли, что пьеса, имеющая целью начать перелом в нашем восприятии немцев и немецкой проблемы, должна была уже в самом названии подчеркнуть обобщенность своих намерений, свой «ударный» характер, и с этой задачей не справилось бы ничего не говорящее польскому зрителю, хотя и более точное, название, например «Семья Зонненбрухов». В то же время в Берлине ничего не говорящее для немцев название «Немцы» сужено до «Зонненбрухов» – и, несмотря на это, все почувствовали и поняли, что Jedermanns Sache verhandelt wird[8]8
Дело касается каждого из нас (нем.).
[Закрыть], что эта немецкая семья «типична» не только для своей социальной среды, но и представляет «почти исчерпывающую типологию немцев периода гитлеровской войны» (Эрнст Райсиг в «Зоннтаг»), что «Зонненбрухи» – это «самая близкая до сих пор к правде пьеса о немецкой действительности» (Фриц Эрпенбек в «Нейес Дейчланд», центральном органе СЕПГ). По всем дошедшим до меня из Берлина живым и печатным откликам я имею право судить, что мне в значительной мере удалась определенная, заранее намеченная типизация немецких персонажей гитлеровского времени, типизация образов не вырожденцев и выдрессированных преступников, а нормальных, обычных немецких людей. Лично я был бы склонен считать наиболее знаменательными в этом смысле два образа-антипода: профессора Зонненбруха, с одной стороны, и «простого человека» Гоппе – с другой. Между ними умещается, я думаю, достаточно большой диапазон оттенков, окрашивающих все «безразличное» либо пассивное в отношении гитлеризма огромное большинство общества третьего рейха. Антифашист Петерс относится, естественно, к другому миру и в пьесе выполняет определенную функцию: символизируя трагизм и «изолированный от собственного общества» героизм немецкого движения Сопротивления, он играет главным образом роль катализатора, сгущающего или высвобождающего внутреннее содержание «тех», других.
Есть, однако, в моей пьесе, персонаж, именно из «тех», который внешне не укладывается в рамки «типизации». Я имею в виду Рут. Этот образ, возбуждающий наибольший интерес, вызывающий большинство вопросов и противоречивых интерпретаций, представляется наименее «четким» И тем самым, может быть, и особо интригующим, ибо именно он в своей необыкновенно острой, хотя внешне и недостаточно ясно мотивированной, почти эксцентрической активности и создает главный драматический мотив фабулы. Я неоднократно уже имел случай комментировать образ Рут и то, что он представляет по замыслу автора. Но всякий авторский комментарий ex post[9]9
Задним числом (латин.).
[Закрыть] может показаться односторонним и «надуманным». Так что же принять за основу анализа? Я думаю, что в такой пьесе, как «Немцы», надо исходить по крайней мере из двух элементов: из текста и определенного общего знания предмета (в данном случае положения немецкого общества в период гитлеризма).
В немецкой прессе подчеркивалось, что образ Рут, при всей индивидуальности и внутренней сложности, умещается в границах типологии этого общества. Рут относится к менее известной части немецкой молодежи, которая сумела устоять перед гитлеровской дрессировкой, но не всегда могла достигнуть политического антифашистского сознания. Именно среди этой молодежи случались факты индивидуального героизма в ситуациях, в которых не оправдывали себя другие, «более трезвые» или более оппортунистические элементы терроризируемого общества.
Рут, как дочь своего отца, естественно, унаследовала от него определенные внутренние качества, скажем, определенный эстетический гуманизм и культуру чувств. Именно это позволило ей противостоять губительным антигуманистическим влияниям нацистской дрессировки. Однако невозможно представить, что ее не коснулось гитлеровское воспитание, что она не впитала ни одного из его «философских» принципов, таких, как культ воли, власти и преклонение перед «сильной личностью». Личность Рут – это результат двух противоположных воздействий. И именно такого рода личности среди бессильного, как труп, общества третьего рейха имели больше всего данных, чтобы отваживаться в определенных обстоятельствах на акты действенного протеста, на неожиданные вспышки активности, на индивидуальные выступления против окружающей действительности. (Естественно, это не активность подлинных антифашистов, опирающаяся на политическое сознание, – Рут относится не к ним, а к той огромной «части» общества, создать картину которого я и хотел в «Немцах».)
Как это выглядит в тексте пьесы?
«Я хочу жить, отвечая только за себя» – в этом высказывании Рут трудно усмотреть исключительно отголоски ницшеанства, освобожденной «морали господ» и эгоистического преклонения перед собственной силой, ибо в то же время (сцена во Франции) выразительно звучит беспокойство в ее словах: «Вы в самом деле думаете, что нас не любят?» – и так энергичен ее протест в этом: «Я никому не сделала и не делаю зла». Нет, упорство, с каким Рут подчеркивает своеобразие своего поведения и свою самостоятельность в поступках, – это, может быть, не совсем сознательный, но твердый отход от господствующей вокруг традиции гитлеровской Volksgemeinschaft, от слепого послушания, пассивности и трусости окружения. От этого уже, пожалуй, прямой путь, при наличии характера и личного мужества, к активному выступлению против семьи (и чего-то более грозного за ее пределами) в вопросе помощи Петерсу – даже если она (еще?) не понимает его роли и смысла его политической борьбы.
А как быть с тирадой о «яркой жизни»? В связи с этим следует помнить, что Рут – это образ, показанный в драматическом развитии, критическим пунктом которого служит именно французский эпизод. «Я хочу это видеть… Должна это видеть», – говорит она майору, узнав об уничтожении заложников. Это потребность посмотреть в глаза правде гитлеровской оккупации, потребность воочию убедиться, почему же в Европе «нас не любят» – не какая-то дешевая извращенность, а ощущение наступающего жизненного поворота. И если до сих пор Рут с поистине биологической убежденностью неоднократно пользовалась своей фразой о «яркой жизни», то на следующий день после дорожного эпизода она в беседе с отцом еще раз бросает эту фразу, но уже как бы в кавычках, с чувством нового, страшного значения этих двух слов; именно так, как это сделала с изумительной интуицией и подлинным актерским мастерством Ирена Эйхлерувна{19}.
Нет, Рут не спасает Петерса – как этого хочет один из польских критиков – «для полноты впечатлений». Серьезный анализ текста уберег бы от такого рода легкомысленной интерпретации. Вместе с тем я согласен с тем же критиком, когда он констатирует правильность авторской интуиции, которая «не позволила спасти Рут». Действительно, «на эту девушку упала тень близкого конца ее класса». Ибо глубокое значение конца буржуазии не только в том, что она умирает в пароксизмах преступлений и страшнейшей жестокости в отношении народных масс, а и в том, что она безжалостно губит все лучшее, самых ценных личностей в собственном классе, в собственной среде. Гитлеровская Германия дает немало тому примеров – одного из них не могло не быть и в «Немцах».







