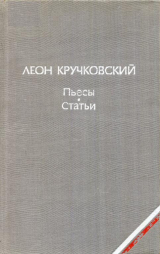
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Г у б е р н а т о р. Плевал я на них! Теперь, когда глупая судьба и еще более глупые люди вернули мне мою свободу, я жалею лишь об одном: что оставили мне на это так мало времени…
Р а с с к а з ч и к. Внимание! Приближается тот, кто до недавнего времени был вам не совсем безразличен, но кому бы не понравилось то, что вы говорите…
Входит И о а с я. Губернатор отступает за дерево, стоя в укрытии, слушает.
(Наблюдает за Иоасей. Пауза.) Вы знали его превосходительство, барышня?
И о а с я (машинально). Нет. (Пауза.) Да.
Р а с с к а з ч и к. Как все в городе. Знали и не знали.
И о а с я. Нет, не так, как все.
Р а с с к а з ч и к. Иначе?
И о а с я. Немного иначе. (Пауза.) Я принесла розу. Но не знаю, следует ли ее тут положить. Мне казалось, что на него навалят самый тяжелый камень, какой только можно найти… Мне было жалко… Между тем тут – столько великолепных венков, лент… За что, почему?
Р а с с к а з ч и к (с иронией). Очевидно, его любили – жена, дети, подчиненные…
И о а с я (после некоторого раздумья). Все-таки положу. Нет. Не ему. Тем, кто его убил.
Р а с с к а з ч и к (приблизясь, доверительно). Возможно, вы правы. За день до смерти он сам говорил, что это сделают отважные люди.
И о а с я. Вот видите! (Пауза.) Говорят, что те, кто его убил, хотят исправить мир.
Р а с с к а з ч и к. Разумеется. Но бомбами его не исправишь.
И о а с я. Я тоже так думаю. А все-таки многие из них за это погибают. Хоронят их тайком, мало кто знает, где они лежат. Поэтому я положу эту розу здесь. Я положу ее наперекор этим великолепным венкам. (Кладет розу на землю у подножия горы венков.)
Р а с с к а з ч и к. Что касается цветов, то безразлично, за что они либо против чего. Они одинаково пахнут и одинаково истлевают. Как и останки, что здесь покоятся: через десять лет не узнаешь, чьи они…
И о а с я (отступает от могилы). Через десять лет? Я буду тогда совсем взрослая… Но боюсь, что до этого времени мир не будет исправлен.
Р а с с к а з ч и к. Пожалуй, еще нет, милая Иоася…
Сцена погружается в темноту; яркий прожектор освещает только гору венков и лежащую возле нее на земле розу.
З а н а в е с.
Перевод М. Игнатова.
СТАТЬИ
Перевод М. Демакиной.
АДАМ МИЦКЕВИЧ{7}
Высокий Сейм! Сто пятьдесят лет тому назад родился Адам Мицкевич, великий провозвестник творческой силы нашей нации и один из прогрессивных духовных деятелей человечества. Гениальный поэт, страстный человек действия и народный трибун, волшебник слова и солдат революционных знамен, он родился, чтобы подарить своей нации не только бессмертную красоту и вечно живой источник вдохновения, но и высокую общественную и моральную правду, а всему миру – возвышенное чувство единства и солидарности всех сил, борющихся за свободу и лучшую жизнь.
Свыше ста с лишним лет польский народ мог черпать богатства из великого творческого наследия Мицкевича. Никогда оно не было таким доступным широчайшим народным массам, как теперь. Никогда в течение целого столетия не раскрывали обществу Мицкевича полного – Мицкевича не только поэта, но и революционера, одного из тех могучих и прозорливых людей своей эпохи, которые срослись со своими народами, вели их на борьбу с силами реакции, указывали путь к видимому ими будущему.
Польские правящие классы на свой лад и на потребу своих идеологических целей стремились представить его как идеального поэта-пророка, старательно замазывали в его облике все, что говорило о Мицкевиче – борце за народное дело, поборнике прогресса и братства народов. В руках буржуазных идеологов Мицкевич бывал то свечой на алтарях сытого мещанства, то поэтическим призраком, потусторонним тираном, то консервативным певцом косной шляхты, а по надобности и таинственным мистиком, пророком-мессией.
И только теперь, в сегодняшней Польше, приходит время для понимания во всей полноте, во всем человеческом и общественном содержании такого явления, каким был Мицкевич. Только теперь, в народной Польше, настало время раскрыть это явление всему народу, сделать доступными его книги, полные ума и страсти, миллионным массам.
Именно теперь мы в состоянии увидеть великого Мицкевича, каким он был на самом деле. Великого тем, что, несмотря на противоречивость, унаследованную от его класса, несмотря на всю жестокость судьбы нации, частицей которой он был, несмотря на все сложности Европы с ее победившей буржуазией и первыми народными революциями, он сумел выразить глубину и мощь главного исторического движения, упорно расшатывавшего опоры и инерцию праздности, косности, эгоизма, – движения героического, преображающего и улучшающего мир.
Именно теперь в Польше, начинающей новый этап своей истории шествием к социализму, мы хотим и должны говорить о Мицкевиче без недомолвок, фальсификаций, ничего не замалчивая, разумно отделяя то, что в нем было от преходящей, неустойчивой эпохи, – мистику мессианства и наполеоновские иллюзии, политическую экзальтацию и утопические общественные упования – от того, что и сегодня звучит ясно и звонко, живо и современно. К этой стороне его творчества обращаемся мы; это творчество, принадлежащее народу по праву наследия, мы хотим и будем делать доступным для наших миллионных масс.
Высокий Сейм! Я хочу напомнить, что 5 мая 1945 года первый парламент народной Польши – Крайова Рада Народова – принял решение, в котором сказано:
«Крайова Рада Народова, взяв на себя нереализованную инициативу Законодательного Сейма 1920 года по вопросу об издании полного собрания сочинений Адама Мицкевича и полностью признавая великую роль творческой мысли великого польского и славянского писателя в национальной культуре Возрожденной Польши, постановляет, под Высоким покровительством президента Крайовой Рады Народовой Болеслава Берута, реализовать мемориальное издание под названием «Национальное издание произведений Адама Мицкевича», чтобы предоставить в распоряжение всего общества подлинные научно подготовленные тексты поэта в образцовом полиграфическом оформлении».
Как известно Высокому Сейму, во второй половине декабря прошлого года вышли в свет первые четыре тома Национального издания произведений Адама Мицкевича в удачном полиграфическом оформлении тиражом 100 тысяч экземпляров. Этот первый серьезный шаг в деле реализации цитированного выше решения Крайовой Рады Народовой достоин особого упоминания, поскольку он совпал с таким событием исторической важности, как недавно состоявшийся съезд Польской объединенной рабочей партии. Есть несомненная и знаменательная связь между важным политическим событием, открывающим новый период в развитии народно-демократического строя в Польше, и этим серьезным событием культурной жизни. В данном случае проявляется не в первый и наверняка не в последний раз непрерывная историческая преемственность всех творческих сил и творческих направлений нашей национальной жизни.
Но личность и творчество Мицкевича – это не только наше самобытное, польское достояние. Его называют, и вполне справедливо, величайшим наряду с Пушкиным славянским поэтом. Действительно, оба они произвели революцию в поэзии своих народов, оба достигли вершин в мастерстве слова и оказали влияние на все братские славянские народы. Оба закрепили свою дружбу общими мечтами
«…о временах грядущих.
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся»{8}.
И вот сегодня мы являемся свидетелями почестей, воздаваемых Мицкевичу всеми славянскими народами, народами Советского Союза и стран народной демократии. Специальные торжества в Москве и других городах Советского Союза стали выражением глубокого почитания Мицкевича народами этой великой страны. Это почитание не ограничивается приличествующими юбилейным торжествам словами. Более полным выражением его служат огромные тиражи произведений нашего поэта, переведенных на многочисленные языки миллионных народов Советского Союза.
Томики Мицкевича в руках рабочих Москвы, в руках украинских и белорусских колхозников, в руках грузин и узбеков – это не только удивительно точное исполнение мечтаний, высказанных польским поэтом и его друзьями – русскими революционерами во время петербургских прогулок сто двадцать лет тому назад. Это вместе с тем одна из величайших побед идеи братства народов, поборником которой сто лет назад, в дни Весны Народов, был Адам Мицкевич и которую теперь в повседневной жизни реализуют страна победившего социализма и страны народной демократии.
Высокий Сейм! Трибуна, с которой я говорю, это трибуна Законодательного Сейма нашего народного государства. Мы привыкли слышать с нее слова, говорящие о различных больших и малых, но всегда животрепещущих делах и проблемах нашей национальной жизни, о трудных и необыкновенно ответственных задачах сегодняшнего дня и будущего. И если сегодня наши мысли с огромным уважением обращены к памяти одного из величайших людей, данных миру Польшей, к памяти Адама Мицкевича, памяти гениального поэта и страстного борца за свободу и прогресс, то эти почести вызваны не только глубоким волнением, какое дают нам его книги, его поэзия; они продиктованы четким сознанием того, что мысль Мицкевича – это частица нас самих, что мы, люди, живущие сегодня, идем по трудному и тяжелому, но правильному и необратимому пути плечом к плечу со свободными братскими народами, идем к тем великим целям, которые Адам Мицкевич указывал посохом неутомимого пилигрима свободы и развернутым знаменем солдата Весны Народов.
СТЕФАН ЖЕРОМСКИЙ{9}
Двадцать пять лет, которые отделяют нас со дня смерти создателя «Кануна весны», не настолько большой период, чтобы по прошествии его можно было достаточно точно оценить и установить подлинное значение творчества писателя, оказывавшего исключительное влияние на современников и вызывавшего всегда самые различные, а временами и резко противоположные суждения. Все это так, если бы не одно обстоятельство, которое позволяет сделать такую попытку. Этим обстоятельством являются происшедшие в нашей стране существенные перемены, к которым неуклонно шло современное Жеромскому общество. Мы получили возможность механическую ретроспекцию заменить теперь опытом, обогащенным критериями, проистекающими из нового качества создающейся у нас идеологической надстройки: надстройки общества, строящего социализм. В статье о Толстом Ленин писал, что подлинная оценка этого писателя возможна только с позиций революционного пролетариата. Точно так же и для нас попытка настоящей оценки творчества Жеромского возможна только с позиций рабочего класса, который, свергнув господство буржуазии в Польше, стал гегемоном нации, с позиций, подкрепленных ленинской мыслью и достижениями Советского Союза в области идеологии. Только с таких позиций можно увидеть все звенья прогрессивной традиции в национальной культуре, широко охватить ее преемственность и в полной мере выделить в ней ценности устойчивые, непреходящие. Одним из таких звеньев является, несмотря на всю противоречивость, творчество Жеромского.
Творчество Жеромского еще раз доказывает правильность утверждения, что писатель по-настоящему великий всегда в какой-то степени отражает общественную правду своей эпохи. В этом смысле Маркс и Энгельс в романах легитимиста Бальзака находили ценный материал для научных выводов о состоянии французского общества в период Июльской монархии. В этом смысле Ленин писал о Толстом как «зеркале русской революции».
Творчество Жеромского отразило необыкновенно ярко и четко полные внутренних противоречий перемены, происходившие в положении и сознании средних слоев польского общества на рубеже XIX—XX веков, то есть в период перехода капитализма в империализм, в период стремительного вырождения буржуазии, особенно обнаружившегося во время двух революций: 1905 и 1917 годов. На польских землях, в первую очередь на территории, входившей в состав бывшей царской России, это был период, когда непомерно выросла концентрация, а в связи с этим и агрессивность финансового капитала, что нанесло сильный удар по экономике послереформенной деревни. Стремительному крушению экономической базы средней и мелкой шляхты и резко возросшей нищете безземельных и малоземельных крестьянских масс соответствовала быстрая пауперизация мелкой буржуазии в городах, особенно интеллигенции с «гуманитарным» образованием, болезненно ощущавшей, кроме того, национальный гнет. На противоположном полюсе исторического процесса в революционную освободительную борьбу вступал рабочий класс, быстро созревавший благодаря братской связи с революционным движением русского народа.
В идеологической сфере этого периода польская буржуазия скатилась с прогрессивных в свое время позиций позитивизма в открыто реакционное болото жестокой, особенно после 1905 года, контрреволюции и пришла к полному соглашению с царским империализмом. Мелкая буржуазия, как обычно несамостоятельная и часто отягощенная немалым грузом национализма, подверглась поляризации между черносотенной реакцией и симпатиями к рабочему движению.
В рядах творческой интеллигенции и прежде всего в литературе идеологический регресс привел к закату позитивистского реализма и появлению всех тех направлений, из совокупности которых вышел так называемый неоромантизм «Молодой Польши». Очень знаменательна при этом была «география» представителей этого «реакционного перелома». (Говоря о «географии», нам хотелось бы обратить внимание на разницу в общественно-политических условиях на территориях, захваченных тремя странами.) Почти все писатели-реалисты позитивистского поколения – выходцы из земель, захваченных прежде Россией (Свентоховский, Прус, Сенкевич, Ожешко, Конопницкая, Дыгасиньский). Это же касается и почти всех выдающихся и в определенной степени реалистических писателей следующего поколения (Жеромский, Реймонт, Вейсенгоф, Серошевский, Берент). Зато вся убежденная оппозиция реализму, все ведущие поэты и драматурги «Молодой Польши», адепты эстетизма, символизма, метафизического мрака антирационализма и общественного индифферентизма, происходили почти исключительно с территорией, захваченных Австрией и Пруссией (Пшибышевский, Выспяньский, Каспрович, Тетмайер). Не подлежит сомнению, что реалистические тенденции и общественная восприимчивость выступали в творчестве двух поколений польских романистов в той степени, в какой они, хотя бы временно, в юности были захвачены мощным интеллектуальным потоком, каким было критическое и прогрессивное революционное движение русской мысли второй половины XIX века, представленное Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Герценом и Толстым. С другой стороны, антиреализм и реакционность философских позиций «Молодой Польши» проистекали либо из Бергсона, либо из Шопенгауэра и Ницше.
Жеромский несомненно относился к первому кругу писателей. Его личная судьба была типична для общественного слоя, к которому он принадлежал, для интеллигенции шляхетского происхождения в бывшем Царстве Польском. Он вырос и созрел в условиях двойного гнета, обусловленного, с одной стороны, возрастающей агрессивностью капитализма, пагубной для средних слоев и народных масс, с другой стороны, жестокой национальной политикой царизма. Исключительная чувствительность к страданиям, ко всякого рода несправедливости и невзгодам, характерная для творческой индивидуальности Жеромского, с ранней юности привела его к бескомпромиссной общественной критике, бунту и моральному протесту против всякой несправедливости и господства человека над человеком. На эту эмоциональную почву упали семена прогрессивной русской мысли и идеи европейского и варшавского позитивизма. Эти последние отягощали все его творчество; именно они были одним из источников постоянной склонности писателя к утопическим общественным реформам, его несколько наивной экзальтации в отношении техники, его публицистической страстности в защите реформистского «разрешения» как существенных, так и совершенно второстепенных проблем коллективной жизни.
Глубокая любовь к человеку, пылкость воинствующего гуманиста, далекого от олимпийской уравновешенности и успокоенности, чувствительная до мании совесть и, наконец, обостренная собственным жизненным опытом способность реалистического ви́дения действительности – все это привело к тому, что Жеромский в польской литературе конца XIX и начала XX века стал писателем, который с огромной силой, в самых волнующих образах показал страдания человека в обществе, основанном на собственности, на экономических и социальных привилегиях, на гнете и эксплуатации. Силой его писательского таланта было то, что он видел основное зло капитализма и симптомы общественного загнивания, умел критически анализировать национальное прошлое, чувствовал иногда движение новых сил будущего, прорывающихся из глубины сквозь двойной гнет, хотя и сам неоднократно пугался напряжения этих сил. Писательский подвиг Жеромского, обеспечивший ему более стойкий, чем многим другим писателям его поколения, отклик в народных сердцах, заключался в том, что он не признавал творчества, оторванного от проблем жизни коллектива, и перед лицом жестокой и омерзительной действительности не дезертировал, как почти все современные ему писатели «Молодой Польши», ни в святыню бесплодного эстетизма, ни в мрачную метафизику или подозрительную (префашистскую!) «метаполитику».
Но из-за внутренних противоречий и типичных для средних слоев колебаний Жеромский так никогда и не сумел раскрыть до конца сущность исторического процесса, отдельные проявления которого упорно приковывали его мысли и обостряли писательскую восприимчивость. Возникает какое-то поразительное несоответствие между реалистической яростной критикой общества на страницах «Бездомных», «Луча» или «Борьбы с сатаной» и глубоким пессимизмом сделанных писателем выводов из этой критики и идеалистическим утопизмом «позитивных» решений, которых иногда он искал. Подобные же расхождения можно увидеть между искренностью и силой патриотических чувств Жеромского, с одной стороны, и зачастую, особенно в публицистике, национализмом, который снижал иногда мысль писателя до уровня посредственной буржуазной журналистики, отягощенной поразительно примитивным для писателя такого ранга антисоветским и антирусским комплексом – с другой. Оба эти расхождения имеют один общий источник – страх Жеромского, проистекающий из тяжелой мелкобуржуазной и националистической наследственности, страх перед шествием реальных общественных сил, вступающих в его эпоху на историческую арену с развернутыми знаменами революционной борьбы за общественное, а стало быть, национальное освобождение, единственной борьбы, ведущей к подлинной победе над злом и несправедливостью в общественных отношениях между нациями. Упомянутые черты сужали круг ви́дения Жеромского и не позволяли ему понять далеко идущего значения этих сил, несмотря на то, что он видел мощные удары, наносимые ими.
Любимым героем Жеромского всегда был одинокий человек, исключительно по собственной, суверенной воле, по внутреннему моральному наказу встающий на борьбу против общественного или национального зла. Более того, герой этот чаще всего бывает также «бездомным» в том смысле, что отказывается от личного счастья, чтобы все силы и чувства посвятить «исключительно делу». Эту «бездомность», этот комплекс «разорванной сосны», поражающий нас теперь своим анахронизмом, можно понять только на фоне того времени, когда он появился, как выражение страстного противопоставления омерзительной безыдейности, эгоизму и гнилому оппортунизму правящих классов и мелкой буржуазии, как определенную форму литературного протеста против стремительного, особенно после 1905 года, нравственного вырождения общественных кругов, находящихся в поле зрения писателя. Но ведь это были времена, когда пролетариат, особенно русский и польский, ежедневно предоставлял блестящие доказательства своей идейности, личного и коллективного героизма в самоотверженной борьбе с насилием. Стефан Жеромский замечает человека из народа: деревенского бедняка, сезонного рабочего, батрака, реже фабричного рабочего; однако всегда он его воспринимает скорее как страдающего индивидуума, достойного сочувствия, чем как представителя массы, объединенной единой, общественно обусловленной судьбой, и уж почти никогда не воспринимает как представителя борющихся масс, как самостоятельную классовую силу, способную взять в свои руки и собственную судьбу и будущее нации. Эта политическая близорукость, сознательно суженное восприятие творческих сил народа лишали общественное беспокойство Жеромского реальных перспектив надежды, нередко вели к пессимистическому восприятию общественного зла как фатальной неизбежности, неотвратимого проклятия, отягощающего судьбу человека, иногда заставляли искать решений только в моральной плоскости – в отказе собственников от своей собственности, в реформах сверху или, наконец, в утопических концепциях и изобретениях типа «Огня» Дана{10}, реализованных героями-одиночками.
Непонимание механизма истории, неспособность видеть новые общественные силы, вырастающие в повседневной борьбе, надламывали линию реализма в творчестве Жеромского, подобно тому как «толстовство» нарушало великие классические линии реализма Льва Толстого. Таким образом, «жеромщина» стала на долгие годы понятием, означающим не только и не столько определенный литературный «стиль», сколько прежде всего определенный вид мелкобуржуазно-интеллигентского «бунтарства», лишенного революционной последовательности. А отсюда оставался один шаг до противодействия революции. Действительно, там, где голос брал Жеромский-идеолог, там почти всегда, особенно после 1917 года, раздавался призыв «пресечь путь революции». Всякий раз, когда создатель «Бездомных» отрывался от непосредственного общественного опыта, его мысль чаще всего повисала в идеалистическом поднебесье реформистской утопии и всех тех ложных представлений и несуразных помыслов, о которых под конец жизни он сам вынужден был написать с болезненной искренностью:
«Мое понимание хода вещей всегда было ошибочным. Все и всегда совершалось иначе, чем я задумывал, предвидел, рассчитывал. Все стало иначе, чем я представлял себе в своих мечтах. Независимо от моего логического вывода, все шло стороной, своим собственным путем».
И, однако, несмотря на всю утопичность его общественной программы, проистекающую из страха перед переворотом и сопутствующим ему якобы уничтожением культурного достояния, Жеромский инстинктом честного писателя-художника чувствовал иногда творческую силу и внутреннюю правду пролетарской революции. Он чувствовал ее особенно в часы своих тяжелейших испытаний, когда жестоко обнажившаяся действительность первых лет буржуазно-помещичьей Польши все более болезненно опровергала его идеалистическую веру в низвержение старого общественного зла автоматическим действием «чуда независимости». Именно он один среди всех польских писателей своего поколения имел в то время мужество назвать Октябрьскую революцию «великой попыткой исправления человечества»{11}. Именно он, неспособный понять Каден-Бандровского{12} с его «радостью по поводу обретения родной помойки»{13}, обращался устами Барыки к тогдашним правителям Польши:
«…вы мелкие люди – и трусы ‹…› Боитесь больших дел, большой аграрной реформы, неведомых перемен в старой тюрьме. Вы должны плестись в хвосте «Европы». Нигде этого не было, так как же это может быть у нас? Есть ли у вас мужество Ленина, чтобы начать дело неведомое, сломать старое и возвестить новое? Вы умеете только выдумывать, хулить, сплетничать: ‹…› Польше немедленно нужна великая идея. Пусть это будет земельная реформа, создание новой промышленности, какое-нибудь большое деяние, которым люди могли бы дышать как воздухом. Тут духота. ‹…› Ваша идея – это старый лозунг растяп, прокутивших Польшу: «Как-нибудь сойдет!»
Знаменательный факт, на который некогда обратила внимание советская критика: Цезарь Барыка – первый и в то же время последний герой Жеромского, освободившийся от программного «одиночества», показанный в последней, самой значительной сцене «Кануна весны» в рядах рабочих, идущих на Бельведер. «Одиночкой» в «Кануне весны» по-старому остается утопист Гайовец…
Позволяет ли это знаменательное смещение и вся разоблачительно-обвинительная, главная и самая отчетливая, линия «Кануна весны» оценить последний роман Жеромского как сигнал происходящего в конце жизни в его творчестве существенного идейного перелома, перелома в революционном направлении?
Бесспорным фактом является то, что в глубочайшем восприятии писателя буржуазная действительность Польши угрожала всей системе его общественных верований. На этот раз писатель не нашел ни одного из своих обычных реформистских решений. Твердая и страстная правда Барыки в кульминационной беседе с Гайовцем выразительно торжествует над фантазиями старого утописта. «Канун весны» поставил раздражительный для польской буржуазии знак вопроса, за что Жеромскому заплатили кампанией злобы и брани.
Буржуазия, конечно, ошибалась: «Канун весны» не был революционным романом. Но буржуазия не ошибалась, инстинктивно ощущая беспокойство перед лицом революционных потрясений, о которых этот роман сигнализировал. Неправильным, с другой стороны, было мнение тех, кто в «Кануне весны» усматривал предвестие польского фашизма.
Если Жеромский не сошел на остановке «Независимость»{14}, если сумел увидеть жестокую общественную правду буржуазной «независимости» и ужаснуться ею, то сам этот факт, проистекающий из глубин гуманистической совести писателя, отмежевывал его от любой возможности оправдания фашистских, то есть самых бесчеловечных, антигуманистических попыток спасения капитализма.
Уклоняясь со страхом от единственного реального разрешения проблемы – свержения господства буржуазии рабочим классом, – Жеромский обрек себя, как и большинство его героев, на пожизненное одиночество. Но оно никогда не было эгоистическим, холодным одиночеством чудака-мизантропа. Не было оно также только личной судьбой писателя. Оно отражало прежде всего бессилие, идеологическую безысходность всего общественного слоя, к которому он принадлежал, его несамостоятельность и отсутствие собственных перспектив, его растерянность и его пессимизм; бессилие и безысходность того общественного слоя, о котором Ленин некогда говорил, что он уже ненавидит хозяев современной жизни, но еще не дошел до сознательной последовательной, на все готовой, непримиримой борьбы с ними.
Общественная правда творчества Жеромского выразительнее всего звучит там, где сильнее его художественная правда: в незабываемых, волнующих образах страдающего человека, в реалистических картинах его общественных и национальных невзгод.
В огне опыта последних десятилетий выветривается и рушится философия и публицистика Жеромского, обнажается бесплодие его реформистских утопий, обнажаются его ошибки и идейные заблуждения, в которых он сам признавался.
Остается один из величайших воинствующих гуманистов в нашей литературе, сам неоднократно вспоминающий с радостью и гордостью самые светлые страницы ее прогрессивных традиций, передовой борец против обскурантизма и косности, религиозного и расового фанатизма, против социальной обездоленности женщин.
Остается неумолимый преследователь зла и несправедливости, общественного лицемерия и эгоизма, морали Поланецких и Дульских{15}, один из главных в нашей литературе обвинителей буржуазно-помещичьей системы эксплуатации и унижения человека.
Остается глубокий, страстный патриот, проникающий в историю нации в поисках наивысших полетов мысли. Он находил их не в магнатской «восточной» политике, не в покорении братских славянских народов, а в сохранении и защите западных земель, Силезии, Поморья и Вармии.
Остается писатель, который, как никто другой, любил красоту родного языка и его народные истоки, всегда противопоставлял себя космополитическому снобизму в искусстве, писатель, который всю свою творческую жизнь был верен собственному юношескому признанию:
«Мне опротивело гнилое филистерство «высших классов». ‹…› Я обращаюсь туда, где необъятное разнообразие, вечно меняющее формы жизни, неизведанный, как природа, мир, – к людям. И как человек и как художник я нахожу здесь все, что ищу: хватающие за сердце факты, красоту и удовлетворение любопытства»{16}.
И лирик, лирик необыкновенный, знающий, как никто другой, болезненные и радостные движения человеческой души, глубоко сросшейся с родной природой.
Остается писатель, страстной любовью на протяжении всей своей творческой жизни связанный с судьбой нации – более, чем с судьбой своего класса! И страстный в то же время мечтатель о лучшем, счастливом человечестве. Писатель, не понимающий до конца трудных путей, ведущих к этой счастливой жизни человечества, но безжалостный и мужественный в осуждении существующего зла, писатель, творческая страсть которого совпадала, часто вопреки его убеждениям, со стремлениями сил, борющихся за справедливость и общественный прогресс, за уничтожение эксплуатации человека человеком, за братство и дружбу народов.







