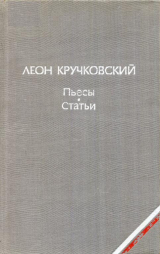
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
МАКСИМ ГОРЬКИЙ{20}
Большие переломы в литературе, как и сама литература, это не изолированные, автономные явления; они сопутствуют значительно более широким, охватывающим все области жизни историческим переворотам и переменам в общественных отношениях.
Максим Горький относится к тем немногим в истории мировой литературы писателям, творчество которых имеет подлинно переломное значение. В развитии художественной литературы он является выразителем того гигантского общественного и духовного переворота, осуществление которого стало исторической задачей рабочего класса, вооруженного революционной идеологией, марксистско-ленинской наукой.
Само понятие перелома предполагает, образно выражаясь, и понятие моста, смело переброшенного над пропастью, понятие определенного «рубежа». Какое-то решительное «нет» и какое-то страстное «да», нераздельные одно от другого. Свой «рубеж» сам Максим Горький охарактеризовал как эпоху, глубоко, необыкновенно и всесторонне драматичную, эпоху интенсивного драматизма процессов уничтожения и созидания. Будучи переведенными на язык четко политический, эти слова становятся характеристикой эпохи империалистических войн и пролетарских революций.
В годы, когда Горький начинал свою творческую жизнь, огромная царская империя была наиболее гнилым звеном мира, в ней господствовали самые пагубные силы империализма. В годы, когда он писал последние свои произведения, на этой огромной территории существовало, строилось, обретало непреодолимую силу первое государство рабочих и крестьян, Союз Советских Социалистических Республик.
Горький принадлежал к числу тех, кто уничтожал старое, чтобы иметь возможность строить новое. Его ненависть к царизму была старшей родной сестрой его горячей любви к советскому строю. Как нельзя отделить день от ночи, так в творчестве Горького нельзя отделить страстную критику буржуазного общества с его волчьей моралью от столь же страстного утверждения сил, заключенных в рабочем классе, в простом народе, сил, способных перестроить жизнь, вернуть все ценности Человеку с большой буквы.
Начав в 1892 году свою писательскую деятельность, Горький застал в литературе своей страны, как, впрочем, и за ее пределами, наряду со всякими ущербными «измами» ценное направление критического реализма, в русской литературе представленное такими выдающимися писателями, как Лев Толстой, Чехов, Короленко. Острота ви́дения общественного зла и глубина сочувствия его жертвам, отличавшие этих мастеров, рождали произведения, которые сыграли важную роль в пробуждении отвращения и ненависти к буржуазным формам жизни; их произведения как сегодня, так и всегда будут ценнейшими драгоценностями в сокровищнице прогрессивной литературы.
Но литература критического реализма была в какой-то мере односторонней. Клеймя существующее зло, она не замечала, во всяком случае не замечала с достаточной ясностью, общественных сил, способных уничтожить это зло, перестроить формы общественной жизни, сделать их лучшими, справедливыми. И вот именно Максим Горький, почти с первых шагов своей писательской деятельности, внес в литературу ясность ви́дения пути, ведущего в будущее, а также горячую веру в творческую энергию народных масс, в необходимость революционного преобразования жизни. В силу этого он стал провозвестником и первым писателем новой эпохи в литературе, эпохи социалистического реализма.
У большого, боевого, реалистического писательского искусства Горького были два источника: глубокое и всестороннее знание жизни и революционная идеология марксизма-ленинизма.
В знании жизни ему помог суровый жизненный опыт и тесная связь с жизнью русского народа. Трудно найти в истории мировой литературы второго писателя, который, подобно Горькому, собственными ногами «выходил» бы свое знание жизни, собственной грудью дышал воздухом, которым дышал его народ, всем своим существом проникся бы горькой долею народа, разделил бы его судьбу и почувствовал его скрытую мощь.
Писатели по-разному присматриваются к жизни. Одни могут заметить в ней лишь натуралистическую мешанину событий, «голых» фактов, вопиющих по своей жестокости или абсурдности, но, в их глазах, оторванных от широкого фона общественных отношений, не связанных между собой. Другие могут искать в окружающей действительности только отражения самого себя, зеркальных очертаний собственного «я». Но есть еще третий тип писателей, третий тип ви́дения действительности: когда художник воспринимает и понимает ее процесс развития, когда мысль и глаз писателя должны замечать не только то, что «есть», но и то, что только еще нарождается.
Способность такого ви́дения, хотя бы в какой-то степени, всегда была условием большого писательского мастерства. Но у Горького, впервые в истории мировой литературы, эта способность восприятия жизни в динамике ее развития проявилась как основная черта творческой деятельности, определившая ее революционное новаторство.
Этой способностью Горький обязан тесной связи своего писательского труда с революционной борьбой рабочего класса, с марксистско-ленинской идеологией. Соединив эту способность с огромным богатством художественных средств, он стал автором «Матери», первым большим писателем новой исторической эпохи, начавшейся в дни Октября.
С какой бы стороны ни смотреть на творчество Горького, всегда поражает необыкновенная полнота и уверенность его полета, его «двукрылость». Творчество Горького никогда не бывает, как у мастеров критического реализма, только «против», оно всегда совершенно ясно и последовательно определяет свое «за», страстно нацеленное в будущее.
В одном из своих высказываний о творчестве Горький различал две основные причины, которые могут склонить к писательскому труду, – это или «томительная бедность жизни», или, наоборот, необыкновенное богатство впечатлений, переживаний, наблюдений. Первая может быть источником страстных мечтаний о другой, лучшей, прекрасной жизни и рождает «романтическую», революционную литературу. Вторая ведет к созданию пластических, полнокровных картин жизни, порождает буйную реалистическую эпику и драматургию.
Свое мастерство Горький выводит из обоих источников. На вопрос, почему он начал писать, он ответил: чтобы противопоставить себя «томительной бедности жизни», а также потому, что напор переживаний, впечатлений и наблюдений «не позволял не писать». Первое породило такие «романтические» произведения, как «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль» или «Песнь о Буревестнике», второе – реалистическую прозу таких рассказов, как «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы».
Так, четко разграничивая две группы своих произведений, Горький сознательно упрощал вопрос для более ясного объяснения сущности затронутых явлений. В действительности направление страстного революционного романтизма пронизывает все творчество Горького, но в то же время оно остается творчеством предельно реалистическим.
Органичность произведений Горького проявляется как в тематике, так и в идейно-эмоциональной направленности. Среди сотен персонажей, населяющих его повести, рассказы и пьесы, – а это представители всех слоев русского общества конца XIX – начала XX века – всегда и всюду присутствует он сам, их создатель.
И в эпике и в драматургии Горький далек от «объективизма». Зная жизнь, как мало кто из писателей, честно и верно раскрывая ее, он ни на минуту не позволял себе быть к ней «нейтральным». Он был, что называется, писателем «тенденциозным», идейно и эмоционально заангажированным в борьбу, которую изображал. Он любил или ненавидел людей, вызванных к жизни его фантазией, черпавшей вдохновение из необыкновенного богатства наблюдений, опыта и впечатлений.
Эта «тенденциозность», эта полная и страстная заангажированность историческим процессом составляет сущность социалистического гуманизма, идеи которого Горький развил в своей богатой публицистике. Ничто не было ему так чуждо, как филистерством подбитое «олимпийское спокойствие» буржуазных интеллектуалов. Ничто не было ему так близко и так важно в иерархии ценностей, как человек, его достоинство, его творческие возможности, его моральная красота. Чуждым и ненавистным для него было все, что унижает человека, пятнает его достоинство, ограничивает развитие творческой энергии.
Вот почему Горький так высоко возносил всегда значение человеческого труда, который он считал главной силой, определяющей исторические судьбы человечества. Освобождению труда от позорных цепей капиталистической эксплуатации он подчинял всю свою писательскую и общественную деятельность. Борец и мечтатель, он дождался победы дела, которому служил под знаменами ленинской партии; дождался гигантского строительства социализма на своей Родине и такого триумфа освобожденного труда, какого не знала история. Когда он умирал, Советский Союз жил кипучей трудовой жизнью второй пятилетки.
Сегодня, спустя почти двадцать лет после смерти Горького, его творчество по-прежнему играет огромную роль в святом деле освобождения труда. Оно является основным идейно-художественным достоянием большой семьи народов Советского Союза и всего лагеря мира, строящих новую, наполненную радостью творчества и гордостью жизнь. Оно и впредь будет большой школой воинствующего гуманизма для всего освобождающегося человечества. Порожденное огромным знанием жизни и страстной верой в человека, оно стало знаменем нашей эры, которая, как сказал Горький, кладет конец богам и создает и будет создавать героев.
О «ВНУТРЕННЕЙ БИОГРАФИИ» ПИСАТЕЛЯ{21}
«Наши писатели не знают жизни либо знают ее поверхностно». Эта точка зрения высказывается у нас очень часто, она является постоянным мотивом большинства наших литературных дискуссий. Естественно, это мнение касается не жизни «вообще» и не знания жизни, которое приобретает в большей или меньшей степени каждый человек по мере увеличения прожитых лет. Речь идет о глубоком и всестороннем знании процессов, явлений и узловых фактов современной действительности, нашего социалистического строительства и социалистической перестройки деревни – о том знании, которое охватывает не только то, что есть, но и то, что только нарождается, развивается, дает ростки.
Такое понимание «знания жизни», пожалуй, все мы считаем основным условием плодотворного, творческого труда современного писателя-реалиста. Различия во мнениях начинаются только тогда, когда от бесспорного принципа мы переходим к повседневной практике писательского мастерства. И не только различия во мнениях, но и опасности.
В сущности, вопрос «знания жизни» представляется столь очевидным, что можно удивляться необходимости постоянного напоминания его писателям в качестве особого «постулата». Некоторых, однако, эта необходимость удивляет по другим причинам. Вот, например, в известном уже письме Витольда Арцишевского, недавно опубликованном в «Новой культуре», мы читаем:
«Не было еще поколения, которое бы теснее, чем современное, соприкасалось с совокупностью жизни страны, было бы усерднее о ней информировано и глубже погружено в современность. И никогда экономические, социальные и политические проблемы не определяли так сильно воспитание, науку, труд и жизнь личности, как это происходит теперь».
Так как же понять, удивляется гражданин Арцишевский, что раньше писатели легко устанавливали связь с жизнью и создавали шедевры, а теперь эту связь так трудно установить{22}.
Удивимся и мы в свою очередь. Гражданин Арцишевский, который в своем письме неоднократно ссылается на мой доклад на июньском съезде Союза польских литераторов{23}, почему-то не заметил в нем абзаца, заключающего, как мне кажется, определенный ответ на волнующий гражданина Арцишевского вопрос. Цитирую его:
«Видеть и воссоздать действительность в революционном развитии, жизнь общества in statu nascendi[10]10
В момент образования (латин.).
[Закрыть], человека в процессе преобразования; понимать не только факты и события, но и действующие силы, прослеживать, как сквозь наслоения старого сознания пробиваются ростки нового мироощущения, – кто же из нас, писателей и не писателей, может не согласиться, что это действительно трудная задача. Пожалуй, более трудная, независимо от степени таланта или гениальности, чем те трудности, с которыми сталкивались хорошие или блестящие писатели-реалисты минувших эпох, описывавшие одобрительно или критически жизнь своих установившихся, медленно развивающихся обществ».
Да, писательский труд стал теперь – «независимо от степени таланта или гениальности» – труднее, чем прежде. Не с точки зрения якобы необходимости «выбора из чрезвычайно ограниченного числа «дозволенных» тем, конфликтов и решений», как голословно утверждает гражданин Арцишевский, а именно в связи с богатством и динамикой тем, с бурностью нашей жизни, с напряжением происходящей у нас борьбы, с новизной явлений, с темпами и размахом преобразования.
Труднее, естественно, стала прежде всего основная задача писателя: именно то самое «познание жизни». Труднее не только из-за того, что сама она, наша жизнь, так изменчива, подвижна, нетерпелива, что она бурлит от обилия недавно освобожденной энергии, а потому, что принципиальному и решительному изменению подверглось и само положение писателя как наблюдателя жизни.
Даже странно, как легко мы забываем простой факт, что почти все наши современные писатели старшего и среднего поколения, самые зрелые литераторы, определяющие лицо современной литературы, вот уже несколько лет тому назад оказались перед необходимостью отказаться от привычных путей, на которых они привыкли накапливать свое знание жизни, и направить главное внимание на действительность, лежащую не только за границами их собственного опыта, но и вообще за границами их буржуазно-интеллигентской среды! Попросту говоря, они оказались перед лицом необходимости присмотреться к собственному народу. Ибо если до вчерашнего дня только незначительная часть этих писателей знала более или менее деревню и крестьянина (деревню и крестьянина в условиях буржуазного государства), то что же говорить о знании рабочего класса, той «загадочной» силы, которая за десять лет не только стремительно выросла численно, но стала в то же время ведущей силой нации, определяющей развитие нашей новой жизни!
Вот почему у нас появилось неизвестное старым писателям понятие «периферии», или чего-то неведомого, лежащего вне «повседневной», «нормальной» обыденной жизни. Шахтер, железнодорожник, инженер, учитель, служащий – каждый из них живет в определенной среде, в которой людей объединяет самая существенная связь – связь выполняемой работы. Но для огромного большинства наших современных писателей основа их творчества – само существо творчества, его исходный материал – оказалась вдруг вне их среды не только в профессиональном, но даже в широком, социальном значении.
Прус не искал своих Вокульских, Жецких или Шуманов, они были у него «под рукой», среди знакомых и соседей, в «своем кафе», на «своем» Краковском Предместье. Иногда из окна квартиры он мог наблюдать голодных студентов или во дворе бедняка с шарманкой… Но горе Прусу, если бы он жил теперь и хотел «познавать жизнь», сидя в кафе Дома литераторов или еще где-нибудь на том же Краковском Предместье…
Люди типа гражданина Арцишевского, кажется, забывают, что наше общество в сравнении не только со временами Пруса и Ожешко, но и с той Польшей, которая прекратила свое существование только пятнадцать лет тому назад, является совершенно иным, а именно революционным обществом. До 1939 года жизнь основных масс польского народа находила отражение в нашей литературе обратно пропорциональное численности этих масс и объему выполняемой ими работы. Вот уже в течение десяти лет мы хотим в зеркале литературы не только достигнуть иных, соответствующих явлениям пропорций, но и отразить в нем также совершенно новое содержание этих явлений, их принципиальное отличие от прошлого.
Для большинства наших писателей это означает необходимость выйти за пределы своей социальной среды, искать новые, иные, чем до сих пор, пути и методы «познания жизни». Это не является, как готовы судить некоторые, только вопросом удобной или неудобной поездки. Писатели оказались перед лицом задач, куда более трудных, чем те, перед которыми стоит, например, техническая интеллигенция. В конце концов, и при капиталистическом строе инженер работал вместе с рабочими, они и он на одном производстве. Точно так же технологические процессы в металлургии или кожевенном производстве в принципе остались прежними, независимыми от общественного строя. От писателя, однако, общественная революция потребовала революции в их творческих лабораториях, в их «технологии» – в диапазоне, в целях и методах их труда. Это значит – в них самих.
Ведь в самом деле, уже сами познавательные функции писателя, о чем у нас часто как бы забывают, самым неразрывным образом связаны с его личной жизнью. Они весьма существенно отличаются от познавательных функций и методов научного исследователя, социолога или психолога.
Я коснулся этой проблемы на одной из недавних дискуссий в Доме литераторов, выдвинув понятие «внутренней биографии» писателя как фактора, определяющего творчество. Это вызвало тогда некоторое замешательство. Ежи Путрамент{24} обнаружил в моих замечаниях опасность «подозрительного субъективизма», а суть дела эпитетами не решить. То, что я говорил тогда, не было, впрочем, никаким открытием. Через несколько дней после упомянутой дискуссии я нашел в только что изданном у нас сборнике очерков советских писателей «В мастерской писателя» интересные замечания Константина Паустовского о «внутренней биографии» мастера, представляющей его основной «золотой запас». Я думаю, что многие из нас очень часто кружат мысленно вокруг этой проблемы, но она как-то всегда терялась в наших дискуссиях, подавляемая именно такими эпитетами и фразами.
Так что же означает «внутренняя биография» писателя? И чем она отличается от внутренней жизни огромного большинства людей, не писателей? Естественно, большей, чем обычной чувствительностью к раздражителям и усиленной интенсивностью их «записи»; далее, активным воображением или способностью организовывать особую, художественную действительность. Можно было бы перечислить еще несколько других элементов, все они складываются в то, что мы называем обычно писательским талантом. Самым же существенным во «внутренней биографии» писателя я считаю особую способность личного переживания неличных проблем: общественных, национальных, моральных, философских. Степень этой способности наравне со степенью таланта определяет подлинное величие писателя.
Нет ничего удивительного, что и само «познание жизни» существенно отличается у писателя от методов познания в науке или практической общественной деятельности, а также в близкой ей журналистике. Систематичность не играет в «познании жизни» почти никакой роли. Один мелкий факт может иметь для творческого акта больше значения, чем обильная, исчерпывающая фактография. И, наконец, если ученый или общественный деятель в области своих интересов должен собирать и учитывать полную «документацию» об исследуемом явлении или предмете, то писатель бывает чувствителен только к определенным импульсам, исходящим от окружающей действительности, причем действительности во всей ее совокупности: от природы, общественной жизни и жизни индивидуальной. К каким именно импульсам? Это зависит от характера его «внутренней биографии», иначе говоря, от волнующих писателя проблем, ибо я уверен, что писатель, независимо от того, о чем он в данный момент пишет, должен жить «своими» проблемами, своими «неличными» проблемами. Иными словами: писатель может искать необходимые ему для данной работы «реалии», но плохо, когда он ищет «темы». Как правильно сказал Эренбург, «душу повести не привозят в чемодане».
В том, о чем я тут пишу, нет ни капли желания чрезмерно субъективизировать явления творчества, и без того в высшей степени субъективные. Я думаю, что в этом направлении нам вообще не угрожает опасность преувеличения. Скорее наоборот, мы должны опасаться слишком упрощенного понимания природы этих явлений. Ведь литература знает немало случаев, свидетельствующих о том, что с вопросом «знания жизни» у писателей не всегда бывает так, как это себе представляют некоторые сторонники формул и упрощенных схем.
Приведу пример из моей собственной творческой практики.
Одной из проблем, глубоко волновавших меня в годы последней войны, оккупации и моего пребывания в гитлеровском плену, была проблема так называемого «порядочного немца», именно такого, какого я не один год видел обрабатывающим поле недалеко от колючей проволоки моего лагеря. Такого немца, который не убивал и не истязал, не грабил и не жег и вообще всю войну не покидал границ своей страны, то есть проблема огромного большинства немецкого общества, которое, однако, и это чувствовали мы все, несло ответственность за гитлеризм, за войну, за оккупацию, за Освенцим, за разрушение Варшавы. Этот вопрос, проблема вины «порядочного немца», волновал меня в течение нескольких лет. У меня не было определенных писательских планов, притом мое личное знание немецкого общества и немецкой жизни в то время сводилось к нулю, а мое знакомство с немецкой литературой, особенно касающейся периода гитлеризма, было весьма ограниченным, как у обычного польского читателя. И вот в конце концов я написал произведение, о котором один из ведущих немецких критиков, Эрпенбек, сказал, что это «самая до сих пор близкая правде пьеса о немецкой действительности». В этом не было никакой магии. Важная морально-политическая проблема, конкретизировавшаяся у меня в 1948 году как проблема «зонненбрухизма», жила во мне в течение ряда предшествовавших лет, питалась крохами явлений, иногда проникавших через проволоку лагеря, и внутренне созревала задолго до того, как стала материалом определенного творческого замысла.
Более того, она не перестала жить во мне и после написания «Немцев», поскольку, по существу, она была проблемой не только исключительно немецкой. Я начал думать о позитивной, то есть героической, реплике на явление «зонненбрухизма». Жизнь принесла ее сама, в виде дела Розенбергов, превосходившего всякий литературный вымысел. Я должен был написать трагедию о Юлиусе и Этели, хотя опять мое знание американской жизни (и американской литературы) было еще более убогим, чем в случае с «Немцами».
Естественно, следует учитывать факт, что в обоих случаях речь идет о драматических произведениях. Существуют хорошо известные и понятные различия между драматургией и романистикой – по типу и объему необходимой для писателя информации об изображаемой действительности, по знанию реалий и так далее. Но ведь и роман, достойный великих традиций, современный реалистический роман, не может быть только описанием. Ведь сказал же Алексей Толстой, что «искусство для своих обобщений не требует количественно большого опыта». Естественно, искусство – это не статистика. Оно ищет характерные факты, из которых «убежденность художника, «дерзость» художника извлекает на свет общие черты эпохи». По мнению автора «Хождения по мукам», процесс создания произведения – это процесс «преодоления материала», а творчество – это «опыт личной жизни, претендующий на то, чтобы стать обобщением».
О важности «внутренней биографии» художника свидетельствуют высказывания многих писателей-реалистов. Еще убедительнее говорит о ней само творчество. У Чехова, Горького или Жеромского, во всей творческой жизни каждого из них, видно, как мысль писателя упорно кружит вокруг определенных проблем и даже тематических мотивов, развивает их, углубляет и обогащает. В столкновении с этим живым и интенсивно живущим богатством любая, даже мелкая частица действительности – случайный факт, случайный человек – может стать импульсом и содержанием творческого события.
Мне представляется полезным напомнить эти отнюдь не новые истины, поскольку без постоянного напоминания о них сам постулат «познания жизни» писателями мало, в сущности, приближает нас к глубокому содержанию нашей действительности, зато искажает иногда само понятие нашей литературной «профессии», часто сводимой попросту к технической четкости ремесла. Случается слышать у нас высказывания, выдающие примерно такой ход мыслей: ты, писатель, обладаешь даром «владеть пером», так же как иные владеют другими орудиями труда; стало быть, надо только, чтобы ты «приблизился к жизни», присмотрелся к фабрике, к коллективизированной деревне или к труду наших железнодорожников, и будешь в состоянии написать роман, рассказ, пьесу, киносценарий… Так сплющиваются – а иногда это делают и сами писатели – большие, трудные и ответственные задачи, стоящие перед литературой народа, строящего социализм. Так во имя борьбы за социалистический реализм в литературе рождается плоская, бескровная иллюстративность.
Это ведет также к пренебрежению той важной истиной, что писатель должен о жизни и человеке знать значительно больше, чем текстуально говорит об этом в своем произведении. В то же время во многих современных романах, рассказах и пьесах автор говорит о событии, явлении или человеке все, что о них знает, то есть все, что сумел отметить в записной книжке, что отпечаталось в мозгу. Такой автор, может быть, проходил даже рядом с волнующими делами и великолепными людьми, но только проходил, раз ничего о них он не мог нам сказать, хотя сообщал обо всем, что знал, без исключения. Почему? Да именно потому, что обо всем без исключения.
Правильный лозунг: «Писатели, ближе к жизни!» – должен всегда в нашем сознании ассоциироваться с другим, более приглушенным призывом: «Писатели, живите интенсивнее!» Одно обусловливает другое. Нельзя правдиво и хорошо познать жизнь вокруг нас без собственной богатой внутренней жизни. И нельзя приобрести богатую «внутреннюю биографию», если уходишь в себя, лишен глубоких связей с окружающей действительностью, не способен на сильное личное переживание «неличных» дел.







