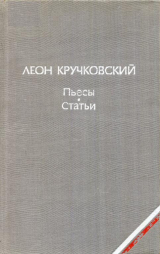
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
И вновь, как в предыдущих драмах, Кручковский выступает против отождествления исторического детерминизма с фатализмом. Детерминизм человеческих решений и судеб не носит абсолютного характера, оставляет возможность индивидуального выбора. И Губернатор имел шанс быть чем-то другим. В молодости он даже сочувствовал левому движению. Но его прельстила власть и ее символы – «губернаторская поступь» и «губернаторский жест», им был сделан определенный выбор и тем самым потерян шанс не быть губернатором, инструментом аппарата насилия. Герой понимает это – слова «слишком поздно» повторяются в каждом монологе Губернатора. Как верно заметил польский критик Зб. Жабицкий, «Смерть Губернатора» – это и «драма об утраченном моральном шансе, который предоставляла деятельность не вопреки Истории, а в соответствии с Историей».
Освобождает ли власть Губернатора от личной моральной ответственности за его действия? Губернатор пытается оправдаться перед самим собой, своим окружением, даже перед Узником. Утешительное оправдание находит он в словах священника, отца Анастази, который говорит о власти как силе стихийной, от человека не зависящей: «Власть, ваше превосходительство, это нечто подобное наводнению либо землетрясению». Сам Губернатор в поисках «морального алиби» обращается к теории имманентной преступности всякой власти. В кульминационной сцене пьесы – идеологическом диспуте Губернатора с Узником в тюремной камере – Губернатор хочет убедить в этом Узника. Сцену объясняет Рассказчик, предостерегая Узника: «Величайший преступник, некто – могучий, но внутренне окоченевший – желает, точно рюмкой водки, согреться наконец мыслью, что его преступление – всего лишь одно из звеньев извечной цепи, которую никакая сила не снимет с судеб человеческих. Будь начеку, молодой человек, именно в твоих глазах ему хотелось бы высмотреть эту мысль! Найти для себя нечто вроде исторического алиби».
Прежде чем выпустить Узника на свободу, Губернатор хочет сломить его морально, заставить его поверить в вечный фатализм власти, в «страшное нутро власти». Губернатор желал бы научить Узника особой «губернаторской поступи», отобрать у него веру в гуманистические революционные идеалы, убедить его в том, что оба они жертвы бездушного механизма власти, что между людьми, стоящими у власти, нет принципиальной разницы и если завтра Узник придет к власти, он будет таким же, каким вчера был Губернатор. Для Губернатора каждая революция – только борьба за свержение существующей власти и установление новой. Идею «вечной» власти, качественно однородной, он пытается поставить над историей.
Губернатор старательно надевает на Узника свою шинель. Переодевание Узника имеет сценическую мотивировку – в этой шинели он может покинуть тюрьму. Но главное значение этой сцены – символическое: происходит примерка Узником губернаторской власти. Губернатору кажется, что его «историческое алиби» подтверждается. Но это его очередное заблуждение. Приговоренный к смерти Узник принимает свободу, но отвергает идеологию Губернатора. Его революционные убеждения остаются непоколебимы: «Нет, нет! Люди прекрасны, у них все впереди, все! Я думал, что если завтра они поверят в это сами, то отчасти благодаря мне, благодаря моей завтрашней смерти… Но если мне будет суждено жить, разве я не сумею убедить их в этом моей жизнью?»
Губернатор потерпел фиаско и как идеолог в споре с Узником и как человек, решивший – независимо от его субъективных соображений – спасти жизнь Узника. Губернаторская шинель погубила Узника (вот еще одна символическая деталь драмы). За воротами тюрьмы он погибает от взрыва бомбы, предназначавшейся Губернатору. Но читатель убежден, что Узник сбросил бы губернаторскую шинель, если бы остался жив.
Похороны Узника в разорванной в клочья губернаторской шинели вместо него вселяют в Губернатора надежду на возможность начать новое существование. Но из-за границы преступного отчуждения от общества нет возврата к жизни. И Губернатору приходится убедиться в том, что он давно уже не был личностью. Без атрибутов власти, без «губернаторской шинели» он не существует. Он просто никому не нужен, даже своей семье. А имя убитого им Узника с любовью произносят тысячи уст, заявляет Рассказчик.
Последняя сцена драмы. Шекспировский эпизод с пророчествующим могильщиком и яркий финал. Луч прожектора высвечивает могилу Губернатора в груде венков и возле нее алую розу. Ее принесла Иоася. Она единственная из всех участников драмы сочувствовала Губернатору. Но она положила эту розу против пышных венков, украшающих могилу, против Губернатора, в честь безымянных героев революции, могилы которых неизвестны. Ведь они хотели «исправить мир». Будет ли он исправлен через десять лет, когда Иоася станет взрослой? «Пожалуй, еще нет, милая Иоася», – отвечает на вопрос девочки Рассказчик, и в этом подчеркнутом еще последней фразы драмы заключена оптимистическая вера автора в конечное торжество гуманистических идеалов и призыв к борьбе за их осуществление.
Фигура Рассказчика – важное нововведение в драматургии Кручковского. Ее появление несомненно связано с влиянием поэтики эпического театра Брехта. Роль персонажа – участника действия и одновременно его комментатора, объясняющего психологию героев, их побуждения, мотивы поступков, можно сравнить с ролью хора в античной драме. Рассказчик нужен и для максимальной активизации участия зрителей в идейно-философском споре, происходящем на сцене, и для прояснения авторской позиции. Ибо Рассказчик – по сути дела сам автор, участвующий таким образом вместе со своими героями и зрителями в поисках истины, выносящий свое суждение по поводу происходящих событий и дающий им окончательную оценку.
Творческий путь Кручковского завершил сборник из четырех рассказов – «Эскизы из ада честных людей». Авторская работа над сборником не была закончена, он вышел в свет в 1963 году, уже после смерти писателя. Как и философские драмы последних лет, рассказы были откликом на сложные идеологические и политические вопросы времени. В них осмысливался крутой поворот в польской общественной жизни второй половины пятидесятых годов. Кручковский подверг критике все те же позиции «здравого житейского смысла», которые он осудил и в драмах, привычки обывателей «развязывать узлы жизни по принципу пересадки на трамвайных остановках». С их стремлением любой ценой сохранить «внутреннее спокойствие» контрастирует мятежный, но подлинно человечный мир, мир коммунистов.
Леон Кручковский умер 1 августа 1962 года. Остались неосуществленными большие творческие замыслы. О них можно судить по изданным посмертно фрагментам и планам драмы «Святой», черновым наброскам новых повестей и рассказов.
Кручковский принадлежал к тем крупнейшим мастерам социалистического реализма, творчество которых всегда было неустанным поиском новых путей развития социалистического искусства. Гуманизм, партийность, острое чувство современности, активное участие в общественной борьбе и в формировании Нового человека – все это выдвинуло Кручковского в первые ряды художников XX века. Один из зачинателей социалистической культуры в довоенной Польше, автор «Кордиана и хама» определил облик послевоенной польской драматургии, создав современную драму острых мировоззренческих споров и принципиальных решений с коммунистических позиций.
В. Хорев
ПЬЕСЫ{1}
ВОЗМЕЗДИЕ{2}
Пьеса в трех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Стефан Ягмин, директор гимназии, 46 лет.
Окулич, бывший полковник, 48 лет.
Сабина, его жена, 43 года.
Матильда, 23 года }
Юлек, 19 лет } их дети.
Леманский }
Леманская } родственники Окуличей.
Урбаняк.
Тереза, домашняя работница Окуличей.
«Роман».
Действие происходит в небольшом городе одного из воеводств Польши весной 1946 года.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕКомната в квартире на первом этаже, которую занимает семья Окуличей в загородном доме Леманских. Комната обставлена кое-как, чувствуется, что люди поселились здесь временно. Справа две двери: одна – в прихожую, другая – в кабинет. У левой стены пианино. Стол накрыт на несколько человек. Сервировка скромная. На столе закуска, графин водки. За пианино сидит С а б и н а.
Из прихожей выходит Т е р е з а.
Т е р е з а. У меня, пани, ужин уже с полчаса как готов.
С а б и н а. Вы сами понимаете, Тереза, что без Юлека нельзя садиться за стол.
Т е р е з а. Я одно понимаю: если у человека день рождения, он должен в такой день быть дома. А Юлечек как ушел после обеда, так до сих пор его нет…
С а б и н а (смотрит на часы). Без десяти девять…
Т е р е з а. Ну вот видите! (Взглянув на дверь в кабинет, понижает голос.) А тот все еще сидит у пана полковника…
С а б и н а. Все равно ужинать без Юлека не начнем. (Играет.)
Т е р е з а, пожав плечами, уходит. М а т и л ь д а вскакивает на скамью за окном, в руках книжки и букет сирени. С минуту молча наблюдает за Сабиной.
М а т и л ь д а. Мамочка!
Сабина перестает играть, подходит к окну.
М а т и л ь д а. Я летела как сумасшедшая. Можешь себе представить, больше часа пришлось дожидаться автобуса! Я думала, что вы давно уже сели за стол.
С а б и н а. Нет, Юлек где-то запропастился…
М а т и л ь д а. Вот тебе и на! Хорош виновник торжества. А эта сирень для него…
С а б и н а (берет у нее сирень). Какая чудесная! От кого это?
М а т и л ь д а. Ни за что не угадаешь! От самого… (торжественно) от самого директора Ягмина!
С а б и н а (в замешательстве). От Ягмина? Ты шутишь, Мадзя! Откуда он может знать, что сегодня…
М а т и л ь д а. Очень просто: я проболталась, что у нас сегодня маленькое семейное торжество. Ну, слово за слово, разговорились. А когда я уходила, он вышел со мной в наш школьный сад, нарезал сирени и сказал: «Передайте вашему брату от меня эти цветы и мои наилучшие пожелания». Говорит, а сам в глаза не смотрит, как будто ему совестно. Я еле удержалась от смеха!
С а б и н а (рассеянно). Ты находишь, что это смешно?
М а т и л ь д а. Ну конечно! Я потом расскажу тебе все подробно. А сейчас я хочу на пять минут забежать к Яськевичам, тут рядом, книгу вернуть. Можно, мама?
С а б и н а. Можно, дорогая. Только сразу же возвращайся.
Матильда соскакивает со скамьи и убегает.
Через некоторое время из кабинета выходит «Р о м а н», мужчина неопределенного возраста. В руке у него шляпа, через руку перекинуто летнее пальто. За ним – О к у л и ч. «Роман» останавливается и нерешительно смотрит на Сабину, потом на Окулича. Тот в ответ машет рукой, и «Роман», ограничившись легким поклоном в сторону Сабины, уходит в прихожую.
Ну, ушел наконец? Не люблю я этого человека!
О к у л и ч. Знаю. И, к сожалению, он тоже чувствует, что ты его не любишь.
С а б и н а. Да. Не нравится мне, что он к нам ходит.
О к у л и ч. Он мой друг, Сабина. Конечно, в нем нет ничего такого, что нравится женщинам, зато у него много других бесспорных достоинств.
С а б и н а. Возможно. И все-таки я хотела бы, чтобы он пореже навещал нас. Не люблю, когда ты запираешься с ним у себя… а особенно – когда с вами бывает Юлек…
О к у л и ч. Надеюсь, ты не подслушиваешь наши разговоры?
С а б и н а (подходит к мужу и кладет ему руку на плечо). Виктор, вы зрелые люди с жизненным опытом, вы сами за себя решаете… и сами отвечаете за свои поступки, а Юлек… Помилуй, ведь он еще ребенок!
О к у л и ч. Ерунда! Ты отлично знаешь, что это не так. Юлек давно уже не ребенок, а мужчина, закаленный в суровой борьбе. У него есть идеалы, и он готов всем пожертвовать ради них.
С а б и н а. Он за годы оккупации столько раз доказывал это! Чего ты еще теперь от него хочешь?
О к у л и ч. Чего хочу! (Грубо хватает Сабину за руку, смотрит на нее в упор.) Хочу, чтобы он был достоин имени, которое носит! Понимаешь, Сабина? Чтобы он с честью носил мое имя – и только! (Быстро уходит в кабинет и с треском захлопывает за собою дверь.)
Сабина ошеломленно смотрит ему вслед, прижав руки к вискам.
Из прихожей вбегает М а т и л ь д а.
М а т и л ь д а. Вот и я, мамочка!.. Что с тобой? Случилось что-нибудь?
С а б и н а. Ничего… ничего…
М а т и л ь д а. Боже, какие вкусные вещи! А я просто умираю с голоду!
С а б и н а. Так ты пока съешь чего-нибудь.
М а т и л ь д а (выбирает себе бутерброд, ест). Директор Ягмин говорит, что голодные люди знают жизнь лучше и видят дальше, чем сытые.
С а б и н а. А что, записывать великие мысли директора тоже входит в твои служебные обязанности?
М а т и л ь д а. Нет. Это я делаю для собственного удовольствия. А свои насмешки ты оставь, я ведь отлично знаю, что тебе любопытно слушать про него.
С а б и н а. Ты так любишь говорить о нем, детка, и говоришь так интересно… про этот (указывает на цветы) подарок Юлеку…
М а т и л ь д а. Да-да! Знаешь, что он мне сказал на прощание, когда мы стояли у сиреневого куста в саду? «Я хотел бы, чтобы ваш брат был похож на вас». Я спрашиваю: «Чем, пан директор?» А он: «Своим отношением ко всему, что происходит в мире и у нас, в Польше, к тому, что мы делаем сейчас».
С а б и н а. И что же ты ему ответила?
М а т и л ь д а. Не помню уже. Что-то такое… неопределенное. (Тихо.) Не могла же я ему сказать, что Юлек совсем другой…
С а б и н а. Ты права. Не надо ему об этом говорить… (Неожиданно резко.) Да и что ему за дело до Юлека, до всех нас?
М а т и л ь д а. Странная ты, мама! Сама расспрашиваешь меня, а потом злишься. И вообще за эти две недели, что я служу в гимназии, ты так переменилась… Постоянно раздражена…
С а б и н а. Да нет же, дорогая, служба твоя тут ни при чем. Ведь я сама тебя уговаривала поступить на это место.
М а т и л ь д а. Тем более ты не должна сердиться. А насчет Ягмина я с тобой не согласна. Ты говоришь: что ему за дело? Видишь ли, он ни капельки не бюрократ. Он хорошо, сердечно относится к людям. Его все так живо интересует. Может быть, это оттого, что он много лет жил вдали от родины…
С а б и н а (пытливо смотрит на нее). Ты так восторженно говоришь о нем… и это после двухнедельного знакомства! Право, Матильда, я начинаю беспокоиться…
М а т и л ь д а (посмеиваясь). Ну конечно! Это ведь ужасно бестактно с моей стороны – хвалить кого-либо из тех, признавать за ними человеческие достоинства!
С а б и н а. Да я вовсе не то хотела сказать! Ты знаешь, что я политикой не интересуюсь… Я о ней и думать боюсь. (Встает и, подойдя к окну, смотрит на улицу.) Не понимаю, куда мальчик девался… почему его до сих пор нет?
М а т и л ь д а (стоит рядом с ней, вполголоса). Мамочка, я не знаю, что ты об этом думаешь, но мне все это очень не нравится. Несколько дней назад я опять пробовала потолковать с Юлеком об их делах… И знаешь, что он мне сказал?
С а б и н а. Не с ним! Не с ним! С отцом надо говорить! Мальчик стал безвольным орудием в его руках. Нервы у него в ужасном состоянии! (Увлекает Матильду на авансцену, вполголоса.) Опять сегодня приходил тот, с шрамом над бровью. Господи, господи! Чем все это кончится?
М а т и л ь д а. Знаешь, Ягмин уже два раза спрашивал меня об отце. Первый раз задавал обычные вопросы: где работает, что делал во время оккупации. А вчера он уже затронул опасную тему: как отец чувствует себя в новой Польше. Сегодня заставил меня рассказывать о тебе.
С а б и н а. Странное любопытство! Казалось бы, у такого человека, как он, – политического и общественного деятеля, директора гимназии – голова не тем должна быть занята.
М а т и л ь д а. Забот и хлопот у него по горло, что и говорить! Но такой уж он человек…
С а б и н а. А может, все дело в твоей болтливости? Может, ты сама затеваешь с ним такие разговоры?
М а т и л ь д а. Он спросил меня, кого ты больше любишь, меня или Юлека, кто из нас занимает больше места в твоем сердце.
С а б и н а. Довольно нелепые вопросы! И что же ты ему ответила?
М а т и л ь д а. Я хитрее, чем ты думаешь. Сказала, что ты, наверное, больше любишь меня, потому что я очень похожа на отца. А он – не знаю отчего – посмотрел на меня как-то недоверчиво и сразу заговорил о другом.
С а б и н а (нервно смеясь, целует Матильду). Какая ты у меня глупенькая!
Входит Л е м а н с к а я.
Л е м а н с к а я. Ну вот и мы, Сабинка! Людвик сейчас придет, он на лестнице вспомнил, что ему надо позвонить по срочному делу, и – вообрази – бросил меня одну у дверей и помчался в аптеку. В последнее время он стал такой рассеянный!.. Где же твои мужчины, Сабинка? А главное – где именинник?
С а б и н а. Я уже немного беспокоюсь. Подумай, до сих пор не вернулся из города!
Л е м а н с к а я. Что же тут удивительного? Такой чудесный весенний вечер! Мальчик, наверное, пошел в парк на свидание!
М а т и л ь д а. Что вы, пани Целина! Юлек такой нелюдим! Он все еще никак не может или не хочет выйти из того возраста, когда мальчики презирают девочек.
С а б и н а. Не знаю, что и думать…
Л е м а н с к а я (нюхая сирень). Говорите что хотите, а я уверена, что он сидит где-нибудь под такой вот сиренью с милой девушкой и оба забыли обо всем на свете!
С а б и н а. Не знаю… не знаю…
Л е м а н с к а я. Было бы даже странно, если бы он предпочел торчать дома в такой скучной компании.
М а т и л ь д а. Ну нет, с вами не соскучишься, пани Целина! У вас всегда найдется о чем порассказать!
Л е м а н с к а я. Только своим, деточка, только самым близким людям. А иначе нельзя, моя милая. Такие уж времена! Да, кстати, вы слыхали новую шутку, которая ходит по Варшаве?
С а б и н а. Нет.
Л е м а н с к а я. Прелесть, скажу вам! Конечно, это острота политическая. Жаль, что мы, женщины, не умеем рассказывать такие вещи, а то я бы вам сейчас рассказала. Лучше уж попросим Людвика, у него это замечательно выходит.
М а т и л ь д а. А может, вы все-таки попробуете? Ведь не в том дело, как рассказать, важен смысл. В этой шутке он есть?
Л е м а н с к а я. Милая моя Мадзя, в чем нынче есть смысл? Все вверх дном пошло! Людвичек говорит, что теперь самое выгодное – торговать огнетушителями, потому что мы попали из огня да в полымя… А он, к сожалению, работает в бумажной промышленности. Однако я вижу, Сабинка, что тебя этот разговор ни капельки не занимает…
С а б и н а. Извини… Я немного расстроена. Все из-за Юлека.
Матильда подходит к окну и смотрит на улицу.
Л е м а н с к а я (дружески сжимая руку Сабины, с неожиданным пафосом). Как это прекрасно и трогательно, дорогая, тревожиться за того, кто служит правому делу!
С а б и н а (поглощенная своими мыслями). Как ты думаешь, Целина… долго еще все это продлится?
Л е м а н с к а я. Что именно?
С а б и н а. Ну, эта неразбериха… этот разлад между людьми… эта смута, от которой никому добра не будет. Ведь скоро год, как кончилась война. И какая война, подумай! Пора бы улечься буре… пора матерям перестать дрожать за сыновей, а сыновьям залечить душевные раны после пережитых ужасов…
Л е м а н с к а я (конфиденциальным тоном). Людвичек говорит, что надо потерпеть еще полгода, самое большее – год, а там все переменится. Но иногда он добавляет, что вообще ничего нельзя предвидеть и что история – не календарь. Насчет календаря я не совсем поняла, но, кажется, это что-то не особенно утешительное. Впрочем…
Входит О к у л и ч.
(Увидев вошедшего.) Ага, вот пришел Виктор! Может, он нам объяснит…
О к у л и ч (здороваясь). Что я должен объяснить, Целинка?
Л е м а н с к а я. Скажи, мой милый, ты не знаешь случайно, что это значит: «история – не календарь»?
О к у л и ч. Кто это сказал?
Л е м а н с к а я. Как кто? Людвичек!
Быстро входит Л е м а н с к и й.
Л е м а н с к и й. Друзья, вы представить себе не можете, сколько дел можно сделать в аптеке за пять минут. (Жене.) Знаешь, я чуть не купил по случаю великолепные старинные часы рококо! Ну, здравствуйте! Сабина, целую ручки! Как здоровье, Виктор? Мадзя, смотри, что я купил тебе: шампунь для мытья головы, настоящий французский… (Жене.) А часы я попросил отложить для меня до завтра… Да, вот еще жевательная резина для Юлека… Но Тереза мне сказала, что его до сих пор нет, – это правда?
С а б и н а. Виктор, ты не знаешь, почему до сих пор нет Юлека? Куда он мог пойти?
О к у л и ч. Понятия не имею. (Леманской.) Сабине все еще кажется, что Юлек – малыш в коротких штанишках, и каждый его шаг…
С а б и н а. Да, для меня он ребенок… только ребенок!
Л е м а н с к а я. Бог с тобой! Когда вы перебрались сюда из Варшавы после восстания, моя Франка и тогда уже не знала, говорить ему «ты» или называть его «пан Юлек». А ведь с тех пор прошло полтора года.
О к у л и ч. Ты знаешь, Целина, что я человек твердых правил. Я старался и Юлеку с самого детства привить то, что называют мужеством.
Л е м а н с к а я. Почему же привить? Он, наверное, унаследовал его от тебя, Виктор.
О к у л и ч. Я в этом не уверен.
Л е м а н с к а я. Ты слышишь, Сабинка, что он говорит? Как тебе нравится этот скептицизм?
С а б и н а (с нервным смешком). Это не скептицизм. Это скромность.
О к у л и ч. Нет, это, скорее, философия семейного счастья. Не так ли, Сабина? (Повернулся к окну.) Людвик! Матильда! Что вы там шепчетесь, как заговорщики?
Л е м а н с к и й. С Матильдой устраивать заговоры? Да ведь она энтузиастка законности.
Подходят к столу.
Ей только статьи писать в правительственных газетах.
М а т и л ь д а. И писала бы, если б умела.
Л е м а н с к и й. Никакого умения для этого не требуется. Достаточно держать нос по ветру.
М а т и л ь д а. Ох, я и так уже в этом доме считаюсь паршивой овцой – правда, папа?
О к у л и ч. В этом доме уважают принципиальность и не терпят оппортунизма.
С а б и н а. Перестань, Виктор! Что за слово!
Л е м а н с к и й. Да, немножко сильно сказано… Такие громкие слова хороши на собраниях, а не в семейном кругу.
О к у л и ч. Ну хорошо, скажем не оппортунизм, а просто малодушие. Давайте выпьем.
Л е м а н с к а я. По правде говоря, я не могу осуждать Матильду. Если бы я пережила то, что она в немецких лагерях, – господи, да я, стойкая довоенная Леманская, через месяц-другой примирилась бы даже с народной демократией! В конце концов, живем мы кое-как…
О к у л и ч (с издевкой). Да-да! Кое-как живем…
Л е м а н с к и й (с полным ртом). Конечно, отрицать нельзя: кое-как живем.
С а б и н а встает и выходит.
М а т и л ь д а. Вы меня просто возмущаете! Неужели нельзя не брюзжать? Просто жить – разве это мало? Свободно ходить по улицам, читать газету, радоваться, что опять ходит автобус, что дети шумят в школе, что милиционер регулирует движение, что все вокруг живут, суетятся, поют или бранятся…
Л е м а н с к и й. Вы уж меня извините: я из тех, кто больше бранится, чем поет. Но, пожалуй, такие молодые существа, как Мадзя…
О к у л и ч. Да, особенно если они еще только два месяца прожили в Польше!
М а т и л ь д а. Я не считала, папа! Не считала! Может, уже год, а может, только один долгий-долгий день!
Л е м а н с к а я. Ах, это все май, май так настраивает молодежь! Кстати, Мадзя, я видела тебя в среду на первомайской демонстрации.
Л е м а н с к и й. Теперь это не имеет значения. Кого там только не увидишь!
О к у л и ч. Я не видел никого. Я просто в этот день не выходил из дому.
М а т и л ь д а. Мнение отсутствующих не в счет, папа!
О к у л и ч. Для тебя, Мадзя, важно только мнение твоего директора… ах, извини, товарища директора… Ягмина, или как его там…
Л е м а н с к а я. Этот Ягмин, видимо, у них важная особа.
М а т и л ь д а. Никакая он не особа, пани Целина! Просто очень умный и обаятельный человек.
О к у л и ч. Тем хуже.
М а т и л ь д а. Почему хуже? Для кого?
О к у л и ч. Умный и обаятельный враг гораздо опаснее, чем глупый и подлый.
М а т и л ь д а. Папа! Не говори таких вещей, противно слушать!
О к у л и ч. Не сентиментальничай, дочка! В политике люди оцениваются иначе, чем на товарищеской вечеринке.
М а т и л ь д а (вскакивает). Тогда это не политика… (Порывисто отходит к окну, стоит спиной к отцу. Через минуту говорит через плечо.) Это просто ненависть! (Смотрит в окно.)
Л е м а н с к а я. Признаюсь, никогда я не могла понять, для чего люди занимаются политикой! Право, все зло на свете от людей с так называемыми убеждениями.
О к у л и ч. Все зависит от того, какие убеждения…
Л е м а н с к а я. Все равно какие. Всякий, у кого есть убеждения, непременно хочет переубедить других, и от этого все беды. Ты со мной согласен, Виктор?
О к у л и ч (снисходительно). Вот и ты, очевидно, желаешь меня переубедить. Но это тебе не удастся.
Л е м а н с к и й. Все же Целина до некоторой степени права. Убеждения – вещь прекрасная, но обременительная. Зачем, скажите, всякий раз доставать из кармана тысячу, если надо купить только коробку спичек? Нет, я свои убеждения прячу подальше, как прячут в бумажник подальше крупную ассигнацию. А на каждый день у меня имеются мелкие, разменные…
О к у л и ч. А я, наоборот, всю жизнь ставил крупные ставки.
Л е м а н с к а я. Не удивительно, ведь ты был кавалерийский офицер! Ах, как ты был хорош в те годы, до тридцать девятого! Я чуть было не влюбилась в тебя.
О к у л и ч. Да, я играл и продолжаю играть на крупные, хотя мне сейчас временно не везет.
Л е м а н с к и й. Ну конечно, временно! Такая уж полоса…
О к у л и ч. Все или ничего – вот мое правило. Только так и стоит играть. Понимаешь, Людвик?
Л е м а н с к и й. Понимаю. Это наш пресловутый польский стиль. «Все или ничего». А чаще всего получается «ни то ни се».
Входит С а б и н а.
С а б и н а. Что же вы не едите?
О к у л и ч. Нам недоставало хозяйки, Сабина. Надо было подать пример.
С а б и н а. Прошу прощения. Я выходила на крыльцо. Места себе не нахожу!
Л е м а н с к а я. Ну, ты уж вообразила бог весть что… А твой негодник, наверное, сейчас явится.
Матильда отходит от окна и садится около Сабины на ручку ее кресла.
Л е м а н с к а я. Боже, как летят годы! Кажется, совсем недавно у вас в Варшаве был парадный вечер по случаю крестин Юлека! Мальчику было месяца три, а мы целых полчаса спорили, на кого он похож: на тебя, Сабина, или на Виктора.
М а т и л ь д а. Он всегда был похож на маму.
Л е м а н с к а я. Ну не сказала бы. По-моему, глаза у него совершенно отцовские. Правда, Виктор?
М а т и л ь д а. Ах будет вам! Не все ли равно, какие у него глаза, – лишь бы хорошо видели.
Л е м а н с к а я. Самое главное, чтобы характер у него был отцовский. И сдается мне, что в этом отношении он весь в отца.
О к у л и ч. Характер – результат воспитания. Должен сказать, я делал все, чтобы Юлек стал настоящим человеком.
Л е м а н с к а я. И тебе это удалось! Жизнь Юлека во время оккупации – это ведь сплошной подвиг! Да и ты, Виктор, был образцом отца-героя!
О к у л и ч. Ну, надо сказать, образцом весьма несовершенным!
Л е м а н с к и й. Не говори, мы знаем. Ты не щадил своих отцовских чувств.
О к у л и ч. Это верно. Самые опасные задания я давал собственному сыну. Но я не вижу в этом никакого героизма. Так обязан поступать каждый начальник и руководитель. Это завещали нам римляне… и наши предки.
Л е м а н с к а я. Не по душе мне эти римские доблести: слишком много в них жестокости.
О к у л и ч. Очень жаль, Целина, что они тебе не нравятся.
С а б и н а. Мне тоже они не нравятся. На самом деле эти доблести часто не так прекрасны, как думают. Они бывают сродни бесчеловечности.
О к у л и ч. Возможно, что ты права, моя милая. Я сам сейчас признал, что был небезупречным отцом.
М а т и л ь д а. Ты говоришь это неискренне, отец.
С а б и н а. Не вмешивайся, Матильда!
О к у л и ч. А ты не одергивай ее, Сабина. Пусть учится быть смелой, даже дерзкой. Браво, дочка!
М а т и л ь д а. Извини, папа! Я говорю всегда то, что думаю. Не сердись!
Л е м а н с к и й. Вижу, дорогие мои, что вы все немного устали. Целинка, не будем надоедать хозяевам. Пойдем.
С а б и н а. Посидите еще!
Л е м а н с к а я. Нет, милочка, нам пора. Побойтесь бога, десять часов! А я сегодня встала в шесть!
О к у л и ч. Мне надо сказать тебе два слова, Людвик.
Л е м а н с к а я. Ну, Сабинка, до свидания. Поцелуй за нас Юлека, когда он придет.
С а б и н а. Пройдемся с тобой до автобусной остановки, хорошо?
Обе выходят. М а т и л ь д а уходит в кабинет.
О к у л и ч (берет Леманского под руку, вполголоса). Прежде всего скажи мне, мой милый, как обстоит дело с бумагой?
Л е м а н с к и й. Что? Ах с бумагой… Ясное дело, все труднее и труднее. Контролируют очень строго, недавно в Нижней Силезии опять посадили двоих.
О к у л и ч. Но ты же обещал! Мы очень на тебя надеялись.
Л е м а н с к и й. Ну ладно, раз обещал, надо сделать… Через неделю получите две тонны.
О к у л и ч. Уговор был насчет трех.
Л е м а н с к и й. Ах, Виктор, что такое уговор? Даже государственные мужи частенько говорят одно, а делают другое – чего же требовать от нас, простых смертных?
О к у л и ч. Ну хорошо, давай хотя бы две. Деньги заплатим сразу при сдаче.
Л е м а н с к и й. Да что там деньги?! Надеюсь, ты понимаешь, что я не по-коммерчески подхожу к этому делу. Можете заплатить даже через месяц. Не люблю распространяться о своих убеждениях – ведь тебе они известны. Но осторожность никогда не мешает. (Тихо.) Советовал бы и тебе…
О к у л и ч. Только не надо впадать в крайности… (С ударением.) Чрезмерная осторожность тоже иногда опасна!
Л е м а н с к и й. Не понимаю. На что ты намекаешь, Виктор?
О к у л и ч. На тебя, мой милый. Ты наш, не спорю, так или иначе помогаешь нам. Однако… (Задумывается и после долгой паузы продолжает.) Видишь ли, развязка близится…
Л е м а н с к и й (пренебрежительно). А, этот референдум… Ты, конечно, не сомневаешься, что мы с Целиной будем голосовать как надо…
О к у л и ч. Не в этом дело. Нужно мобилизовать все силы и все средства.
Л е м а н с к и й (с беспокойством). Да-да, конечно.
О к у л и ч. Словом, нам до зарезу нужна хорошо оборудованная типография. Мы начинаем ее собирать, и ты должен нам помочь!
Л е м а н с к и й. Я? Ты шутишь, Виктор!
О к у л и ч. Меньше всего я сегодня расположен шутить.
Л е м а н с к и й. Увы, не только сегодня. Полтора года ты с семьей гостишь у меня в доме, и ни разу я не слышал от тебя веселой шутки!
О к у л и ч. Сейчас я тоже говорю с тобой совершенно серьезно. За гостеприимство я от души благодарен – мы, вероятно, причинили вам немало хлопот. Но это вопрос личный. И независимо от этого я считаю, что ты мог бы гораздо больше помогать (с ударением) нашему общему делу.
Л е м а н с к и й. Легко говорить – мог бы! Спроси у Целины, она тебе скажет, гожусь ли я для этого дела… Я всей душой с вами, но не забывай, что и к голосу рассудка надо прислушиваться. Кроме того, у меня больная печень, бывают приступы… Спроси у Целины! Тебе хорошо – ты здоров как бык! Эх, мне бы такое здоровье!..
О к у л и ч. Нет уж, пожалуйста, не вмешивай в это дело Целину! Я обращаюсь только к тебе как мужчина к мужчине. Короче говоря, пришло время доказать, что у тебя действительно такие убеждения, какие должен иметь поляк!







