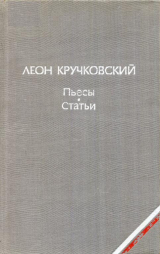
Текст книги "Пьесы. Статьи"
Автор книги: Леон Кручковский
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
СМЕРТЬ ГУБЕРНАТОРА{75}
Замыслом «Смерти Губернатора» я обязан рассказу Леонида Андреева «Губернатор», написанному в 1906 году и причисляемому в творчестве автора к произведениям, близким революционному направлению русской литературы того времени. Однако моя пьеса – не простая сценическая адаптация этого рассказа. Она является произведением самостоятельным и в целом очень отличным от рассказа Андреева. Я взял в нем только «исходную» ситуацию и несколько мелких фрагментов, необходимых для того, что в драматическом произведении называется «экспозицией». Все, что в «Смерти Губернатора» происходит начиная с половины первого акта и особенно во втором и третьем актах, развивается совсем иначе и даже, я бы сказал, «полемично» в отношении рассказа Андреева. Это касается в равной степени и фабулы, и проблемы, а также главного героя.
Осуждающий Губернатора vox populi[15]15
Глас народа (латин.).
[Закрыть] – это выражение инстинктивного и всеобщего чувства справедливости: за преступление – наказание, кровь за кровь. Это один из древнейших общественных мифов, глухо ощущаемых простыми людьми. Перед этим «мифом» склоняются с некоторым суеверным почтением также и люди морально равнодушные или даже аморальные, из каких складывается среда Губернатора, в том числе и его собственная семья.
Губернатор, человек мужественный и по-своему честный, сильнее людей его круга чувствует давление народного «мифа» справедливости, и это склоняет его принять неписаный приговор, вынесенный ему анонимным коллективом.
В таком именно плане и разыгрывается действие в рассказе Андреева, заканчивающемся убийством Губернатора.
Введя в свою пьесу образ Узника-революционера, я разработал иную, свободную от мифологии проблему. Узник видит преступление Губернатора с точки зрения общественных законов и, следовательно, не как вопрос исключительно личной вины и личной моральной ответственности, а как проявление классовой борьбы («Дело не в вас, обречен мир, к которому вы принадлежите, класс, которому вы служите»). Губернатору чуждо такое видение вещей. Он сводит все к «личности», к личной ответственности человека, которую он сам готов нести «с честью». Но такая постановка вопроса, хотя сама по себе честная и достойная уважения, влечет за собой вывод, что история – это фатальная цепь неизбежных преступлений, порождающих дальнейшие преступления. С «человеческой» точки зрения убийство Губернатора в свою очередь – тоже «преступление». Иными словами, Губернатор весьма близок модной теперь философии «имманентного зла истории». На революцию он смотрит так же, как на следующее звено извечного зла, и именно в этом он хочет найти «алиби» для своего преступления или его частичное оправдание.
Итак, в моей пьесе основным является спор двух взглядов на историю: историю как фаталистическую цепь преступлений и несправедливостей и историю как борьбу общественную, борьбу за более справедливый мир, являющийся необходимым условием существования «справедливого» человека.
Губернатор в соответствии со своим пониманием истории желает спасти жизнь Узника-революционера, «обречь» его на последующие встречи с механизмом «имманентного зла». В его представлении героическая смерть Узника во имя лучшей жизни способствовала бы утверждению в массах веры в будущую победу над злом. Сознательный солдат революции подтвердил бы своей смертью от пуль взвода, приводящего в исполнение смертный приговор, ту правду об истории, которая чужда Губернатору и противоречит его представлениям. Этого Губернатор и старается не допустить.
«Случай» (совсем не случайный) приводит к тому, что Губернатору не удается его замысел. Узник гибнет смертью солдата, прорывающегося в свои ряды, и таким образом подтверждает свою правду, лишая Губернатора «алиби», о котором он так страстно мечтал. Более того, из мужественного и по-своему честного, готового искупить свою вину человека Губернатор вдруг превращается в «мошенника», «увильнувшего» от мрачного мифа справедливости. Эта ситуация, куда более болезненная, чем та, в которой Губернатор пребывал до сих пор, заставляет его презирать самого себя. Оказалось, что «миф» справедливой кары за очередной акт извечного зла может оказаться ложным (как всякий идеалистический философский или моральный принцип). Исповедуя этот миф, можно «спасти честь» и одновременно «сохранить счастье» (эгоистическую жизнь).
О мере падения Губернатора свидетельствует то, что единственной его опорой становятся ничтожные и посредственные люди, из которых состоит его семья. Но даже и они отказывают ему в помощи. Они боялись его и демонстрировали свои лживые «чувства», пока он был могущественным, осененным блеском человеком. Они отворачиваются от него, когда, оплатив фальшивой монетой свой долг «чести» в отношении общества, он становится тенью, осколком человека, обреченным на чисто физическое существование.
Порывистая Иоася, положившая свою красную розу «против» великолепных венков, наваленных на мнимой могиле Губернатора, даже не допускает мысли, что возлагает ее над останками настоящего, народного героя.
«ВОЗМЕЗДИЕ» СПУСТЯ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ{76}
Признаюсь, я был несколько удивлен, когда руководство Праского театра «Людовы» обратилось ко мне с просьбой разрешить постановку «Возмездия». В свое время, в 1948—1950 годах, эта пьеса обошла многие польские сцены (а также и зарубежные), производя довольно большое впечатление на зрителей. Правда, не надо забывать, что это были годы, еще очень близкие к изображаемым в пьесе событиям и конфликтам, и этим фактом, естественно, объяснялся зрительский интерес. Каким будет интерес теперь, спустя более чем тринадцать лет после премьеры «Возмездия» в варшавском театре «Польски»{77} и пятнадцать лет спустя после событий, послуживших темой этой пьесы? Как теперь, в дни двадцатилетия создания Польской рабочей партии, «заиграет» политическое содержание пьесы, связанное с периодом борьбы за утверждение народной власти в стране под руководством именно нашей партии?
Ясно, что такой вопрос поставила перед собой прежде всего дирекция Праского театра «Людовы». Но, пожалуй, значительно острей встал он перед автором пьесы. Тем более что в результате моего согласия на постановку «Возмездия» в 1961 году возник еще один, наиболее серьезный для меня вопрос: как теперь отнестись к тексту этой пьесы, созданной в 1948 году, в иной с разных точек зрения политической ситуации и при иных, чем теперь, возможностях драматургического мастерства автора, который приобрел опыт в этой области именно в последующие годы.
В результате моих рассуждений я пришел к следующему выводу: «Возмездие» не является уже пьесой совершенно «современной» в том значении, в каком она была ею в 1948 году, но это еще и не «историческая» пьеса в том смысле, что ее тема относится к явно закрытому уже периоду прошлого. Для многих людей в Польше эмоциональные связи с событиями того времени могут быть и сегодня еще живы. С другой стороны, за пятнадцать лет, истекших с 1946 года, произошло столько необратимых перемен в нашей жизни и нашем мышлении, что мы с полной уверенностью можем уже говорить о достижении временной дистанции, необходимой для объективных суждений о том периоде. А для театрального зрителя «anno 1961» относительная историчность темы «Возмездия», может быть, будет, я бы сказал, приправлена эмоциональной потребностью проверить самого себя, собственную теперешнюю реакцию на то, чем мы были в период, когда разворачивается действие моей пьесы.
Мне кажется, что создание театральной возможности такой «проверки самого себя», более или менее глубоких перемен в нашем мышлении, может служить достаточным основанием для постановки «Возмездия» в двадцатую годовщину ППР. Это дает ответ на первый вопрос, возникающий в связи с инициативой Праского театра «Людовы».
Ответ на второй вопрос – об отношении к тексту пьесы – не вызывает у меня никаких сомнений. Принимая во внимание оба момента, и политический и касающийся мастерства, следовало провести критический разбор текста 1948 года и в значительной степени переработать его.
С этой точки зрения главной в «Возмездии» является взаимосвязь двух мотивов: политического и лично-семейного. Сама по себе эта взаимосвязь – явление частое и «нормальное» в литературном произведении; в данном, однако, случае речь идет о некоторой рискованности семейного мотива и таком введении его в политическую материю пьесы, что в восприятии многих зрителей и критиков идейный конфликт «Возмездия» смазался и даже исказился.
Честно признаюсь, что частично я согласен с этим упреком. Исключительность личной ситуации, сложившаяся в отношениях между главными персонажами пьесы в результате событий далекого прошлого, действительно накладывает своеобразный отпечаток на политический конфликт между ними, конфликт, который сам по себе, если говорить о тех временах, не имеет ничего исключительного. Правда, можно было бы возразить аргументом, что такое случается в жизни, и это было бы верно. Но, с другой стороны, мы знаем, что «житейская» случайность не бывает хорошим доказательством случайности в искусстве, которое требует, особенно когда речь идет о драматургии, солидной конструкции событий, непоколебимо логической их мотивировки. Так дело обстоит и в отношении «Возмездия».
Однако, с другой стороны, я неоднократно встречался с мнением, что характерное для этой пьесы рискованное переплетение политического конфликта с лично-семейным мотивом придает всем событиям, разыгрывающимся между главными персонажами, определенную человеческую сочность, важную для драматического выражения конфликта. Сочность, пыл, эмоциональное напряжение. Кроме того, мне кажется, – о чем я уже писал когда-то по случаю премьеры «Возмездия», – что именно в бурные периоды истории очень часто личные людские судьбы связываются в самые неожиданные узлы именно с конфликтами общими, общественно-политическими. В периоды установившейся жизни это случается гораздо реже. Отсюда особый драматизм судеб личности в революционные периоды, из которых так много вдохновения черпала всегда литература, как в прозе, так и в драматургии.
В результате этих раздумий я решил, несмотря ни на что, по-прежнему сохранить в «Возмездии» то, что когда-то служило поводом для критических замечаний, то есть сохранить лично-семейный мотив без существенных изменений. В то же время я признал целесообразным несколько приглушить этот мотив путем определенных изменений в тексте, позволяющих одновременно чище и яснее подчеркнуть политический конфликт.
Если учесть изменения, сокращения и поправки литературно-драматического плана, то можно сказать, что Праский театр «Людовы» получил для постановки «Возмездие» в определенной степени «новое», в редакции, учитывающей в значительной мере как критику этой пьесы, так и мой собственный опыт драматурга, накопленный за годы, прошедшие со дня ее написания.
СОВРЕМЕННЫЕ АРСЕНАЛЫ{78}
1. Каковы были обстоятельства Вашего литературного дебюта в довоенной Польше и каково в сравнении с этим положение молодого дебютанта теперь?
Кое-что (стихи, мелкую прозу, публицистику) я печатал уже начиная с 1919 года, но настоящим своим дебютом считаю издание «Кордиана и хама» тринадцать лет спустя. Этот дебют не прошел без некоторых сложностей, несмотря на то, что у меня было кое-какое «имя». Достаточно вспомнить, что я вынужден был издать первую повесть на собственные средства. Несколько издательств, которым я по очереди предлагал ее, отказали в публиковании… К счастью, краковская социалистическая газета «Напшуд» вызвалась публиковать ее с продолжением. Вместо гонорара (что характерно для того времени) редакция газеты предоставила в мое распоряжение типографию, которая после оплаты мною стоимости бумаги, печати и обложки выпустила тираж (800 экземпляров) первого издания. Он разошелся в течение нескольких недель, хотя не было никакой рекламы со стороны издательства. Только тогда я получил предложение о новом издании от нескольких издательских фирм – среди них были и те, которым год назад я предлагал свою рукопись… Я «выбрал» Гебетнера и Вольфа, которые до начала войны выпустили еще три издания «Кордиана и хама».
Если таким образом осуществился «дебют» книги, которой суждено было стать (по нашим архискромным масштабам того времени) одним из «бестселлеров» польского издательского рынка тридцатых годов, то легко себе представить судьбу многих попыток дебютантов. Поэтические же дебюты вообще в большинстве случаев оплачивались самими авторами, причем им приходилось выплачивать не только стоимость самого издания, но и заранее исчисленную прибыль издателя, дающего свое имя.
Наше теперешнее положение в этой области значительно отличается от существовавшего в прошлом. Независимо от временных трудностей и ограничений в издательских планах условия для дебютантов-литераторов в народной Польше были с самого начала и впредь сохранятся более благоприятными. Естественно, теперь не может быть и речи об издании книг без гонораров, а тем более об оплате стоимости издания самим автором! Иногда даже напрашиваются мысли о чрезмерной легкости некоторых дебютов… Во всяком случае, в этой области трудно сожалеть о довоенных, то есть капиталистических, отношениях, особенно теперь, в самые последние годы, когда наши издательства так расширили критерии выбора писательской продукции.
2. Каково Ваше мнение о проблеме «заангажированности» литературы?
Я понимаю, что в этом вопросе речь идет об идейно-политической ангажированности. Действительно, сегодня это – проблема, и она живо дискутируется в творческих кругах, особенно на Западе. Заангажированность в этом значении – одна из главных альтернатив, которую предлагает наше общество писателям. Однако редко случается, чтобы одни и те же слова вызывали столь диаметрально противоположные ассоциации и реакции. Для одних идейно-политическая заангажированность художника – это единственно возможная для принятия альтернатива. Другие относятся к ней либо с неприязнью, либо открыто выражают свое презрение и отвращение.
«Приличная идеалистическая доктрина, – иронизирует на эту тему Фрэнсис Дженсон, – обычно предполагает, что вовлекаться можно только в дела абсолютно чистые, либо же надо оставаться совершенно пассивным. Противник никогда не бывает во всех смыслах плохим, друг – во всех смыслах хорошим. Следует остерегаться манихейства».
Противники заангажированности литературы исходят из того, что «холодная война», придающая столько драматизма современной международной обстановке, – это только, как сформулировал один из них, обоюдная борьба грозными словесными средствами, за которыми кроется более мощный арсенал современного вооружения. Поскольку, говорят они, перья писателей не в состоянии уничтожать танки и баллистические ракеты, они должны по крайней мере вызывать путаницу в «арсеналах словесных средств» и действовать разлагающе на всякую идеологию. Условием такой деятельности является полная независимость писателя от борющихся политических сил, то есть незаангажированная позиция.
Такое понимание вещей, особенно сейчас, не делает чести людям, «профессией» которых в некоторой степени является мышление, а необходимым атрибутом должна быть хорошо функционирующая память. Ведь и перед второй мировой войной в течение ряда лет происходил идейно-политический спор между фашизмом (не только немецким и итальянским!) и антифашистскими силами, главной опорой которых были Советский Союз и рабочее движение в капиталистических странах. Как мы хорошо помним, огромное большинство интеллектуалов в буржуазных странах стояло тогда именно на позициях незаангажированности. Испытывая отвращение к фашизму, они в то же время не поддерживали борьбу своего рабочего класса, не были друзьями Советского Союза. «Свысока» наблюдая эту борьбу и одинаково трактуя обе идеологии, обе борющиеся политические силы, они на самом деле вносили разброд, и не столько в «арсеналы словесных средств», сколько в сознание своего общества, примером чего может служить поведение миллионных мелкобуржуазных масс Франции и Англии в дни Мюнхена. К сожалению, когда они заметили свою ошибку, было уже поздно… Незаангажированность в какой-то степени помогла только одному из «арсеналов», а именно агрессивному, в достижении его первых жестоких успехов.
Что было бы с миром, и уж во всяком случае с Европой, если бы, например, советские писатели (писатели страны, литература в которой оказывает огромное влияние на жизнь) в годы, предшествовавшие июню 1941 года, выбрав позицию незаангажированности, внесли бы замешательство и действительно разоружили идейный и моральный арсенал своего великого народа, расслабили бы его волю, его духовную энергию? Сталинграда бы не было наверняка!
В Польше у нас был собственный, в меньших, правда, масштабах, но достаточно пригодный для выводов опыт. Накануне 1939 года большинство наших писателей, несмотря на неприязнь к фашизму, как гитлеровскому, так и отечественному, не включилось в идейно-политическую борьбу, ведущей силой которой были рабочий класс и его нелегальная партия. Не было недостатка и в тех, кто охотно заострял перо «против обеих сторон», считая это доказательством упоительной «независимости». Только некоторые из них сумели избежать гитлеровской оккупации. Те, которые ее пережили, прошли жестокую школу науки о сущности исторического процесса. Они избавились от роковых иллюзий о «нейтральности» писателя в отношении общественной борьбы. Эта борьба сегодня – неотъемлемая часть современной борьбы за мир. Многие из них сделали из этого опыта вывод, сразу же по освобождении (либо еще и до него) сознательно встав на сторону социализма.
И еще одно. Не случайно именно швейцарский писатель Дюрренматт показал нам в «Визите старой дамы», что благосостоянием можно купить людей, человеческий коллектив, привести их к убийствам, к преступлениям. А ведь «идеология» благосостояния в том виде, в каком она выступает в богатейших капиталистических странах, является некоторым образом именно «антиидеологической», «неангажированной» в отношении великого спора современности. Швейцария, конечно же, милая и традиционно мирная страна, которая никому не угрожает. Однако я боюсь и думать о том типе идеологов, которые могут толкнуть на преступление какой-либо из великих народов, охваченных «антиидеологической» идеологией благосостояния…
Писатели этих стран в Европе и вне ее должны бы уже теперь, заранее подумать о такой дюрренматтовской идеологии, если уж они задумываются о своем отношении к «заангажированной» литературе, а особенно над прелестями позиции «вне» современного идейно-политического спора о ближайшем будущем человечества.
3. Упоминание о Дюрренматте позволяет нам перейти к кругу вопросов менее общих, чем предыдущий. Например, к делам современной драматургии. Много говорят о ее кризисе. Разделяете ли Вы как писатель, активный в этой области творчества, данную точку зрения?
Трудно говорить о кризисе драматургии в отрыве от ситуации, в которой оказался сам театр. А именно в ней на протяжении ряда лет происходят изменения, которые в какой-то степени можно охарактеризовать как «кризисные». Многим представляется, что по широте общественного воздействия театр постепенно ограничивает свою роль и значение перед лицом необыкновенно динамичного развития кино и телевидения. Это не может не влиять на определенную эволюцию театра как явления художественного.
Кино, а также опирающееся на него в значительной мере телевидение, как наиболее массовые формы распространения искусства, естественно остаются главной областью реалистических традиций. Перед лицом такой мощной «конкуренции» многим деятелям театра начинает казаться, что их художественное мастерство может защитить себя и доказать свое право на существование только путем разрыва с реалистическим искусством, путем смелых формальных поисков, путем создания «интегрального» театра.
Я очень ценю значение эксперимента в театре, как и в искусстве вообще. Однако я опасаюсь слишком широкого курса на «авангард». Именно в области художественного эксперимента легче всего скатиться к бездушному, бесплодному, нетворческому подражанию, а также к пустой надуманности и снобистскому шарлатанству.
На этом пути наибольшие, пожалуй, опасности грозят именно драматургии. В руках многих театральных «новаторов» произведение драматурга становится лишь поводом для самого бесцеремонного обращения. Однако еще чаще мы сталкиваемся с явлением, когда не только автор, но и режиссер и актер полностью подчинены, например, сценическому оформлению!
Лично я не верю в действенность этого пути спасения театра, которому якобы угрожают кино и телевидение. Этот путь может привести театр только к формалистическому окостенению, притом значительно быстрее, чем окостеневали солидные традиции реализма XIX века. Я не верю также и в то, что кино и телевидение действительно угрожают существованию театра, самому смыслу его существования, или ограничивают общественно-культурную роль этой формы искусства. Зато мне кажется, что возникает серьезная потребность в пересмотре понятия реализма в театре, в расширении его границ, в освобождении его от излишней описательности, присущей всем прежним веристическим традициям. По «воссозданию действительности», по «документальности» жизни театр действительно не может, а в дальнейшем и еще больше не сможет «конкурировать» с кино; впрочем, это совсем и не нужно. Зато он может сыграть свою незаменимую роль в смелом изображении серьезных споров современности: общественно-идейных и политических, философских, моральных. Слово, поэзия, диалог в тесной связи с искусством актера – вот наиболее исконный элемент театра во все эпохи его величия, от Софокла, через Шекспира и Мольера, романтиков и великих реалистов XIX века, до Шоу, Маяковского и Брехта. Короче говоря, реальные попытки восстановления театра как автономной области искусства должны опираться на смелое идейное новаторство, на диалектику серьезных конфликтов современного мира и современного человека. Это единственный, по моему мнению, путь создания социалистического театра, рассчитанного на массового, а не элитарного зрителя, единственный путь окончательного разрыва с традициями мелкобуржуазного театра и с его выродившимся потомством, каким, по сути, является большинство экспериментов современного театрального «авангарда», его рахитичных попыток создания «интегрального» театра и т. д.
4. Как видно, Вы оптимист в оценке опасностей, угрожающих театру со стороны кино и телевидения. Однако Вы, вероятно, согласитесь с тем, что мощное развитие этих двух значительных «технических» средств распространения искусства представляет собой все более серьезный элемент текущей культурной политики?
Безусловно. Причем кино – это не только наиболее массовое техническое средство популяризации, но, пожалуй, прежде всего одна из «ведущих» на сегодняшний день областей художественного творчества, с богатым уже прошлым и блестящими успехами. Это, пожалуй, главное искусство XX века. Иначе дело обстоит с телевидением. До сих пор, как и его «мать» – радиовещание, – оно представляло собой прежде всего именно техническое средство распространения кино, театра, литературы, информации, развлечений, популяризации науки и т. д. Но если в радиовещании сформировалась уже автономная, до некоторой степени новая художественная форма – радиопостановка, то попытки создания настолько же или еще более самостоятельных форм искусства, причем строго телевизионных, не выходят до сих пор за рамки более или менее удачных адаптаций театра или кино. «Передача» все еще доминирует над всеми начинаниями, направленными на создание самобытного телевизионного творчества, и это положение, пожалуй, изменится не скоро. А ведь это очень важно с точки зрения культурной политики, главные задачи и возможности которой направлены именно на мероприятия по популяризации.
К сожалению, положение дел в нашем телевидении в этом смысле продолжает вызывать серьезные возражения. Во многих своих программных передачах оно не может, а может быть, и не старается выйти из тесных рамок первобытной камерности, адресованной определенным замкнутым кругам, хотя в течение нескольких последних лет адресная книга владельцев телевизоров превратилась в толстый том и продолжает «пухнуть» быстрыми темпами. Теперь, когда уже можно говорить о массовости телевидения в Польше, оно должно преодолеть все еще господствующие в нем кустарные приемы и стать действительно современным средством современной культурной политики.
5. Имеются ли у Вас теперь, после постановки несколькими театрами «Смерти Губернатора», новые планы, а может быть, и даже начатые литературные работы?
Не только начатые. Я закончил рассказ, набросанный вчерне уже довольно давно, около двух лет назад. Его название – «Большая ошибка жизни». Однако я не хочу публиковать его отдельно, в журнале. Я берегу его для тома прозы, который намерен составить в течение ближайших месяцев. Я думаю, что в этот сборник войдет также произведение о лагере военнопленных, которое я начал давно, но затем прервался и теперь работаю над ним вновь.
Кроме того, я обдумываю новую пьесу. Очевидно, она будет называться «Святой». Естественно, ничего общего с агиографией она не имеет, а неизбежное в этой теме «мученичество» будет полностью современным и, конечно, не физическим, а моральным.







