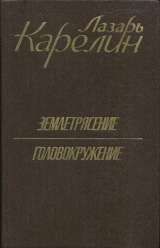
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Как бы извиняясь перед стариком, Леонид заговорил о сценариях, которые есть уже на студии и которые, увы, терпят бедствие.
Старик слушал вполуха. Он понял: чуда не будет, овощей не будет. Он утратил интерес к этому нелепому молодому человеку из нынешних, из молодых, да ранних. Что там у него за беды? Какие, к чертям, беды? Он на службе, он располагает средствами, вот даже в начальниках ходит. Старик обозлился и быстро пошёл от Леонида. Недалеко: к окну, где нового сыскал собеседника – по виду, по осанке из режиссёров. У режиссёров приметная манера держаться, словно они знают что‑то такое, чего не знают все прочие. И дано им больше, чем прочим. Так оно и есть: они кормильцы, работодатели. Если, конечно, сами при деле.
Леонид тоже выбрался из своего угла. Надо было куда‑то идти, с кем‑то говорить – надо было включаться в ритм министерской жизни, в хитрую эту беготню с озабоченным лицом, в быстрые, на ходу разговоры, где намёк важнее сути, надо было начинать дышать здешним воздухом, а воздух здесь был на каждом этаже свой и в каждом кабинете на особицу.
8
Неделя прошла, ещё неделя – Леонид учился дышать министерским воздухом. И снова становиться москвичом – это тоже наука. Полгода не поживёшь в Москве, и ты уже выбился из её ритма, она чересчур шумной тебе кажется, сутолочной, ты робеешь на её улицах и в общении со столичным людом, хотя и сам из этого люда произошёл.
Весь нынешний день Леонид провёл в министерстве. И только к вечеру, с избытком наглотавшись министерского воздуха, как и обычно подавленный и обозлённый, он выбрался на улицу Горького.
Оказывается, день‑то был совсем летним, вот и вечер выдался совсем летним – с молодо зазеленевшими деревьями, ласково угретый. Леонид пожалел, что так и не узнал, каков был день, что прозевал его, ходя по кабинетам.
Такое случается в мае: вдруг наступает лето. А потом в июне возвращается май или даже апрель. Это когда у дубов распускаются листья. Верная примета. Дня три дует ветер, дождь льёт, пасмурно.
Но пока робко установилось лето, самая лучшая пора в Москве, считанные дни, первый из которых Леонид прозевал. На что он убил его? Да все на то же: на говорильню о сценариях. Поправки, поправки… Стремление к совершенству обуяло киноредакторов. Когда дело стоит, должно казаться, что оно кипит. Не жалко ни времени, ни расходов – важно только не принимать решений. А посему – поправки, поправки…
Павел Лин, автор сценария о Каракумском канале, уже впрягся в эти поправки. Лин жил в Москве, кстати, все на той же улице Горького, в угловом доме Пушкинской площади, в комнате над аптекой. Из единственного окна узкой, как коридор, комнаты можно было смотреть и смотреть на Пушкина, он был совсем рядом, будто остановился у этого окна и спросил о чём‑то владельца комнаты. Спросил и ждёт ответа, наклонив голову, внимательный, добрый. Павел Лин часто заговаривал с ним. Пушкин слушал, помалкивал. Лин клялся, что у Пушкина менялось лицо. Иногда он улыбался словам Лина, иногда досадливо хмурился, иногда, по–видимому, недоумевал, и это недоумение залегало в его бровях.
– Вот, Александр Сергеевич, принимаюсь за новый вариант, – сказал Лин, когда окончательно порешил с Леонидом, что надо, надо делать поправки.
Сказал и высунулся в окно, чтобы поглядеть, а не смеётся ли над ним Александр Сергеевич. Пушкин не смеялся. Шёл дождь в тот день, и Пушкину было холод-, но, он скучал.
– Скучает, – сказал Лин. – Хандрит. Ладно, я с ним после посоветуюсь.
Приуныл Лин, этот новый вариант, кажется, добьёт его. Он болен, бывший матрос, богатырского здоровья человек, ныне закашливается, то и дело хватается за грудь. И денег у него никогда нет. Скудно, редко печатается. Этот десятый вариант – надежда получить немного денег вперёд и слабая, совсем слабая надежда, что сценарий все‑таки примут.
Итак, Павел Лин работает. А Хаджи Измаилов, автор сценария «Подземный источник», со дня на день приедет в Москву из Ашхабада. В министерстве легко пошли на то, чтобы его вызвать. Ему оплатят проезд, ему оплатят гостиницу, ещё какие‑то дадут деньги, лишь бы только засел за очередной, явно во вред сценарию, вариант. Новый вариант – это опять месяц, а то и два кипучей деятельности, той самой, которая так необходима в кино, когда дело стоит.
В киоске у Центрального телеграфа Леонид купил «Вечерку» и купил ещё майский номер «Знамени», приметив, что он открывается новой повестью Казакевича.
Леонид был знаком с Казакевичем, встретил однажды на квартире у их общего приятеля, Давно это было, вскоре после войны. Казакевич ходил ещё в военной форме. И носил ордена. Не для того, чтобы побахвалиться. Если бы он снял эти ордена, на старом кителе зазияли бы дыры от них и не выгоревшие на ткани кружки и звезды. Орденов было много, ордена были боевые. А человек в очках, пусть и в военной форме, казался сугубо штатским. Он сутулился, у него была застенчивая, робкая улыбка, и, когда он заговаривал, эта застенчивость проникала в его слова. Он произносил их мягко, вопросительно как‑то. Трудно было поверить, что этот очкарик совсем недавно был командиром разведчиков, ходил с отчаянными парнями в тыл к немцам и даже среди разведчиков был на высоком счету.
Казакевич тогда ещё только написал свою «Звезду», повесть ещё не была напечатана. Сутуловатый капитан в потёртом кителе не был ещё знаменит. И очень нуждался, жил с семьёй в дырявом бараке. Ему предлагали остаться в армии, это разрешило бы его материальные затруднения. Нет, он хотел писать. Кончилась война, и он начал писать. А в редакциях сомневались: прозаик ли Казакевич? До войны он был поэтом, писал стихи на еврейском языке. Он их продолжал писать. Но он ещё писал и свою военную прозу. Он знал, что должен её писать, как бы трудно ему ни было. Очень сильный это был человек, очень веривший в свою задачу. И это чувствовалось, его сила чувствовалась. Поговорив с ним, Леонид перестал удивляться штатскому обличию этого командира разведчиков. Дело было не во внешнем виде, а в той силе, в том превосходном мужестве, которыми полнился этот человек.
Потом Леонид прочёл в журнале его «Звезду». Читал, и всё время слышался ему мягкий голос Казакевича, и он верил каждому его слову.
И вот новая повесть… И подумалось, уважительно и завистливо: работает человек, работает. Ну, а ты делом ли занят? Вдумайся‑ка… Вдуматься не удалось. Мысли упёрлись в какую‑то внутри стену, высоченную, без единой выбоины. Есть мысли, и нет их, упёрлись в стену…
Знакомая девушка в окошке «До востребования» протянула ему письмо и две телеграммы.
А перевода пока нет, – сказала она. – Что письма?' Что телеграммы? рыли бы деньги. Не так ли? Вы что такой расстроенный?
Девушка была приметно красива: медноволосая, большеглазая, с медленно разгорающейся, сулящей улыбкой. И Леонид, кажется, нравился ей. Эх, взять бы да и назначить ей свидание! Ну, начать с какой‑нибудь испытанной фразочки: вам, мол, не на почте сидеть, а в кино сниматься. Ну и так далее и тому подобное. А потом условиться о встрече и пойти с ней, когда сменится, по ночному городу, узнавая о её жизни, рассказывая о своей. Чужой человечек и уже не чужой. И эта медленная улыбка обращена к тебе. А дневной, казённый голосок стал совсем иным, ожил, осмыслился, обрёл глубину. Не чудо ли? То самое, которого не бывает? Но что‑то остерегало Леонида начать свой легкомысленный разговор. Не поймёшь что, но остерегало.
Не отходя от окошка, он развернул телеграмму. Она) была от Денисова: «Днями заканчиваем тонировку фильма, вылетаем Москву для сдачи министерству. Ускорьте утверждение своего сценария. Люди изголодались настоящей работе. Простой недопустим. Надеюсь на вас».
Итак, этот шедевр закончен… Они приезжают… Изголодавшиеся люди приезжают… А сценарий, где он, новый сценарий?.. Его нет, а есть только поправки, поправки…
– Как вас зовут? – спросил Леонид, пригибаясь к окошку. Ему очень нужно было, чтобы она улыбнулась своей медленной улыбкой. И ещё ему нужно было собраться с мыслями.
– Полиной, – сказала девушка и улыбнулась.
Почему‑то он ожидал, что её зовут как‑то именно так: Полина. Белошвейка Полина… Итак, они приезжают с этим распрекрасным фильмом… А сценария нет, нового сценария нет…
Леонид распечатал вторую телеграмму. Она была от Хаджи Измаилова. «Выезжаю Москву остановлюсь постпредстве. Твой Хаджи». И весь текст. Чудо–юдо, каким поездом, каким вагоном? Не хочешь, чтобы встречали? Скромность заела? Славный ты парень, Хаджи, достанется тебе здесь…
Кто‑то из сотрудниц позвал Полю. Девушка поднялась, глянула затравленно на Леонида, покраснела вдруг всем лицом и шеей и пошла, горестно прихрамывая на тоненьких параличных ножках. Ах, вот оно что!
Нет, не идти им вместе по ночной Москве. Все так, чудес не бывает…
Леонид не стал ждать, когда Поля вернётся, и побрёл по залу, вертя в руках письмо. Незнакомый почерк, круглый, как у семиклассницы, но, может быть, писала и женщина. У множества женщин одинаковый почерк и застывший, такой, каким выучились они писать в школе. Обратного адреса нет. От кого бы это? Ничего доброго от письма Леонид не ждал – день выдался недобрый. Прочесть прямо сейчас? Или отложить на денёк? Он вскрыл конверт.
Синий листок почтовой бумаги был исписан круглым почерком лишь с одной стороны, да и то не до конца. Коротенькое письмецо. И обрывистая, злая строка в конце: «Не пиши мне. Ира».
Так это Ира! Буфетчица Ира… Верно, верно, она вправе обижаться. Надо было хоть телеграмму ей послать, с Первым мая хоть поздравить.
Леонид успокоился, отыскал свободный стул, сел и только потом заскользил глазами по круглым, девчачьим буквам: «Здравствуй, Лёня! Прости, что пишу тебе, больше я тебе писать не буду. Ты‑то и открыточки не прислал. Пообещал, да позабыл. А у меня радость: муж вернулся. Костя. Он меня ни о чём не спрашивает, и я его ни о чём. Начали жить. Сладится. Он теперь будет в Ашхабаде устраиваться. Между прочим, твоя Лена, говорят, выходит замуж. За какого‑то начальника. А прошлой ночью было у нас землетрясение. Маленькое. Мы бы и не проснулись, Макс разбудил. Визжит и визжит. А тут вдруг стены качнуло, посуда зазвенела. Только и делов, а страшно. Я в одной рубашке во двор выскочила. Ну, будь счастлив, Леонид. Макс тебе кланяется, он тебя помнит. Он собачонка привязчивая. Вдруг заскулит. Это о тебе. Не пиши мне. Ира».
«За какого‑то начальника…» Леонид вскочил, огляделся, готовясь куда‑то припустить бегом. Но куда?
А вокруг писали, все тут кому‑то что‑то писали. Вот и ему написали. Макс вот его не забыл. Собачонка. И ему стало жаль себя как‑то со стороны, когда видишь своё отражение в случайном зеркале и незнакомо жалким сам перед собой предстаёшь. «Не может быть! – хочется крикнуть. – Я не такой!» Но в зеркале кто‑то жалкий, растерянный кивает тебе: «Такой... Такой...»
9
Они прилетели. Вот они идут от самолёта – горстка людей, сдуваемая ветром. Все те, кто создавал комедию.
Впереди Бурцев. Издали маленький, он все же самый высокий среди маленьких. Рядом с ним Денисов, Он узнается по отрывистости движений. Решительный. Деловитый. С ним не пропадёшь. И рядом с ним какое-то тоненькое, шаткое существо. Марьям, конечно. Это их последние шаги вместе. Здесь, в Москве, где у Денисова семья, они станут демонстрировать чуть ли не враждебность друг к другу. Комедия. Вот в том‑то и дело, что комедия. Даже в министерстве все уже знают об этом романе. Как узнают люди про такое? Почему так быстро все узнается, когда речь идёт о потаённом в жизни человека? Любопытство? Недоброе любопытство?
Леонид стоял у ограды аэродрома, у калитки, дальше которой встречающим хода не было. Можно было, конечно, пробраться и дальше, но Леонид вовсе не спешил лицом к лицу встретиться с Денисовым. Леонид наперёд знал, о чём тот его спросит, позабыв даже поздороваться. «Как с новым сценарием?» – спросит он. «Вносим поправки», – ответит Леонид. «Поправки!..» И тотчас же глаза у Денисова зло приузятся и он отвернётся, никаких не желая слушать объяснений. Слабак ты, парень! Зря на тебя понадеялись!..
Леонид приехал на аэродром не сам–один: он прихватил с собой Хаджи Измаилова, который уже с неделю как жил в Москве. Живой все‑таки автор. Приехал, работает. «Верно, Хаджи, ведь работаешь?» – «Есть немножко», – скажет Хаджи. Он не из разговорчивых. Если ему не задавать вопросов, он может целый вечер с тобой просидеть и не вымолвить ни слова. И все же не кажется, что он молчит. Вспомнишь этот вечер, и словно бы разговор был. У Хаджи говорящие глаза. Он ими улыбается, он ими сердится, соглашается, возражает. Он ими так может поглядеть, что никакие вопросы не нужны, все ясно. Этими глазами Хаджи порядочно уже нагнал страха на министерских редакторов. Они как‑то увядали под его взглядом. Кто знает, на что способен человек, когда у него такие презирающие глаза.
У Хаджи не было правой руки, он поверял её на войне. Но совсем не бросалось это в глаза, что он одно–рукий. Все делал сам. Писал сам, закуривал сам, с едой управлялся сам. Он не выставлял, он прятал своё боевое увечье. Невысокий, с впалыми щеками, жилистый и жёсткий, Хаджи совсем не походил на писателя. А вот на джигита походил. На того самого, чьим именем его нарекли при рождении, – на Хаджи Мурата.
Горстка людей незаметно надвинулась, стали слышны голоса. Все, все тут были, включая и Володю Птицина. Он первый ответно замахал Леониду рукой, возбуждённо крикнув:
– Святая правда, Галь собственной персоной!
Оттуда, от них, Леонид тоже был крошечным. И все, кто встречал самолёт, толпясь у калитки, были не более чем горсткой людей. И надо было разглядеть, кто в этой горстке кто: где жена, где муж, где приятель. И надо было изготовиться к встрече. Не всегда это просто.
А верно, кто кого тут ждёт? Леонид глянул вокруг. Эта высокая, со строгим вдовьим лицом женщина, к кому она? У неё красивые ноги, она развёрнуто держит плечи. Балерина? Из бывших балерин? У Птицина, кажется, жена из бывших балерин. Так это она? Леонид подошёл к женщине.
– Вы встречаете Володю Птицина? – поклонившись, спросил он.
Она не услышала его и не заметила. Она смотрела туда, за калитку.
Там, за калиткой, уже не было горстки людской, а шли люди, всяк сам по себе, смешновато ведущие себя люди. Они жестикулировали, кричали или улыбались, как актёры, выступающие в громадном зале, где надо во всём преувеличивать свою игру, чтобы её разглядели и расслышали в задних рядах. Понятно, что при такой игре не очень‑то выручает мастерство. И всё было сейчас видно – и радость видна, и притворство. Видны были все жалкие уловки, на которые пускается человек, полагая, что вокруг слепцы.
Марьям и Денисов шли уже не рядом. Марьям теперь цеплялась за руку старика Бурцева. И он – о великодушный! – склонился к ней, откровенно играя влюблённого старика, которому недосуг страшиться людской молвы.
А Денисов, раскинув руки, бежал к калитке, где первым стоял мальчуган, его сын, и рядом стояла молодая женщина, хорошенькая, нарядная, но тоже со строгим вдовьим лицом. Жена, которая знает все.
Да ну их, этих актёров, играющих в громадном зале! Леонид отыскал глазами симпатичное, всего лишь уставшее в полёте лицо Клыча, всего лишь растерянное немножко лицо человека, прилетевшего вот в столицу.
– Клыч! – крикнул он ему, очень обрадовавшись, – Здорово, старина! Хош гельды!
Отомкнули калитку, и все сразу сгрудились, прилетевшие, встречающие, и сразу разобщились, отгородились друг от друга почти зримыми перегородками, разбившись на пары, на группы.
Леонид расцеловался с Клычом. В Ашхабаде они не целовались, ни встречаясь, ни прощаясь. Но в Москве иные обычаи. Хаджи тоже радостно поздоровался с Клычом, просиял, подойдя к нему. И Клыч просиял. Друзья ведь. Но они не целовались и не обнимались. Коснулись друг друга плечами, и все.
Поучиться бы этой сдержанности Володе Птицину. Куда там! Он всех обцеловывал и был радостно громок. Счастье так и пёрло из него. Облобызал он и Леонида.
– Встретила! Видал, встретила! —шепнул он ему. – Пижамка на тахте… Графинчик из буфета… Эх, старый, ещё поживём!
Со всеми целовался Володя, со всеми переговаривался, а возле жены ему не стоялось. Вдруг подхватился и побежал, крича:
– Машины, машины надо ловить!
Леонид, кляня себя за любопытство, отыскал в толпе Марьям и Денисова. Они были разделены толпой, но были и объединены толпой, всеобщим объединены любопытством. Эти двое и ещё жена Денисова и жена Птицина. А Володька сбежал. Не так он прост, оказывается.
Толпа втекла в зал аэропорта, в новые из мрамора стены, в гулкую торжественность чуть что не храма. А ведь ещё этим утром прилетевшие покидали крошечный домик ашхабадского аэродрома, который был и не аэродромом вовсе, а отторгнутым у пустыни кусочком земли, клубящейся жаркой пылью.
Столица. В этом зале всё было от столицы – мрамор, высота потолков, гул под сводами. Но главное, столичными были женщины. Ничего особенного в них не было, они были почти так же одеты, как и прилетевшие
^женщины, даже иные и скромнее одеты. Но они были ло–Йоличному одеты. Они иначе двигались, свободнее. Они иначе разговаривали, смелее. И смеялись, когда им вздумается.
Леонид заметил всё это, потому что все это заметила Марьям. Он не сводил с неё глаз, изумлённый переменой в ней, опять переменой. О, это шла не дочь царя из царей Индии! Это шла по залу провинциалочка. С подурневшим, как бы замёрзшим лицом, в немодном летнем пальто, а думала ведь, что – модное, с нетуго держащимися на тонких ногах чулками. Шла и смотрела на все испуганно и завистливо. Да, и ещё шляпка была на пей ужасная, курьёзная шляпка с искусственными цветочками. И эту‑то женщину любил Денисов, сменял её на ту, что шла сейчас с ним рядом? Ведь Марьям по всем пунктам проигрывала в сравнении с женой Денисова, красивой женщиной, державшейся так, как бедняжке Марьям и не снилось. Наваждение?.. Колдовство?.. Но не развеется ли оно на трезвой земле московской?..
Вышли на площадь к такси. Они вереницей подъезжали к тротуару следом за головной машиной, из которой, сияя, выскочил Птицин.
– Машины для киностудии! – крикнул он. – Ашхабадская студия прибыла в Москву!
Когда шли к машинам, Леонид случайно оказался возле Денисова. Как хорошо, что Клыч и Хаджи преподали Леониду урок мужской сдержанности. Он не кинулся жать Денисову руку, обниматься с ним. Да тот, кажется, и забыл, что они ещё не поздоровались.
– Что со сценариями? – спросил он, скосив на Леонида невидящие глаза.
– Кипит работа!
Удачный ответ. По крайней мере, он удовлетворил Денисова хоть на время. Денисов отвернулся, он смотрел, как подсаживает Бурцев Марьям в машину, сморщившись, смотрел, потому что и в машину Марьям села очень неловко, зацепившись полой пальто о дверцу.
Вереница такси тронулась в путь. Леонид ехал с Хаджи Измаиловым, Клычом и Угловым.
– Ну, ребятки, как фильм? – спросил Леонид.
Углов – он сидел нахохлившись рядом с шофёром, – не поворачиваясь, процедил в ответ одно всего слово:
– Дерьмо.
10
Всему, на что надеялись на студии, когда снимался фильм, – то состояние зажмуренности, когда каждый пытался уверить себя, что ещё не всё пропало, что выручит монтаж, музыка и вдруг фильм сладится, – всему этому пришёл конец, и настала печальная ясность.
Не помогли ни операторские изощрения, всякие там ракурсы и летящие камеры, не помог и монтаж, хотя Бурцев выложил всю свою умелость, не помогла и музыка, которую написал талантливый человек, и написал удачно. Ничто не помогло выручить этот фильм, ни даже ахалтекинские скакуны, цветущая по весне пустыня и снежные горы – весь этот сказочный край, снятый в самую выгодную для себя пору, с самых выгодных для обозрения точек. Уж больно пустяковая и не по правде творилась в фильме жизнь.
Члены художественного совета министерства смотрели картину, храня зловещее молчание, будто это не они утверждали сценарий, по которому сейчас скакали и целовались на экране. Сейчас они были судьями. И, кажется, подсудимому грозил суровый приговор. Одно дело сценарий, и совсем другое – фильм. Сценарий правили, чтобы фильм получился без сучка, без задоринки, а когда он таким и получился. фильм не мог не вызвать раздражения. Он проваливался.
Он ещё раньше провалился, когда его смотрели в главке. И ещё раньше, когда его посмотрели до сдачи московские друзья студии, автор сценария Дудин и кое-кто из Туркменского постпредства.
Леонид в третий раз смотрел сейчас фильм. И изнывал, затонув в кресле, от почти физического ощущения катастрофы. Но ему было далеко не так худо, как Клычу. Тот сидел, прикрыв рукой глаза, замерев от стыда. Жаль было Клыча. Все эти дни он держался мужественно, даже пробовал шутить, но глаза у него были совсем больные. Ведь он, пока снимался фильм, что там ни говори, а надеялся на чудо. Никак не может человек без чуда. Надобно ему оно. Непременно! Его помолиться иной раз тянет, хоть он и неверующий, помолиться и поверить в некую всевышнюю силу, лишь бы только выпала на его долю удача. Вопреки всему. Это и есть чудо.
Фильм кончился, зажёгся свет. Судьи поспешно поднялись и удалились, не проронив ни слова. И боже, какие у них были не сулящие милосердия лица!
Перерыв, перекур, а затем предстояло обсуждение, но точнее – судилище.
Подсудимые тоже вышли из зала. В конце коридора было распахнуто окно. К нему и потянулись, нервно закуривая, роняя пустопорожние фразы, только чтобы не молчать.
– Копия ни к чёрту, – сказал Углов.
– Звук заедало, – сказал Денисов.
– Верно, звук уходил, – согласился Леонид.
Ну, а если бы и со звуком всё было хорошо, и копия была бы самая лучшая, что тогда?
Бурцев молчал. И Клыч молчал. Но по–разному. Бурцев, хоть и молчал, всё время про себя готовился к речи, шевелил губами, брови сводил, загодя распаляясь. Накипело, видно, у старика, готовился не к обороне, а к атаке. А Клыч молчал окаменело, как очень уставший и очень обозлившийся человек.
Денисов глянул на него и сказал:
– Знаешь что, иди‑ка ты в гостиницу.
– Пожалуй, – сказал Клыч, но никуда не ушёл.
У окна ветерок жил, пахло молодым тополиным листом. За тысячу вёрст отсюда и на десяток лет назад унесла вдруг Леонида память. Урал, городок небольшой уральский, где довелось ему кончать десятилетку, когда отца послали в этот город на работу, и вот такой же с тополиным запахом день. Последний в десятом классе. Экзамены кончены, аттестаты розданы. Свёрнутый в трубочку аттестат, как вафля с кремом, зажат в руке. Завтра он угнездится в конверте и отправится в почтовом вагоне в Москву, в родной город его владельца, где Леонид Галь вознамерился продолжать своё образование. Институт известен – ИФЛИ, Институт философии, литературы, истории. Факультет известен – литературный.
…И все тот же тополиный запах в ноздрях. В Сокольниках, где находится этот институт, все лето живёт тополиный запах. И результат экзамена известен: тройка по математике, а тройка – это провал, ибо велик конкурс. Провал, затем экзамены в другой институт, первый попавшийся, где ещё принимали заявления, затем уход из этого института в середине учебного года, когда во ВГИКе объявили набор на сценарный факультет, новые экзамены—и вот он студент интереснейшего института и на факультете именно литературном, чего и добивался. А зачем?
…Снова тополиный запах в ноздрях, снова ты как школьник, – после экзамена и перед экзаменом. И ясно, тебя ждёт провал.
У окна, где подувал ветер, все смолкли. Принюхивались к тополиному этому запаху и наверняка вспомнили, как и Леонид, что‑то своё и далёкое. И может быть, тоже спрашивали себя: «А зачем?..»
Появился, чиновно горбясь, Валерий Михайлович, ещё издали махая рукой: мол, пора, мол, зовут.
– Пора так пора, – сказал Денисов, сразу побледнев, зрачки даже у него побелели. Нет, то была бледность не испугавшегося, а на что‑то решившегося человека. Подышал вот тополиным воздухом и решился.
11
Совет собрался в небольшом зале второго этажа. Что тут было раньше? Танцы устраивались? Банкеты? Потолок свысока загадочные строил рожи своими лепнинами. Эти лепнины–маски понагляделись и понаслушались. У них были скверные лица очень осведомлённых чиновников времён какого‑нибудь Суллы. Они были все на одно лицо, как люди незнакомого племени, и все разные, если приглядеться.
Из своего угла, снова затонув в кресле, Леонид только и делал, что приглядывался. Немаловажным событием в жизни был для него этот художественный совет. Он знал, что запомнит его до конца своих дней. Провалы запоминаются. И помнится, когда бывало тебе очень стыдно, очень тошно. А когда радостно бывало – это в памяти удерживается не всегда. Радость, удача воспринимаются как должное. Так уж устроен человек.
Совет открыл министр. Он куда‑то торопился. Он заговорил, а глаза его уже искали наикратчайшую дорогу к выходу, прокладывали своему владельцу путь между креслами и вспоминали всю дорогу по мраморной лестнице, по коридору и через двор к машине. Там, в конце пути этой машины, ожидалось нечто важное. Здесь же всё было неважным. Собственно говоря, никакой особой возни с этой картиной не предвиделось: просто слабая картина.
Проговорив несколько слов вступления, министр, продолжая стоять, повёл рукой, предлагая членам совета высказаться. Движение руки было торопливым и небрежным. В этом движении куда определённее, чем в словах, была дана оценка картине.
Наголо бритый человек, бровастый, с круглым симпатичным лицом умного весельчака, первым пожелал обратить жест в слово.
– Дело ясное, фильм удручающе плох, – сказал он напористо и весело. – Как‑то дерзновенно плох. – Он чуть поубавил напор, ему стало жаль людей, забившихся в угол, он решил их утешить: – Это бывает, бывает… В искусстве нет торных дорожек.
Улыбкой, изломом бровей он попросил у своих коллег снисхождения за столь тривиальную фразу.
Дама со строгим лицом, строго одетая, строго причёсанная, этакая наставница классической гимназии, глянула на него с осуждением.
– Ну уж хватил – искусство! – Она гневно поднялась. Какая там чопорная классная дама – в ней столько было от трибуна, от женщины митингов и собраний, что в зале просто повеяло если не самой Революцией, то фильмами о той поре. – Никакой пощады подобному ремесленничеству! Никаких скидок и объяснений! Этому фильму место на полке! История рассказана глупейшая, жизнь заласкана! Позор! – Она села, но снова привстала, она ещё не выговорилась, её негодование искало новых слов. – Если эта картина выйдет на экраны, я положу партийный билет!
Теперь она села. Вот так дама!
– Картина может идти в своей республике, – сказал министр, снова поведя рукой, хоть и небрежно, но миролюбиво.
– Нет! – отрезала дама. Этот миролюбивый министр был ей не указ. Где‑то у себя в министерстве она сама себе была указ.
Бритоголовый весёлый человек был писателем и в силу уже своей человековедческой профессии склонен был к снисхождению.
– Может быть, все‑таки послушаем товарищей, – сказал он. – В каких условиях создавался фильм… Неопытные актеры… Сжатые: сроки, может быть…
Он кидал под ноги подсудимым спасательные круги, Леониду даже показалось, что он добро подмигивал, когда говорил. Но, возможно, это был просто тик, заработанный на войне.
– Что ж, пусть товарищи выскажутся, – сказал министр. Он продолжал стоять, прокладывая глазами кратчайший путь к выходу.
Кряхтя, тяжёлый–претяжёлый, поднялся из кресла Бурцев. Сейчас он им скажет! Обо всём. О запрещённых сценариях, о бесчисленных поправках, о простаивающей студии. Он скажет, что отказывался от этого легковесного сценария. Сейчас он их ткнёт носом в их собственную работу.
– Я не кудесник, – сказал Бурцев, широко развёл руки и сел, широко расставив колени и уперев в них кулаки. Вот и вся речь и вся атака!
Министр усмехнулся, кивнув благожелательно Бурцеву, и пошёл от стола к дверям, действительно кратчайшую находя дорогу между креслами.
– На республиканский экран, – сказал он на ходу и как бы походя, но это было решение, во имя которого и собрался совет, это был приговор.
– Я буду протестовать! – вскочила строгая дама. – Этот фильм посмешище над туркменами, над их жизнью!
– Правильно, – глухо проговорил Клыч и ещё что-то сказал, но, от волнения забывшись, по–туркменски.
– Вы со мной согласны?
Клыч поднялся.
– Да.
– Нет! – сказал Денисов. Он тоже поднялся, снова побледнев, как там, у окна. – Нет, все не так просто. Фильм можно и вообще запретить, но все не так просто. Надо понять: и следующий будет таким же. К этому идёт. Когда так мало запускается картин, люди готовы ставить любую дрянь. И почему‑то именно дрянь им и разрешают ставить…
Он был прав!
Да, он был прав, но министра уже в зале не было, члены совета поднялись и тоже потянулись к дверям. Быть не может, но Денисова, кажется, не услышали, его просто не слушали, Чего болтать? Решение состоялось.
12
Беду постигаешь не когда все свершается, а следом и на пустяке. Человеку отхватило ногу, но он все ещё в неведении, пока не приметит кровь на рельсе.
Валерий Михайлович покинул своих подопечных, не попрощавшись. А он был вежливым, умел быть вежливым. И все поняли, увидев сутулую спину редактора, что с ними стряслась беда. Со всеми вместе и с каждым в отдельности и по–разному.
– Пролетели мои постановочные, – сказал Бурцев. – И вообще – фу!
– Зря сох на жаре, выкладывался, – сказал Углов.
– Лучше бы его совсем запретили, – сказал Клыч. – Стыдно будет по улицам ходить.
Галь и Денисов промолчали. Они были чиновниками, провал фильма для них мог закончиться просто снятием с работы. Их карьера, какой бы там она ни была, могла на этом и оборваться. Галю было полегче, чем Денисову. Галь мог засесть за писание сценариев, никому, впрочем, сейчас не нужных. Денисов, некогда учившийся на режиссёра, но не поставивший ни одного фильма, о творческой работе по нынешним временам не смел и мечтать.
Спустились по мраморным ступеням на первый этаж, примечая множество мелких мелочей, кричавших им: «Провалились! Провалились! Провалились!» Казалось, сам воздух министерский кричал им это. Пустота на лестнице, пустота в коридоре, хоть и шли навстречу люди. Шли‑то шли, но не заговаривали, но отводили глаза, но сворачивали в сторону. Этим людям казалось, что они деликатны, чертовски деликатны, а они стегали, они ранили своим напускным безразличием, они были капельками крови на рельсе.
Навстречу кинулся Птицин, он их ждал возле раздевалки, всё время был тут, пока шла приёмка картины. Он все знал, конечно. Но он был не сторонним в этой истории, хотя сам‑то почти ничего не терял от провала фильма. Он ещё раньше все потерял. Но он так не думал сейчас. Он горевал вместе со всеми. И, смешно, ещё на что‑то надеялся, когда бежал им навстречу. А вдруг да ему наврали, не так и не то сказав.








