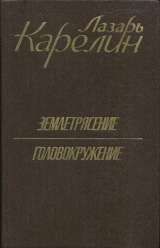
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
– Да, – сказал Костя, – я понимаю. Несправедливо.
– А что ты предлагаешь, сестра? – спросил Григорий. – Каждому из нас начинать с нуля? Ты не современна. Да это и не твои мысли. Это тебе твой беглый поэт напел. Все та же древняя песенка про счастье в шалаше. Ну, в его варианте это не шалаш, а кибитка или там юрта.
– Ты ничего не понял, – сказала Ксана. – Ты умный, но ты глупый, Гриша. – Она осторожно, пугливо дотронулась носком туфли до оскаленной волчьей пасти. – Зачем Косте этот волк, ну, скажи, зачем он ему?
– Выбросит. Продаст.
– Не решится. Сразу не решится, а потом и подавно. А этот колокольчик, – зачем он вам, Костя?
– Он мне не нужен.
– У отца тоже есть такой колокольчик. Зазвонит, и я бегу к нему. А раньше мама бежала. Что тебе? Что подать? – Ксана взяла со стола колокольчик, и он тотчас ожил в её дрогнувшей руке.
– Иду, иду! – послышался с лестницы голос Лизы. – Уж и не терпится!
Вот! – Ксана зажала звон в ладонях. – Вот, Костя, привыкнете и станете звонить, вызывать.
– Тут все можно переоборудовать, – сказал Григорий, – Чепуху несёшь, сестра. Это у тебя от плохого настроения. Колокольчика' испугалась! Волчья шкура не веселит! Поженитесь, все тут поменяете. Готов за небольшое вознаграждение быть вашим консультантом.
– Вот видите, Костя, он уже нас поженил. Да не он. Это дом Уразовых решил породниться с домом Лебедева. Наше согласие, оказывается, даже и не обязательно.
– А Костя согласен, – сказал Григорий. – Верно, Костя?
Вошла с бутылкой и стаканами Лиза, и Костя кинулся ей помогать. Он принял у неё поднос, на котором одиноко стояла бутылка невиннейшего кагора и множество было всяческих тарелочек и вазочек со сладостями.
– И это все? – вознегодовал Григорий. – Тётя Лиза, да вы, никак, нас за детей принимаете.
– Дети и есть.
– Мы – студенты, мы уже сами можем детей делать.
– Господи, помилуй! – смутилась тётя Лиза. – Какой у тебя, Григорий, язык распущенный! Смотри, скажу отцу!
– А я весь в него.
– Где тебе! Зелен ещё! – Тётя Лиза вдруг усмехнулась, остро глянув на парня. – Тебе ещё грешить да грешить, чтобы с батюшкой сравняться. Нет, не проси, ничего другого не принесу. – Она ушла, одарив и Ксану, и Костю острым своим, присматривающимся взглядом. – Господи боже, помилуй нас…
– Что ж, кагор так кагор, – смирился Григорий. – В докторском кабинете можно и с докторского винца начать. Ну, а потом… – Он быстро управился с пробкой, торопливо, словно истомила его жажда, разлил вино по рюмкам. – Поехали! Так как, Костя, ты согласен?
Костя молчал. Отшутиться бы, но не шли на ум удачные слова. И Ксана молчала. Ей ничего не стоило свести все на шутку, но она помалкивала.
– Что же мы не пьём? – сказал Костя и первый осушил свою рюмку. Кагор был тёплый, противный, у него был вкус подслащённого сургуча. Но этот сладкий сургуч все‑таки поприбавил Косте смелости. – Я согласен, – сказал он, и, чтобы понятно было, что он шутит, что это он только шутит, Костя добавил: – Где наша не пропадала!
– Ну, тогда и я согласна, – сказала Ксана и тоже выпила. – Верно, где наша не пропадала! Фу, какая гадость!
– Тогда вам ещё по одной, – сказал Григорий, торопливо наливая сестре и Косте. – За вашу помолвку! Быть по сему! Поехали!
– Быть по сему! – повторил Костя и выпил. И с надеждой посмотрел на Ксану.
– Быть по сему! – Она тоже выпила. – Фу, какая гадость!
– А теперь, – не унимался Григорий, – самое время вам выпить на «ты»! Возражений нет? – Он снова всем налил, потом взял сестру за руку и подвёл к Косте. – Заведите руку за руку. Так. Смотреть в глаза. Выпили! И…
Костя придвинулся к Ксане, совсем близко. Глаза у неё были закрыты. Она не отстранилась от него, только закрыла глаза. Кагор влажно и горячо растекался по её губам.
– И!.. – напирал Григорий.
Костя коснулся губами её губ. Она не отпрянула, не оттолкнула его, чего он ждал. Её губы покорно поддались, разнялись, скользкие и горячие. Костя услышал, как застучало сердце, как заколотилось, заметалось.
Ксана отвела голову.
– Все?
– Теперь скажите друг дружке «ты»! – приказал Г ригорий.
– Ты не умеешь целоваться, – сказала Ксана. Она смотрела на него и улыбалась своим красным, влажным ртом. – И от тебя пахнет кагором.
«А я люблю тебя», – хотел сказать ей Костя, но сердце так стучало, что он оглох от этого стука. Он испугался, что не услышит собственных слов.
– Ты… – сказал он и умолк.
– Готов! – насмешливо изрёк Григорий. – Вот что, помолвленные, сбегаю‑ка я к старухам за шампанским. Я мигом! – Он кинулся к двери, прогромыхал, нарочно шумя, по лестнице и принялся кричать что‑то – там, внизу, – оповещая Анну Николаевну. Благая весть!
Оказывается, Григорий не шутил с этой помолвкой.
И Ксана молчала, не остановила его, не запротестовала. Но ведь и ты сам, ты тоже не шутил…
– Ксана, ты это серьёзно? – спросил Костя, как к чужому прислушиваясь к своему оробевшему голосу.
Она оглянулась, незнакомо посмотрела на него, сведя брови.
– Мама будет рада, – сказала она.
– А как же Туменбай? – спросил Костя, кляня себя, что спрашивает.
– Никакого Туменбая нет, его нет. – Ксана присела на диван, понурилась, зажав руки между коленами. – Ты не беспокойся, он уехал. Он, знаешь ли, убежал в свои горы. Гордый! А я тоже гордая…
На лестнице рос шум, скрипела лестница под тяжестью Анны Николаевны, которая сама сейчас поднималась сюда, чтобы поздравить Ксану и Костю. Благая весть, благая весть!
– Ну вот и все, – сказала Ксана и распрямилась.
17
Дети сказали своё быстролётное «Да!», и на арену выступили взрослые, люди обстоятельные и серьёзные. Надо было спешить, взрослые заторопились, их опыт подсказывал им, что нельзя терять ни минуты. Да и обстоятельства действительно были таковы, что надо было торопиться. Короток был срок жизни, остававшийся у Ксаниной матери. А она хотела благословить дочь. Её страшил роман дочери с этим Туменбаем, с этим не от мира сего поэтом, гордым, вспыльчивым, непонятным. Что бы ждало дочь, выйди она за него? Чужая среда, чужие обычаи, что ни говори, но и чужая вера. Девочка не придавала всему этому значения, она ещё была глупенькой, несмышлёнышем, хоть уже вот и стала невестой. Надо было подумать за неё, обезопасить её. Мать хотела умереть, зная, что дочь её защищена от опрометчивого, пагубного шага в жизни. Спешил и Лукьян Александрович. Во–первых, по той же причине, что и жена, – мог ведь и Туменбай вернуться, – а во-вторых, могла и дочь передумать. А Лукьян Александрович очень хотел, чтобы этот брак дочери с Костей состоялся. Для её же блага. И парень был славный, неиспорченный, и ясно было совершенно, что влюблён в неё по уши. Но и не только это. Выдать дочь за единственного наследника Анны Николаевны Лебедевой – это само по себе было делом очень заманчивым. План этого брака, этого союза Уразовых и Лебедевых, в голове Лукьяна Александровича и зародился. А Анна Николаевна ухватилась за этот план как за спасение. Она тоже спешила. Как ещё взглянут на все родители Кости? Так ли легко будет им расстаться с сыном? Ведь ему теперь здесь жить, здесь у него теперь будет своя семья, свой дом. Надо было спешить. Потом, потом во всём можно будет разобраться, все обговорить, уладить. Потом! Пока же нельзя было терять ни минуты.
И Костя спешил. Ему всеобщая вокруг торопливость не казалась чрезмерной. Он был вместе со всеми, кто подгонял судьбу, и это было понятно, он её подгонял, свою судьбу, потому что он любил. И когда утром на следующий же день повёз их сам Уразов–старший в загс, чтобы они оставили там свои заявления, Костя был несказанно рад этому. Его только удивило, что все так буднично было в этом большом с колоннами доме, который здесь, как и в Москве, назывался дворцом. Они заполнили с Ксаной какие‑то анкеты, и вот и все. Их пока ещё не поздравляли, они пока ещё не стали мужем и женой, впереди ещё был целый месяц до назначенного дня, когда они станут мужем и женой. Целый месяц. А как прожить его?
Лукьяну Александровичу тоже показалось, что месяц – это очень долгий срок.
– Нельзя ли побыстрей? – спросил он регистраторшу, молодую женщину с равнодушным, отсутствующим лицом.
– Таков порядок.
– А если есть некоторые обстоятельства, требующие сократить этот испытательный срок?
– Тогда договаривайтесь с начальством, – сказала регистраторша. Ей было всё равно, она привыкла, что все здесь торопятся побыстрее пройти эту нейтральную зону, этот месяц раздумий, сомнений, ожидания. Она привыкла и к тому, что иные не выдерживают этого срока и не являются по истечении его. Она привыкла на своей работе лицезреть счастье на заре и в зените, и, пожалуй, её перекормили этим зрелищем, как работницу на конфетной фабрике перекармливают шоколадом.
– Хорошо, я договорюсь, – уверенно пообещал Лукьян Александрович, – Какой у вас есть самый ближайший день?
– Самый ближайший? – Регистраторша полистала толстую книгу счастья. – Через десять дней, раньше все занято. Но только учтите, начальница не согласится.
– Согласится, – сказал Лукьян Александрович. – Не кто‑нибудь в брак вступает. Уразовы да Лебедевы. Слыхали такие фамилии?
Регистраторша привыкла на своей работе и к бахвальству.
– Да, я забыла спросить, какую невеста берет фамилию? Свою оставляет или мужа?
Лукьян Александрович задумался, оглянулся на дочь.
– Мужа, – сказала Ксана.
– Что ж, ты права, – согласился Лукьян Александрович, но и немного опечалился. Уж очень скор был ответ дочери. Она будто пробудилась, будто встрепенулась, выбрав себе на всю свою дальше жизнь фамилию. И слишком явна была её готовность отрешиться от фамилии отца.
Регистраторша внимательно посмотрела на Ксану, потом посмотрела на Костю и многое поняла: ведь всякая работа вырабатывает свою профессиональную зоркость. Её узкие, здешнего прищура, глаза насторожились.
– А зачем вы так торопитесь? – спросила она у Лукьяна Александровича. – Вот уж бы не советовала…
– Это из‑за меня, – сказал Костя. – Мне надо срочно ехать в Москву, чтобы перевестись в здешний университет.
– А–а-а, – пропела регистраторша и веря, и не веря.
Но это «А–а-а» пропелось и в самом Косте. Он вдруг уразумел, что ему придётся так и поступить, что ему теперь жить здесь. Да, он только сейчас это понял. Не было времени подумать, хоть как‑то осмыслить все. Он даже не успел ещё домой написать. Письмо от матери пришло всего час назад. Письмо, в котором она была так бестревожна и лишь советовала сыну, чтобы он поосторожнее обращался с машиной. Что там машина! Он вот женится, он вот в загсе! Он вот остаться надумал в этом городе! Кругом голова пошла у него от этих мыслей. Подумать бы, побыть бы одному, повременить бы, спросить совета у отца с матерью. Нет, думай не думай, а он уже был в плену обстоятельств. Он не знал по молодости лет, как ухватист этот плен, он только чувствовал, что назад дороги ему нету, да он и не собирался поворачивать назад. Напротив, его бы воля, он бы прибавил скорости. Вот кто спешил, так это он. Но только его поспешность была свята.
За порогом Дворца Счастья светило солнце, слепило солнце. И за этим порогом вихрь подхватил Костю. Он все делал сам дальше, но, казалось, кто‑то схватил его за руку и бегом, бегом увлекал за собой. Было мелькание лиц вокруг, мелькание улиц, домов, в небе то вспыхивало солнце, то загорались звезды. Было шумно, было весело, было и страшно. Это был страх особенный, такой, что всегда где‑то рядом бежит со счастьем, прячется в его тени. Это был страх–сомнение, страх–предчувствие, страх–совесть.
Ксана была ровна с Костей, добра с ним. Только она все задумывалась и часто, странно часто вдруг оглядывалась. Они шли куда‑нибудь, ехали куда‑нибудь, и вдруг она умолкала, замирала и принималась оглядываться, словно кто окликнул её или кто‑то ей померещился. Никто не окликал, никого не было.
Куда только не затаскивала Костю в эти дни Ксана. Весь город они обходили и объехали. Она ему показывала город. Они побывали во всех ресторанах, чуть ли не во всех шашлычных. Вот когда пригодился дядин бумажник. Множество раз на дню, кружа по городу, возвращались они на университетскую площадь, к молодому скверу, за которым так отчётливо видны были горы, к колоннам университета, издали казавшимся мраморными, древними. Они вступали в тень этих колонн, и Костя вспоминал, как увидел здесь Ксану, в широком платье, похожем на тунику, в сандалиях с высокой шнуровкой, – она была тогда девушкой из Древнего Рима. Костя вспоминал, как шёл тогда через этот сквер, не страшась солнца, парень в белой рубахе, как вольно он шёл. Он был сыном этой земли.
Бывать на университетской площади было мукой для Кости, но Ксана так прокладывала их маршруты, что нельзя было эту площадь миновать. К счастью, она не задерживалась тут долго.
Благословенный город, Костя все смелее ездил по нему на машине, и никто не спрашивал у него прав, которых у него не было и ещё и быть не могло. Машина – вот кто помогал Косте в эти дни. За рулём он забывался, успокаивался, обретал веру в себя. Если бы можно было, он бы с утра до вечера не вылезал из машины.
Пришло письмо от матери. Теперь это было тревожное письмо, и все оно было о том, чтобы он не спешил, не спешил, чтобы дождался отца, которому вот–вот удастся по пути из Гасан–Кули завернуть к сыну. Но это было и доброе, прощающее, как только мать умеет прощать, письмо, в котором сыну желалось счастье. Мать спрашивала: «Ты счастлив? Сын, ты счастлив?» Это было важнее всего для неё. Это было всего важнее для неё. О себе она не думала, она думала о его счастье.
А был ли он счастлив, наш Костя?
Да, конечно, он был безмерно счастлив. Но было ему и страшно. Страх не покидал его, бежал в его тени. Это был страх–сомнение, страх–предчувствие, страх–совесть.
18
Они всё время были вдвоём, им старались не помешать, не нарушить их уединения. Даже Григорий оказался деликатнейшим человеком. Так полагалось, ведь они были помолвлены, более того, они сдали заявление в загс, более того, уже близок был день, когда их должны были расписать, и им просто необходимо было получше узнать друг друга. Да им никто больше и не нужен был во всём мире, – только он ей и только она ему и были нужны во всём мире. Так полагалось, так считалось.
Они сидели у Кости в этот вечер. День промелькнул, как и все эти дни, знойный, слепящий, оглушительный, суматошный. Радостный и безрадостный, потому что Ксана и сегодня все оглядывалась, вдруг да оглядывалась, будто ждала, что кто‑то выйдет из дверей, отделится от дерева, окликнет её. Всякий раз, оглянувшись, она взглядывала на Костю, не заметил ли он её движения. Он старался сделать вид, что не заметил. Но это было неправдой, он замечал, и он вздрагивал, когда она оглядывалась, и делался несчастным.
Весь день нынче он ездил с Ксаной по городу и покупал ей подарки. Так полагалось. Анна Николаевна даже списочек ему составила, что следует подарить. Вот когда пригодился дядин бумажник. Колкие сотни из него легко выпархивали и исчезали в ящичках касс. Было радостно дарить Ксане, было радостно выбирать с ней какие‑то уже и такие вещи, которые должны были понадобиться им обоим, в их скорой, в их теперь уже скорой совместной жизни. То была игра, где он был сказочным принцем. Ей стоило только сказать, только руку протянуть, как он уже шёл к кассе и платил, и новый свёрток укладывался на заднее сиденье машины. Костя купил Ксане кольцо. Не обручальное. Те кольца уже были куплены Лукьяном Александровичем и ждали своего часа. Костя купил Ксане кольцо с большим голубым камнем, чуть, лишь отдалённо, лишь бледно перекликавшимся с синевой её глаз. Кольцо понравилось ей, и он купил. Надевая кольцо, Ксана глянула на Костю, быстро, коротко, незнакомо из глубины.
– Какой ты измученный, – сказала она. – Поедем домой. Ты устал.
Это была самая счастливая минута за все дни. Она заметила, что он устал, и в голосе её прозвучала доброта к нему, участие. Правда, ведь правда же, ему было нелегко. И всю дорогу домой – они ехали к нему – она ни разу не оглянулась, ни разу за всю дорогу.
И вот они сидели вдвоём в дядином кабинете, который теперь стал его комнатой, их комнатой.
Вечер, как всегда здесь, сразу стал ночью. Солнце недолго висело над кромкой гор. Кто‑то обрезал верёвочку, на которой оно повисло, и солнце упало за горы. Темно стало, как ночью, хотя ещё время было не позднее.
– Ты посидишь ещё? – спросил Костя.
– Посижу.
А ведь они ещё ни разу не поцеловались, если не считать их первого «ты», хотя и были помолвлены, да что там, уже почти были мужем и женой во мнении своих родных, которые все делали, всячески способствовали тому, чтобы они всё время оставались вдвоём. А они ещё ни разу не поцеловались.
– Ты знаешь, – сказал Костя, – я начинаю привыкать к этому кабинету. К ружьям этим, даже к волку. Пожалуй, придётся мне стать охотником. – Костя поднялся и снял со стены тот самый короткоствольный американский карабин с магазином, который так приглянулся Григорию. – Возьму вот и убью тигра. Водятся тигры в ваших горах?
– Водятся. Далеко где‑то, за перевалами. Нет, ты тигра не убьёшь, Костя.
– Ты думаешь, я – робкий?
– Ты?..
Костя стоял перед ней, прижимаясь щекой к стальной, обжигающей прохладе карабина, как это делал Григорий. Костя держал карабин стволом вверх. Он помнил, что этот карабин заряжен, что он смертельно опасен.
– Нет, ты не робкий, ты – добрый… Костя, иди ко мне…
Он качнулся и шагнул к ней. Вспомнил, что у него в руках карабин, и отбросил его, отшвырнул, как железную палку, презрев, что тот заряжен.
– Ксана! – сказал Костя, задохнувшись. – Хочешь, я убью себя? Чтобы не мешать, чтобы…
– Иди же… Только я не девушка… Тебе всё равно?..
Внизу сидели старухи, замерев, затаив дыхание. Грех свершался в их доме, грех людской. Лиза мелко, скорбно крестилась, и Анна Николаевна перекрестилась следом за ней. Но какой же то был грех? Радоваться надо было, радоваться. Теперь не быть ей одинокой, теперь молодые голоса заживут в её доме. Исполнилось!
19
Солнце, упав за горы, так же и выскочило из‑за них, будто кто‑то связал за ночь верёвочку и дёрнул солнце вверх, как воздушный шарик.
Была ли ночь? Они позабыли занавесить окно и сразу ослепли от солнца. Ксана поднялась, пошла к окну.
Костя смотрел, как она шла. Она не стеснялась его, своей наготы. А он слеп от этой наготы, от этого солнца на её теле. У неё была родинка на левой ноге, под самым сгибом. Оказывается, эта родинка была лишь началом цепочки, вступлением в тайну. Следующая родинка взбегала на бедро, – а он не знал об этом, не увидел ночью. И дальше, дальше бежали родинки, поднимались по крутому изгибу и тонкой талии, прикасались к спине, к ключице. А он не знал об этом, он только сейчас узнал об этом, ослеплённый юным, прекрасным телом женщины, которая была его женой. Но он не знал и того, что женщины, все женщины, стыдятся, когда любят, пытаются прятать свою наготу, если любят, и им не стыдно ничего, если ты им безразличен. Им безразлично тогда.
Ксана подошла к окну и встала в его квадрате так вольно, так бесстыдно, хоть весь город смотри. Ей было безразлично. Она долго стояла у окна, смотрела на горы, вскинув руки к затылку. Не обернувшись, она сказала:
– Костя, поехали в горы. Хочу туда. Прямо сейчас. Ладно?
Он смотрел на эту нагую прекрасную женщину, не веря, что это жена его.
– Вдруг встретим там тигра, – сказала она, и он догадался, что она улыбнулась. Но плечи у неё вздрогнули, ей стало холодно. – Ты возьми с собой карабин. Ладно?
Она вернулась к нему, наклонилась к нему. Родинка, одна–единственная, добралась и до её груди. Её можно было поцеловать…
Они ехали по ещё безлюдным улицам. Солнце катилось впереди них и указывало им дорогу, оно катилось над горами, нет–нет да и касаясь иной из снежных вершин.
Вчера бы Костя подумать не посмел, что может поехать в горы. Он ещё слишком робко водил машину для этого. Но вот он ехал, и ему было не страшно. Он уверовал в себя, и уверовала в него машина. Им обоим было не страшно.
Ещё длился город, и Костя вёл машину с такой скоростью, с которой вчера бы ехать не решился. .Но теперь вот он ехал, справлялся, и скорость только веселила его. Он мог бы и побыстрей поехать, если бы не светофоры.
Все же он помнил, хоть улицы были пусты, что возле красных светофоров следует останавливаться.
Ксана посматривала на не! о и улыбалась. Ей нравилось, как он вёл нынче машину, ей нравилась эта скорость.
– А вдруг в горах мы встретим не тигра, а Туменбая! – весело сказала она. – Вот будет забавно! Здравствуй, Тумен, скажу я ему. Где пропадаешь, как поживаешь? А это вот Костя. Ты знаком с ним? А ты познакомься с ним ещё разок. Теперь это мой муж. Ты удивлён? Почему ты не поздравляешь его? А меня почему ты не поздравляешь? Нехорошо так, Тумен. Тумен… Туман… – Она щебетала, ей было весело, очень весело. Её увлекла такая возможность: а вдруг в горах они и вправду встретят Туменбая.
– Знаешь, – сказала она обрадованно, – если мы его действительно встретим, то обязательно пригласим на нашу свадьбу. Ты не против?
– Нет, – сказал Костя и вдруг испугался скорости, с какой вёл машину.
И тотчас раздался милицейский свисток. Костя затормозил. Машина тоже струхнула, её даже чуть занесло, хотя асфальт был сух и шершав.
Устрашающе усатый и по–кавалерийски кривоногий орудовец манил Костю к себе пальцем.
Костя подошёл к орудовцу, дивясь тому, как твёрдо этот человек стоит на земле. У Кости ноги подрагивали, земля под ними была неверна.
– Нарушаете! – сказал орудовец. – Права! – сказал орудовец и протянул к Косте громадную, как на плакате, руку.
Но у Кости никаких прав не было. В иное бы время он в этом бы и признался. Он бы и сейчас признался, если бы не оглянулся. Ксана вскинула ладонь, приказывая ему быть находчивым.
– Права? – Костя очень натурально похлопал по карманам брюк. – Ах, черт, забыл права в пиджаке.
– А где пиджак? – У орудовца хищно вздёрнулись усы. – Дома пиджак, да? – Его нельзя было провести, этого стража порядка. – А чья машина, знаешь?
– Знаю, – сказал Костя. – Профессора Лебедева машина.
– Ага, признался!
– Так ведь и я тоже Лебедев.
– Ты? Лебедев? – Орудовец вонзил в Костю свой орудовский взор, —А–а-а!.. Да–да–да! Похож! Брови! Нос! Похож! Родственник?
– Племянник.
– Да, я верю, ты племянник, – сказал орудовец, безмерно огорчившись. – Ах, как нехорошо! Племянник! Василия Павловича… Не могу я тебя задержать. Беда! Не могу! Он мне ногу спас, твой дядя. Мениск! – Орудовец, негодуя на себя, изо всех сил стукнул кулаком по колену. – Ну, уезжай с глаз моих! Не могу…
Костя медленно пошёл к машине, медленно занял место за рулём, медленно пустил машину вперёд.
– Молодец! – сказала Ксана. – Отговорился! Молодец!
– Мой дядя ему ногу спас, – сказал Костя. – Это только и помогло.
– Какой он смешной! – рассмеялась Ксана. – И зачем человеку такие кривые ноги? А он вот их любит, он в них влюблён. Костя, ну что ты плетёшься?
Они миновали орудовца. Он отвернулся, чтобы больше не видеть этой машины, которую должен был задержать, обязан был задержать, но не сделал этого, потому что в машине ехал племянник человека, спасшего его от хромоты.
Дорога заметно начала подниматься, но ещё была пряма. Костя помнил эту дорогу. Он хорошо её запомнил. И вдруг и ему тоже захотелось в горы, туда, где орёл жил на скале. Туда, где паслись слоны у края пропасти. Туда, где был он смелым. Миг один, но смелым. Он прибавил скорости. Ехать было легко. Дорога начала раскручивать свои пока ещё некрутые петли.
– Не плетись, не плетись, муженёк, – сказала Ксана. – Ах, какое у него будет лицо, если мы его встретим! – Ей было весело, она улыбалась. Но вдруг притихла.
И вдруг послышался ей тонко натянувшийся голос, будто кто вдали, там, в горах, затянул протяжную, без слов песню, из тех, что поют в горах. Голос был тонок и даже слаб, но не прерывался, тянул. Он был странен, этот голос, он пугал почему‑то. И горы, всюду были горы. Небо и горы. «Куда я? – замерев, подумала Ксана. – Зачем?» Она вскинулась было, чтобы велеть Косте остановиться, чтобы велеть повернуть назад. Но нет, горы и небо завораживали её, слова не вымолвились. Поздно было поворачивать назад.
Все вверх и вверх шла дорога, все вверх и вверх. Косте казалось, что машина летит. Всюду было небо, и только узенькая полоска под колёсами была землёй. Да скалы справа, слившиеся в чёрную стену. А впереди было небо. А слева было небо. Пропасть и небо. И где-то высоко и уже в самом небе снежные стояли вершины. Кружилась голова от этой снежной белизны и синевы вокруг. И весело было у него на душе и печально.
На первом же крутом витке машина заехала передними колёсами за край дороги, за край пропасти и начала падать.
На кладбище в том городе, где все это произошло, стоит надгробье–памятник. Большая, необработанная глыба гранита, и два юных лица в профиль на этой глыбе. И все. И никакой нет надписи. Да и профили сами едва только намечены резцом, едва обозначены. Считается, что это надгробье не завершено. Рассказывают, что скульптор, который делал его, сошёл с ума и умер, не довершив работы. А мне показалось, что он успел её довершить. Что ещё он мог сделать?








