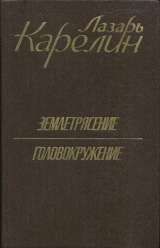
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– И очень просто! – сказал Птицин и повернулся стремительно, отыскивая глазами, куда бежать за билетом, – Сергей Петрович, давайте деньги. Лёня, паспорт с собой?
– А худсовет? – спросил Леонид и увидел синее море под крылом самолёта.
– Вернётесь как раз к худсовету. – Денисов быстро достал деньги, начал отсчитывать сотню за сотней на подставленные Птициным ладони. – Верно, Лёня, с вами повеселей будет. Верно…
Смотри‑ка, Денисов чуть ли не упрашивал его лететь в Ашхабад. Что так?
– А там сейчас тепло–тепло! – заманивая, жмурился Птицин. – И дыни, дыни! Буде, Сергей Петрович. – Он прихлопнул деньги в ладонях. – Лёня, за мной!
И они побежали – впереди Птицин, за ним Леонид, – отыскивая дежурного по аэропорту. И покуда бежали, покуда Птицин вызнавал дорогу, Леонид никак не мог собраться с мыслями, хотя и знал, что должен собраться с мыслями, что нельзя ему бездумно соглашаться на свой полет в Ашхабад.
Птицин нашёл окошко дежурного и нетерпеливо махал отставшему Леониду.
– Давай, давай быстрей паспорт!
– Постой. – Леонид подошёл к нему, взял за руку, отвёл от окна.
– Ну! – поторопил его Птицин. – Что ещё там?!
А мыслей не было.
– Да говори же, расхватают билеты.
– Слушай, Володя, я вот о чём хотел тебя спросить… Слушай, та армяночка, ну, ты знаешь, Лена… Скажи, она вышла замуж? Мне писали, что она выходит замуж…
– Ах вот ты о чём! – Птицин призадумался. – И от этого зависит, полетишь ты или нет?
– Пожалуй.
– Что ж, старик… – Птицин снова призадумался. – Что ж, очень мне хотелось, чтобы ты полетел с нами, но черт с тобою – не лети.
– Значит, вышла?
– Ага.
Не спеша вернулись они к Денисову – впереди Птицин, за ним Леонид.
– Раздумал, не полетит, – сказал Птицин Денисову. – Худсовет все‑таки… Риск… Нельзя… Я его понимаю. Столько времени убил, столько сил. Понимаю.
– Худсовет? – Денисов быстро глянул на Леонида и отвернулся, помрачнев, замыкаясь. – Ну, как знаете...
Объявили посадку. Леонид проводил своих друзей до самого самолёта. Они обнялись, расцеловались. Всё это совершалось торопливо, в толчее. Одни улетали, другие оставались. И улетавшим было уже не до земных дел. Они улетали…
Леонид дождался, когда закончилась посадка, закрыли дверь самолёта, откатили трап. Он дождался, когда самолёт стронулся, неуклюже побрёл по земле, выбредая на прямую тропу, чтобы устремиться в небо. II он дождался, когда самолёт вдруг кинулся вперёд, подвывая моторами, а потом вдруг оторвался от земли и стал птицей.
И в этот миг, когда самолёт стал птицей, Леонид до слез пожалел, что отказался лететь в Ашхабад, – обо всём забыл и только жалел, что отказался лететь туда, за синее море, где тепло, тепло и дыни, дыни…
4
Центральная сейсмическая станция «Москва» Геофизического института Академии наук, сейсмические станции в Свердловске, Иркутске, Ташкенте, Владивостоке, Тбилиси, Ереване, Андижане, Алма–Ате, Фрунзе, Сталинабаде, Самарканде, Чимкенте и другие станций зарегистрировали в ночь с 5 на 6 октября сего года землетрясение большой силы. Первый толчок от землетрясения был зарегистрирован сейсмической станцией «Москва» 5 октября 1948 года в 23 ч. 17 м. 7 с. по московскому времени (6 октября в 01 ч. 17 м. 7 с. для Ашхабада). Смещение почвы было мгновенным, без предварительных толчков. По данным указанных сейсмических станций, эпицентр землетрясения был определён в Северном Иране, вблизи границ Туркменской ССР – к югу от Ашхабада (в расстоянии от него около 80 километров). Координаты эпицентра определены следующие: широта 37,4 градуса и долгота 58,2 градуса.
Сила землетрясения в эпицентре была столь значительной, что в Москве на расстоянии от эпицентра в 2500 километров смещение почвы достигло 0,4 мм. На этом основании было сделано заключение, что в самом эпицентре сила землетрясения достигла 10 баллов, а в Ашхабаде – 8—9 баллов.
«Туркменская Искра»,
13 октября 1948 года
Самолёт, вылетевший из Москвы в Ашхабад рано утром 4 октября, вынужден был заночевать в Баку. Шторм был на Каспии. А в шторм над Каспием не полетишь. Но к полудню 5 октября погода установилась, грозовые тучи, зачернившие небо, расползлись, и самолёт взял курс на Ашхабад.
Море было неспокойно. Не синим, а как в кино, черно–белым оно было, закручивались, сшибались, исходя пеной, волны. И в небе шла война: тучи грозно сталкивались, кромсая. друг друга. В Каракумах, когда самолёт достиг их, тоже шла война. Куда ни глянь, пошатываясь, ходили песчаные смерчи, рушились, падали на колени.
Самолёту было трудно лететь, его моторы едва управлялись с встречным ветром, самолёт швыряло, он то до жути долго куда‑то проваливался, то с ощутимой натугой снова взбирался на какую‑то крутую гору. Командир корабля повернул было назад, но из Баку радировали, что на Каспии снова шторм и приморские аэродромы не принимают.
Кое‑как самолёт достиг цели. Над Ашхабадом он долго нырял, заходя и раз, и другой, и третий на посадку, прорывался сквозь пылевую завесу, укрывшую аэродром. Наконец сел, чуть не задев крылом землю.
Измученные пятичасовой болтанкой, оглохшие, выбрались из самолёта пассажиры. Измученные и счастливые: все‑таки долетели. Натерпелись страху, но долетели. И теперь под ногами была у них твёрдая почва, земля, и все опасности остались позади.
Денисова и Птицина встречали лишь трое: Марьям, Клыч и Гриша Рухович. Как выяснилось, студийцы поделили между собой дежурство на аэродроме. Ведь встречать начали со вчерашнего дня. Встречали нынешним утром. Потом приехали на аэродром в полдень. И вот только к вечеру дождались все‑таки.
Марьям участвовала во всех этих выездах на аэродром. Её спутники подменивались, а она упрямо ездила и ездила. А когда наконец встретила Денисова, у неё не было сил даже на улыбку. Она припала к его плечу головой и, смешная, твёрдым кулачком стала колотить его по спине, будто это он был повинен в задержке самолёта. Птицина она не заметила – этот уж наверняка был во всём виноват. Птицин вертелся рядом, но она его упорно не замечала.
Мелкий, колкий песок клубился над аэродромом, сек лицо, забивался в рот. Говорить было невозможно. Даже в здании аэропорта хозяйничал этот песок, и хлопали повсюду двери, терзаемые ветром.
Бегом, загораживаясь от ветра и песка руками, добрались до старенького «ЗИСа», забились в него и покатили в город, который виднелся вдали в песчаных облаках, сумрачный, до срока погрузившийся в вечер.
– Вот тебе и тепло, вот тебе и дыни, – пробормотал Птицин, устало закрывая натруженные, покрасневшие глаза.
На студию не поехали, рабочий день уже кончился. Поехали прямо к Денисову домой. И сразу – к столу. Денисов распахнул чемодан, достал из него московские гостинцы: хороший коньяк, копчёную колбасу, консервы, конфеты. Он передавал все это Марьям, а она складывала все на стол, радостные издавая восклицания, хлопая в ладоши, но было видно, что она только играет в радость, что ею владеет, не отпуская, тревога, знобит её от тревоги.
В комнате стояла духота, а окна раскрыть было нельзя – налетел бы песок. Денисов распахнул дверь на террасу. Из сада сухой пришёл шорох, жаркое ворвалось дыхание земли. Денисов скинул пиджак.
– Душно! Ну, давайте выпьем, друзья. Как вы тут?..
За разговорами, за выпивкой незаметно скрадывался вечер. Будто уговорились все ни о чём серьёзном не поминать. О Воробьеве не было произнесено ни слова, о Бочкове – ни слова, о новой картине – ни слова. Смешные все раздобывались для застолья истории. Про Бурцева, которого министерство премировало автомобилем «Москвич», подчеркнув тем самым своё к нему расположение. И вот этот «Москвич» прибыл недавно в Ашхабад. Машину доставили на студийный двор, и старик на глазах у всей студии решил было сесть за руль. Но с первого раза это у него не получилось. Машина маленькая, а Бурцев разве что на вершок поменьше Петра Великого. Но ничего, приспособился, ездит на своём «Москвиче», складываясь в нём, как перочинный ножик. И горд непомерно. Ведь во всём городе насчитывается пока три «Москвича».
И ещё одну смешную историю припомнили. Про Шкалика. Пропал вдруг в один прекрасный день Шкалик. Пришёл на студию и сгинул. Ищут–ищут и не могут найти. Наконец кто‑то забрёл в душевую. Смотрит, сидит там Шкалик в чём мать родила на скамеечке, посинел весь от холода, зубами пощёлкивает, но и пальцем пошевелить боится. Что такое?! Оказывается, когда Шкалик после душа начал вытираться, вдруг свалился к нему на плечо какой‑то жук. Скорпион, конечно! Вот Шкалик и замер. И жук тоже замер. Большой испугался маленького, маленький – большого. Тот, кто обнаружил Шкалика, знал толк в скорпионах. На плече у Шкалика не скорпион сидел, а обыкновенный навозный жук. И жук этот был немедленно выброшен за дверь.
И ещё, и ещё рассказывались всякие смешные истории. И все смеялись как сумасшедшие любой глупости, всякому смешному словечку. И громче всех смеялась Марьям. И всякий раз дольше всех. Но вдруг обрывала смех, замирая, к чему‑то прислушиваясь. Ей было невесело, не радостно, хоть она и громче всех смеялась, и её знобило, она всё время скрещивала руки, грея плечи ладонями.
Первым спохватился Клыч:
– Поздно. Мне пора. Жена ждёт.
Птицин проводил его до двери, будто это Птицин был здесь хозяином. У порога он вдруг обнял Клыча и поцеловал в щеку.
– Клычик, дорогой, – сказал он. – Я ведь с тобой на аэродроме и не поздоровался как следует. Эх, друг, друг… »
Что это с Володей Птициным? Клыч смотрел на него, ничего не понимая, потом улыбнулся ему сочувственно и шагнул в ночь.
– Целуй уж и меня, – сказал Гриша Рухович и тоже пошёл к двери. – Пора, пора спать. Спасибо за угощение, Сергей Петрович.
Птицин обнял Руховича.
– Эх, друг, друг! – сказал за него Гриша и подмигнул Денисову и Марьям.
– Не шути с этим, – строго сказал Птицин. – Ну, ступай.
Только ушёл Рухович, только затихли его шаги за калиткой, как Марьям выскочила из‑за стола и вдруг принялась кричать:
– Смеётесь! Веселитесь! А у этого Воробьева целый портфель набит всякими бумажками против нас! Он с этим портфелем и не расстаётся! Он его под голову кладёт, когда спит! Он нас погубит! Погубит! Он и Бочков!
Денисов тоже вскочил.
– Да перестань ты! Слышишь?! Надоело!
Марьям опешила. Это было новостью для неё – такой его окрик.
– Ах, ты кричишь на меня? – Она заговорила шёпотом. – Вот! Вот уж ты и кричишь на меня! Я так и знала…
Денисов опомнился, быстро подошёл к ней, обнял.
– Прости меня, я очень устал. Страшно устал. Ну что, ну что тебе дался этот человек с портфелем? Завтра же я решительно поговорю с ним. Акт ревизии на стол, и пусть отправляется восвояси!
– О, ты смелый, а я трусиха. – Марьям медленно отвела руки Денисова. – Я боюсь, боюсь… Вот ты уже кричишь на меня… Это он, это из‑за него, да? Ты встревожен?
– Глупости! Марьям, умоляю тебя, довольно об этом. Все письма об этом, все телеграммы об этом. Довольно!
– Хорошо, я больше не буду. – Она покорно склонила голову и вдруг застыла, снова к чему‑то прислушавшись. Слушала, слушала, и удивлением, страхом ширились её глаза. – Слышите? Вы слышите?
Денисов и Птицин прислушались.
– Просто ветер в саду разбушевался, – сказал Денисов. – Ты об этом?
– Нет.
– Это песок в воздухе скрипит, – сказал Птицин. – Все‑таки местечко, я вам доложу.
– Нет, это не песок. Нет, мне почудилось. Спать, спать давайте! Поздно!
– Я заночую у вас на террасе, – сказал Птицин. – Можно? Не хочется брести по городу. Ноги устали, весь устал.
– Ночуй! – разрешила Марьям. – Возьми вот коврик, вот тебе подушка, одеяло. На террасе сегодня только и спать. Душно!
Птицин принял из рук Марьям коврик, подушку, одеяло и стоял нескладный, понурый, глядя поверх вещей на Марьям. И вдруг Марьям тоже глянула на него и чего‑то устыдилась. Лицо у неё пристыженным стало и жалким. О миг последний, запечатлись! Птицин покивал ей, прощая, все прощая, и, мешковато повернувшись, шагнул за порог.
А Марьям, захлопнув рывком дверь, кинулась к тахте, запрокидывая руки, всхлипывая и улыбаясь.
– А ты, ты любишь меня?..
Денисов не ответил. Он курил, отойдя к окну, выходившему во двор, единственному в доме окну без решётки. Курил и смотрел на затянутое пылью ночное небо с большими тусклыми звёздами. Скверно у него было на душе и стыдно. Он прислушался, как кряхтел, укладываясь на террасе, Птицин. Прислушался, как бушевал ветер в саду, оголяя виноградник. Потом Денисов пригасил папиросу и пошёл к Марьям.
– Обними меня… – сохлыми губами шепнула она.
…И он вдруг сжал её и рванул, и она задохнулась в его могучих руках. Но то был не он, не любимый, то было землетрясение…
Да, то было землетрясение, начались те самые одиннадцать секунд, когда земля шесть секунд металась из стороны в сторону, как взбесившаяся львица в клетке, а пять секунд уминала все ногами, будто взбесившаяся слониха. А потом земля улеглась и снова стала матерью–землёй. »
Птицин ещё не спал, когда терраса рванулась из‑под него, а небо опрокинулось и деревья в саду легли к земле, поднялись и снова легли.
Птицин вскочил. «Война?! Бомбят?!» Гудела земля. Сотрясалась земля, но то была не война… А что же, что?!..
Шаг один – и Птицин был бы в саду, где ничто не могло обрушиться ему на голову. Но он повернулся и шагнул в дверной проём дома, за распахнувшуюся криво дверь, шагнул в обрушивающийся дом.
Он увидел нагую Марьям, изогнувшуюся, сжатую, придавленную стеной. Он увидел, что ещё какая‑то балка падает на неё, скользя и нацеливаясь ей в грудь. И он бросился к Марьям, вытянув руки. И не увидел, что такая же балка падала на него самого. Он только услышал странный хруст и изумился этому хрусту, но поняв, что это его переламывается шея, что он убит.
А Денисов ускользнул от смерти. Какая‑то сила отбросила его от Марьям. Он вскочил. Ещё один толчок швырнул его к стене. Повезло ему! Эта стена выходила во двор, в ней было окно без решётки. И это окно зияло дырой в спокойное звёздное небо. Ещё один толчок – извне или изнутри, как понять? – и Денисов вывалился в оконную дыру и упал, расшиб лицо о землю.
Когда его швыряло из стороны в сторону, он увидел или ему померещилось, что он увидел, как вбежал в комнату Птицин. И балки, поползшие с потолка, увидел. Или ему померещилось? А когда он упал, он услышал, как падает дом. Он приподнялся на руках и увидел, как рушатся стены, как оседает, лопаясь, сотрясаясь, стена, за которой лежала Марьям. Он закричал, вскакивая, и снова упал, не устояв на подпрыгивающих ногах. И снова ткнулся лицом в землю, расшибая губы и слыша ими, как содрогается и гудит земля. От этого можно было сойти с ума, и он сошёл с ума и пополз куда‑то в темноту, а потом поднялся и побежал, задыхаясь от пыли, ослепнув, не видя ни единого огонька вокруг. А огней и не было. Во всём городе погас свет. Да и города уже не было. Были груды развалин таких же, как дом Денисова.
Земля больше не сотрясалась под ногами. Но Денисов всё равно бежал, подпрыгивая, заваливаясь, подламываясь в коленях. Его ноги разучились делать своё дело, изверились в незыблемости земной опоры.
Земля отбуйствовала, но то, что сотворила она за одиннадцать секунд, весь этот ужас, который родился в её судорогах, он не сгинул. Гибли, задыхаясь, в развалинах люди. Начались пожары. Многие души не выдержали, смешались перед неведомым и пошатнулись. И так же, как Денисов, бежали, бежали в клубах пыли куда‑то люди, крича, простирая руки, в смятенном сознании своём отыскивая нужные слова, чтобы понять, опомниться. И множество слов понадобилось выкрикнуть иным, прежде чем вспомнили они то главное, то единственное слово, которое всё объясняло. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ!
Сам ли Денисов набрёл на это слово или услышал его в чьём‑либо выкрике, но когда и он его выкрикнул, он опомнился. Он остановился, недоумевая, почему куда‑то бежал. Куда он бежал? Зачем? Он огляделся, стараясь понять, где он. Далеко же он забежал. Он обнаружил себя у рухнувших стен гостиницы «Дом Советов». Он узнал этот дом по уцелевшим колоннам. Он оглядел себя, он был в одних трусах, босой. И вдруг он все вспомнил! Марьям на тахте, балку, которая заскользила с потолка, Птицина в дверях, себя вспомнил, метнувшегося в окно. И закричал, как кричит человек, когда на него наезжает поезд. И бросился бежать. Назад!
Клыч пришёл домой от Денисова в приподнятом настроении. Клыч не пил, вообще не пил, разве что пиво. А у Денисова он выпил несколько рюмок коньяку и потому полагал, что пьян, и был возбуждён, думая, что это от вина. А он от иного был возбуждён. Его взбудоражил ветер, пришедший в город из пустыни, нагнавший в город каракумскую песчаную пыль. У этой пыли был свой запах, свой привкус. Клыч мальчуганом вдруг себя вспомнил. Летний денёк вдруг встал в глазах и далёкий аул. И женщина в красном платье, его мать, появилась в Дверях их бедного дома и позвала его. И Клыч даже отчётливо услышал её голос, хотя её уже не было в живых. Услышал! Конечно же это из‑за вина.
По крутой лесенке он поднялся на крыльцо своего дома, нет, не померещившегося ему, а дома, где он теперь жил в городе. Тихонько, чтобы не разбудить жену и сына, Клыч подвигал рычажком умывальника, вымыл руки, умыл лицо. Потом разулся, в носках переступил порог.
Жена тотчас поднялась ему навстречу. Она не спала, ждала его. В длинной рубахе, чуть согнув привычно руку в локте, чтобы закрыть лицо, но тут же и опустив руку, она заспешила к столу, на котором ждал Клыча укрытый полотенцем чайник. Она налила немного чаю в пиалу, ополоснула её и налила мужу чай. Клыч зажёг лампу, он глядел на жену, на то, как она движется, и улыбался. Он был рад, что пришёл домой. Ему хорошо было здесь. Он огляделся. Все стены комнаты были увешаны большими фотографиями людей, которым Клыч, кинооператор Клыч, поклонялся. И эти люди дружили с Клычом. Они смотрели со стен на него добрыми, смеющимися глазами. Тут были Чаплин, Эйзенштейн, а рядом с ними маленький глазастый человечек, сын Клыча. Клыч ему тоже поклонялся. И сейчас, оглядевшись, он заспешил туда, где спал в своей кроватке его сын. Он наклонился над сыном и услышал, что рядом встала жена и тоже наклонилась над сыном… Так их и откопали утром – Клыча и его жену, наклонившихся, спасающих своими телами сына. Они были мертвы, но сын их ещё был жив…
Гриша Рухович, уйдя от Денисова, до дома не дошёл. Он далеко жил, студия сняла ему комнату где‑то за текинским базаром. Он шёл, шёл по ночному городу, утомился и присел на какую‑то скамеечку у высокого дувала. Только сел, и скамейка под ним обрушилась. Гнилой оказалась. Гриша начал вставать и изумился, что его не держат ноги, й увидел, что дувал валится на него вместе со звёздами с неба. Он подумал, должно, быть: «Ну и пьян же я…» Распрямиться он не успел.
Илья Зотович Бочков только–только заснул, он поздно лёг, как вдруг почувствовал, что кто‑то тянет его за рукав рубахи, больно прихватив чем‑то острым и самую руку. Илья Зотович проснулся от боли и сразу вознегодовал на жену, которая так неловко дёргала его за руку. Он вскинулся и увидел, что это не жена его тянет, а их овчарка Альма. Она упиралась лапами в край постели и тянула его за рукав, прихватив зубами и кожу на руке, тянула, виновато повизгивая. «Взбесилась?!» – обмирая, подумал Илья Зотович. Он хотел крикнуть жену, но побоялся подать голос, ибо знал, что уж если овчарка зачудит, то криком её только озлобишь. Он сбросил ноги с постели и встал. Он надеялся, что Альма отпустит его. Она не отпустила. Пятясь, повизгивая, она поволокла его за собой к двери. Он подчинился. Он ещё не решил, как поступить, у него ничего не было под руками, чтобы унять, отогнать собаку. Альма упёрлась задом в дверь, заскребла лапами. Илья Зотович отомкнул дверь, решив, что, как только Альма переступит порог, он сразу же дверь захлопнет. Но Альма не дала ему это сделать. Она перехватила покрепче рубаху, прихватив заодно зубами и руку. Илья Зотович слабо вскрикнул от боли и тоже шагнул за порог. Пятясь, всё время скуля виновато, Альма продолжала тянуть его за калитку, а потом и на середину улицы. Кровь проступила на рукаве, Бочкова обуял страх. Он наклонился, нашаривая на дороге камень. Камень нашёлся. Увесистый, такой как раз, какой нужен. Бочков схватил этот камень и стал молотить им Альму по голове. Бил и вскрикивал, страшась, что взбесившаяся Альма вцепится ему в горло. Но Альма только взвизгивала, она позволяла себя бить, она не защищалась и все тащила его куда‑то, хотя силы начали оставлять её, слишком тяжёлые наносил ей Бочков удары. И собака сдалась, разжала зубы, рыча, сникая, поползла от хозяина. Растерзанный Бочков кинулся было к дому, но упал. Падая, он увидел, что и дом его падает. Бочков закричал пронзительно, перекрывая грянувший из земли гул, и пополз туда, куда уползла собака. Он был спасён. А этот крик его спас и Машу. Она проснулась, на миг опередив смерть.
Денисов вернулся к своему дому, к тому, что осталось от его дома. Путь назад изнурил его. Он видел, как копошатся у своих стен люди, как извлекают они кого-то из‑под развалин. Он этого не сделал. Он оказался малодушнее этих людей. Он бежал. Зачем? Куда?
Путь назад был долог, как ни гнал себя Денисов. И путь этот был страшен, потому что всё время перед глазами плыла Марьям. Она выплывала на своей тахте из темноты, то удаляясь, то приближаясь, будто маня его за собой. Она недвижимой была, белели её руки, и скрыто было лицо.
Каким‑то чудом нашёл Денисов в руинах улиц руины своего дома. Теперь уже и звёзд не было в небе и померкла луна – все заволокла пыль. Только костры пожаров, а они множились, одолевали пыльную мглу.
Найдя, узнав свой дом, эту груду глины, камней, балок, Денисов кинулся к нему, крича: «Марьям! Марьям!» Он лихорадочно стал растаскивать обломки, но сразу изранил руки, ободрал колени, и он все вслушивался, припадая грудью к обломкам, он ждал, он надеялся на чудо, на отклик. Но не было отклика. И не было сил своротить эти стены, приподнять их, заглянуть под них. Его дом, такой маленький, когда он стоял, рухнув, превратился в громадину. Сил не было управиться с его крепостной кладки стенами, даже с обломками этих стен. А время шло. Времени было потеряно слишком много…
Денисов кинулся за помощью на студию. Она была рядом. Там он найдёт людей, лопаты, медикаменты. То, что упущено, можно будет наверстать. Голова заработала с поразительной ясностью.
Ориентируясь по деревьям, а они не дались землетрясению, и улица в темноте казалась обычной улицей, Денисов выбежал к перекрёстку, на который выходили студийные ворота. Он их увидел, он их сразу увидел, словно днём, когда они так отчётливо выделялись на белом фоне высокой стены съёмочного павильона. Но павильона не было, этой белой стены не было, а свет на воротах был заревом пожара. Студия горела.
5
Леонид прилетел в Ашхабад, все уже зная и ничего толком не зная. Он питался слухами, пока был в Москве. Рано утром 6 октября ему позвонил приятель, который жил за городом, неподалёку от Быковского аэродрома. У этого приятеля были друзья в аэропорту, и от них‑то он и узнал о сокрушительном ашхабадском землетрясении.
Леонид не поверил своему быковскому приятелю, не поверил в размеры бедствия. Ну, землетрясение – мало их, что ли, бывало в Ашхабаде. Леонид и сам в трёх, а то и в четырёх, так сказать, принимал участие. Один раз – это было днём – он вдруг заспотыкался, когда переходил улицу. Ровный асфальт, а он заспотыкался, словно шёл по булыжнику. Он не успел даже испугаться, он не был обучен уважать землетрясения, догадываться о них. Но вдруг он увидел, как из домов стали выскакивать люди, иные выпрыгивали даже в окна. Что это? Кто‑то крикнул: землетрясение! Но больше толчков не было, и вскоре все успокоились. А Леонид посмеивался: «Ну и паникёры!» Он не был обучен уважать землетрясения. Да и день был, никто не спал, толчки были крохотные, все сразу всё сообразили.
А это, о котором кричал ему в телефон приятель, это землетрясение случилось ночью, застигло людей в пору самого крепкого сна и было очень сильным. Что значит – очень сильным? Приятель кричал, что в Ашхабаде есть жертвы, много жертв, что с Быковского аэродрома уже вылетели в Ашхабад самолёты с врачами, медикаментами, продовольствием. «Ладно, иди досыпай», – сказал ему Леонид и повесил трубку. Он не поверил в эту страшную новость. Но все же включил репродуктор, стал дожидаться последних известий. Известия отзвучали, о землетрясении в Ашхабаде не было сказано ни слова. Как же так? Ведь все‑таки что‑то же там случилось. Молчание радио встревожило Леонида. Он не был обучен землетрясениям, но он был обучен грустной науке умолчаний, в которые обволакивались многие и многие события, будто их и не было вовсе. И люди научились догадываться, не узнавать, а догадываться, жить не известием, а слухом.
Радио промолчало – и Леонид встревожился. Он не поверил своему приятелю – теперь он начинал ему верить. Он быстро оделся и выбежал на улицу. Ещё рано было, ещё не открылись киоски, не продавали «Правду», а на «Правду» Леонид все же надеялся, на эту газету он надеялся. «Правда» не промолчит, хоть несколько строк, да напечатает о случившемся.
Леонид поймал' такси, долго втолковывал сонному шофёру, как проехать к Туркменскому постпредству. Поехали. Миновали Кремль, университет, библиотеку Ленина, проехали Волхонкой, свернули к Арбатской площади. Дома, дома… И там, в Ашхабаде, дома, дома… Не такие громкие у них названия, совсем не громкие, но ведь и они тоже служат людям. И вот их сотрясла какая‑то сила, могучая, неумолимая, и они обрушились. Быть не может! Дома на улицах Москвы были так прочны, земля под колёсами машины была так надёжна. Не верилось, невозможно было представить, что где‑то там, все на той же планете Земля, рухнул минувшей ночью город.
Леонид остановил машину на углу Филипповского, рядом с жёлтым зданием постпредства, и вышел на тихую, ещё спящую улочку. Машина отъехала, и Леонид увидел на противоположной стороне приземистого седого старика в туркменских мягких сапогах. Старик шёл от дверей постпредства, его шатало, как пьяного, он был без пальто, без пиджака. Но не это поразило Леонида. Старик медленно поднимал к голове руки, впивался пальцами в седые космы, медленно выдирал из них клочья волос, медленно опускал руки, развеивал эти волосы и снова поднимал руки. И Леонид поверил в страшное ашхабадское землетрясение.
…Леонид прилетел в Ашхабад и не нашёл города. Глазам его открылись развалины, напомнившие войну, Варшаву, которую разрушили и взорвали, отступая, фашисты. В Варшаве Леонид не увидел ни одного уцелевшего дома, если не считать домов предместий. В Ашхабаде он тоже сперва не увидел ни одного уцелевшего дома. Потом уж ему показали один уцелевший дом, тот, что построили некогда с сейсмическими излишествами. И ещё один дом, вернее, домик во дворе филармонии, который был построен как беседка, и, возможно, цилиндрическая эта форма его и спасла. Осела на несколько метров, но все же сохранила свой облик старинная мечеть. Потрескались, но все же устояли метровые стены банка. Постепенно, когда пообвыкся, Леонид стал различать в развалинах ну если не целиком дома, то наполовину дома, на четверть дома. И всюду: в этих половинках и четвертушках, в наскоро сколоченных сараях, отрытых землянках – всюду возрождалась, входила в обычную колею человеческая жизнь. Люди не побежали из поверженного своего города, они остались, чтобы обжить его заново. И ещё затем, чтобы не отъехать далеко от дорогих могил. Их было много, очень много, вокруг города выросли новые кладбища.
С аэродрома Леонид пешком добрался до студии. Он долго шёл окраинными улочками, плутал, не зная, куда свернуть. Самые улицы были на месте, деревья, столбы – всё это осталось. И если смотреть только прямо и не поднимать глаз, то под ногами текла улица как улица. Но стоило поднять глаза и хоть мельком глянуть 'по сторонам, как улица, которой ты шёл, исчезала, и ты оказывался в лабиринте, где ни одной не найти приметы, подсказавшей бы тебе дорогу. Оказывается, улица – это не дорога, проложенная между домами, а это дома, проложившие между собой дорогу. И если нет домов, то нет и улицы. Улица узнается по домам, как река узнается по берегам.
Леонид шёл и боялся первой встречи своей с людьми, которые попали в землетрясение, тогда как он в него не попал. Он чувствовал себя как солдат, отставший от полка накануне боя. И хотя нелепым было это чувство – ведь не мог же он знать, как солдат, что грядёт бой, ведь землетрясение не объявлялось, оно не упреждало о себе, – он все же боялся встречи с товарищами, будто был дезертиром.
И студии не было. Стояли ворота, из фанеры была сбита наскоро проходная, но за воротами не видно было ни павильона, ни студийных корпусов.
В фанерной будке, когда Леонид переступил порог, он увидел сутулого старика, заросшего, запущенного, в нелепой на нём офицерской фуражке. Старик хлебал чай из кружки, понуро сидя на табуретке, и, когда Леонид отворил фанерную дверцу, даже глазом не повёл. Да у него вроде и закрыт был глаз‑то, сощурен. Леонид узнал Фаддея Фалалеевича. По этому прищуренному на мир глазу узнал.
– Фаддей Фалалеевич, еы? – Леонид усомнился все‑таки: не мог их вахтёр, крепкий этот мужик с армейской выправкой, так стремительно сдать, согнуться, одряхлеть.
– Я, я, Леонид Викторович. Прибыли? Ну, ну… – И все, и глаз не разжмурил, и не оживился, готовясь к вопросам. И все, снова потянулся губами к кружке.
– Фаддей Фалалеевич, как вы тут?
– Обыкновенно.
– Фаддей Фалалеевич… – Вопрос застрял в горле, Леонид виновато поклонился старику и шагнул за порог.
Он знал, что студии нет, он готовился к тому, что не увидит белых стен, бьющего посреди двора фонтана, но все же жаждал все это увидеть и все же не верил, что ничего этого нет. А ничего этого не было. Двор был загромождён какими‑то из фанеры хибарками, был оплетён верёвками, на которых сохло белье, и дымил, дымил костёриками, печурками, сложенными из дюжины кирпичей, самоварными трубами «буржуек».
Человек, один из тех, кто готовил себе пищу во дворе, вдруг распрямился и кинулся к Леониду. Человек этот был худ, измождён, тёмен лицом, но он улыбался из всех своих человеческих сил и руки распахнул для объятия. Кто это? На нём были новенькие заграничные ботинки, в манжеты рубахи вдеты запонки. Леонид узнал Денисова.
Леонид и других людей узнал во дворе. Он сообразил, как это надо делать. Надо сказать себе: они постарели на десять лет, прошло десять лет, как ты их не видел. И тогда всё станет понятным и можно будет узнать в этом темноликом человеке Денисова, вот в той вон улыбающейся старушке монтажницу Клавдию Ивановну, а в той вон старушке, прикрывшей вдруг лицо рукой, Ксению Павловну. А это кто? Медлительный, будто лунатик, он и по двору брёл незнамо куда, и щеки у него запали, как у старца. А это был Иван Меркулов, красавец Меркулов, десять лет назад так разительно походивший на Мозжухина. А это кто?..








