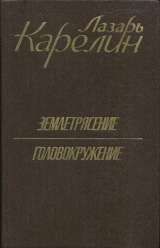
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Лазарь Карелин
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. Роман
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. Повесть
От автора
Роман «Землетрясение» и повесть «Головокружение», вошедшие в эту книгу, объединены не только местом действия – большая часть событий в них происходит в городах Средней Азии, в Ашхабаде и во Фрунзе, – но и самим драматизмом событий. Их сюжеты не совпадают, даже отдалённо не перекликаются, а вот перекличку жизненных обстоятельств, как мне кажется, читателю не трудно будет установить.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Роман
Часть перваяЗНОЙНЫЙ ГОРОД
1
Ещё в проходной вахтёр, бравый вояка, посмотрел на него каким‑то ликующе–наглым глазом. Вахтёр был о двух глазах, но смотрел на мир почему‑то прищурившись, попеременно то одним глазом, то другим: не считал, видно, нужным смотреть в оба.
Леонид насторожился. Он привык к вахтёрской почтительности. Она предназначалась не ему лично, Леониду Викторовичу Галю, молодому человеку неполных двадцати семи лет, а его должности: как‑никак он был начальником сценарного отдела киностудии и членом художественного совета – словом, важной на студии персоной.
– Ну, уволили меня или что? – Леонид тоже прищурился, весело всматриваясь в сверлящий вахтёрский глаз.
Смотрел, щурился, а сам уже заводил в себе некую пружину, изготавливаясь к бою. Какая бы новость ни ждала его за порогом проходной – что‑то серьёзное или пустяк, – всё равно к бою. Невнятица последних недель осточертела. Нужна была ясность – в делах, в отношениях. На студии царил полнейший разор. Второй месяц не платили зарплату, был арестован счёт в банке, простаивали цеха. Единственный художественный фильм, запущенный в производство, ныне оказался без режиссёра, без оператора, без актёров на главные роли. В режиссёре усомнились, оператор уволился, актёрские пробы не утвердили. И более того, уже месяц, как на студии не было директора. Его сняли. А тот, кто временно исполнял его обязанности, был вот именно временно исполняющим и не хотел или не умел что‑либо предпринять.
– Так что же, что же за новость, Фаддей Фалалеевич?
– Приехали… Прибыли… Вот она какая новость… – Вахтёр цедил слова уголком рта. Он не только щурился на мир, он на него ещё и кривился.
– Новый директор?! – Леонид просто услышал в себе какой‑то стальной щелчок – так всё в нём изготовилось к бою. «Наконец‑то!»
Он шагнул к двери, но обернулся, придерживая шаг. Ещё чуть–чуть надо было повременить, ещё надо было, ну, что ли, усмехнуться изнутри, а уж потом… Он понимал: первый спрос будет с него—начальника сценарного отдела. Два готовых сценария давно были отклонены министерством, новых сценариев нет, деньги на сценарии израсходованы. А ну, любезный, давайте объяснения. А он не собирался давать объяснения. Он собирался сам спрашивать, негодовать, требовать.
– Итак, прибыл новый директор… Каков из себя?
Вахтёр широко развёл руки, шевеля толстыми пальцами и покачиваясь на толстых ногах.
– Ясно, – рассмеялся Леонид. – Солидный, представительный. Молодой?
Вахтёр продолжал водить руками и раскачиваться. Никак не давался ему образ нового директора, не находились слова. Он даже оба глаза приоткрыл на миг, отчего лицо его стало простоватым, а не умудрённым и саркастическим, как обычно.
– Не вьюнош, – наконец выискал он нужное слово. Покачался ещё чуть–чуть, что‑то высчитывая. – Так думаю, подполковником войну кончил.
– А я младшим лейтенантом.
– Так ведь оно и видно, – вахтёрский глаз всё не уставал буравить Леонида.
«Да, плохи мои дела». Леонид сильно толкнул дверь и вышагнул во двор студии. Сразу ослепило солнце. К этому солнцу невозможно было привыкнуть. Кончался сентябрь, а солнце тут ещё пылало такое, как в Москве в самый жаркий июльский день. Но и не такое. В Москве оно тебя расслабляло, угнетало, ты взмокал от этого жара. А здесь солнце сушило тело, будоражило тебя, будто наделяя звонкими и сухими шлепками. Это солнце добиралось до твоей крови, делая её горячей. И всё вокруг было сухим, горячим, закалённым зноем. Дотронься ладонью до стены – обожжёт. Леонид мучился от здешнего солнца и любил его. Оно было сродни огню, настоящему огню.
Заслонив глаза ладонью, Леонид двинулся через двор студии к одноэтажному длинному строению, где в ряд тянулись кабинеты многочисленного студийного начальства. И каких только начальников не было на этой, по сути, маленькой студии. И директор, и его заместитель, и вот начальник сценарного отдела, и начальники планового, сектора хроники, отдела кадров, и главный бухгалтер с целым выводком счетоводов и кассиров, и ещё кто‑то, и ещё. Да, был, конечно, и художественный руководитель студии, были и главный инженер, и главный механик. А студия тем временем почти не работала. Отличная, умно построенная, с вместительным съёмочным павильоном и с солнцем, которое не уставало светить по–летнему чуть не круглый год.
От шутливого будто бы разговора с вахтёром совсем стало прескверно на душе. «А, к чёрту всё! И к лучшему! Сейчас объяснимся, сдам дела – ив самолёт. Домой, домой! Хватит, оттрубил полтора года в этом пекле!»
Из‑под ладони Леонид оглядел двор студии. С ним здоровались, и он здоровался. Солнце мешало всматриваться в лица. Издали кивали друг другу, а что на уме, что в глазах – не видно. Так всё сверкает кругом, что глаз не видно.
Вспомнилось вдруг, как в первый раз шёл он через этот двор. Это было весной прошлого года. Так же вот бил фонтан посреди двора, так же сладковато пахло перегревшейся плёнкой. И нещадно жгло солнце, хоть только ещё начинался апрель. А ему было нежарко, он не замечал жары. Его даже знобило. Он шёл и чувствовал, что на него внимательно смотрят. Со всех сторон, множество глаз. В тот день во дворе было много народу, как, впрочем, и сегодня. И на него тогда смотрели. С надеждой. Все знали, что это идёт новый начальник сценарного отдела. Все дивились, что он так молод, но и радовались этому. Он был из своих, из киношников, ОН кончил киноинститут – все знали об этом. Он воевал – и об этом все знали. А кончилась война, он демобилизовался, и его послали из министерства на эту студию и сразу на очень ответственную работу. Значит, он стоит того, этот молодой парень. И на него смотрели с надеждой.
Как оно так выходило, что все кругом всё про него знали* и почему все радовались ему, – он об этом тогда не думал. Он был уверен, что это так, и всё тут. Да, он уверовал тогда в этот уют и в эту радость, даром что многое в его приезде на студию было от случая, а многое не радовало, если вдуматься, даже угнетало. Но он не вдумывался тогда, не желал вдумываться. Он просто шёл через этот заслеплённый солнцем студийный двор, смотрел на фонтан, громаду павильона, белые стены лаборатории, вдыхал в себя сладковатый запах плёнки, такой родной, вгиковский, и его знобило от странного чувства, которое, кажется, было тщеславием. Вот идёт по студии начальник сценарного отдела. Шутка ли! И все уважительно смотрят на него. Уважительно и с надеждой. Нет, его знобило не от одного только тщеславия, тут было и ещё что‑то. В нём разгорался уже рабочий азарт, он ещё по пути из Москвы начал разгораться, этот азарт, это желание сразу же схватить быка за рога, всё выправить, организовать, сдвинуть.
И вот прошло полтора года… Ну а сейчас как на него смотрят? Леонид не стал дознаваться. Один вахтёрский глаз чего стоил…
Секретарь директора, милая, полная дама, которую почему‑то все молодо звали Ксенечкой, едва завидев Леонида, панически вскинула к вискам полные руки, и вскинулась, заволновалась её полная грудь.
– Леонид Викторович, а вас ждут… – Как много можно сказать голосом, о скольком предупредить. Вибрирующий, грудной голос Ксенечки играл тревогу, подобно сигналу запрокинутого полкового рожка.
Леонид взял её руку и поцеловал. Ему нравилось быть этаким столичным, галантным. Нравилось быстрым шагом входить сюда и целовать руку секретарше, чтобы минутой позже быть невозмутимо правдолюбивым на совещании у директора да и с самим директором, если случалось им разойтись во мнениях. Леонид нравился в такие минуты самому себе и, ему казалось, другим тоже. Правда, всё реже он бывал таким, всё чаще заскакивал сюда уже в той стадии раздражения, когда не до любезности, не до показного лоска и игры в невозмутимость.
Сейчас он не пижонил. Он поцеловал руку женщине, признательный ей за сочувствие, так явственно прозвучавшее в её голосе.
Он даже сказал:
– Спасибо вам, Ксения Павловна. – Возле обитой клеёнкой двери он остановился, поморщился сам на себя: «Что за чушь, чего это ты оробел?» Он оглянулся на Ксенечку, весело подмигнул ей, а заодно и самому себе. – Как звать ярило?
– Сергеем Петровичем! – быстрым шёпотом отозвалась Ксения Павловна и замахала полной рукой, словно бы провожая в путь далёкий.
– Можно? – Леонид распахнул дверь и вошёл в кабинет. – Галь, сценарный отдел. Мне сказали, что вы меня ждёте.
Он двигался вдоль длинного стола заседаний, всматриваясь в человека, утонувшего в громадном кресле с высокой резной спинкой. Это кресло раздобыл на складе бутафории и велел поставить здесь один из восемнадцати, нет, теперь уже девятнадцати директоров, что сменились на студии за годы её существования. Директор тот явно тяготел к допетровской Руси. А письмён ный стол был тут от другого директора, влюблённого в ящики и замочные секреты времён императрицы Екатерины Второй. А ещё какой‑то директор обожал книги; Не самую премудрость книжную, а книжные роскошные переплёты. Два громадных шкафа, набитых разрозненными томами энциклопедии прошлого и нынешнего веков, были тому свидетелями. Бутафория. Как, впрочем, и столик, с четырьмя телефонами, из которых работал только один. Эти телефоны поставил тут директор за номером восемнадцать, деловитость которого явно недооценили.
Леониду стало весело. Он не сдержал улыбки: «Интересно, а девятнадцатый что сюда притащит?»
– Я вижу, вам весело, коллега? – Человек, утонувший в боярском кресле, наконец поднял на Леонида глаза. – А мне вот, читая эти бумажки, плакать захотелось. – На директорском столе внавал лежали папки документов, приметил Леонид и продукцию своего отде ла, аккуратно переплетённые сценарии, которые чуть было не начали снимать.
Директор поднялся, раскинул руки, потягиваясь. Во все глаза смотрел на него Леонид. Такого директора он УЖ никак не ожидал здесь увидеть. Солидный? Представительный? Из недавних подполковников? Всё это не приникало к человеку, вставшему сейчас перед ним, чтобы в свою очередь откровенно пристально рассмотреть его, Леонида. И чему‑то вдруг улыбнуться, чуть закосив синими глазами. Чему? Мальчишка, мол, перед тобой? Какой‑то встрёпанный длинноногий тип, по–киношному небрежно и пёстро одетый? Ну смотри, смотри. А сам‑то каков?
А сам он был вот каков… Лицо простецкое, нос уточкой, глаза маленькие, кругленькие, только тем и хороша, что синие, из глубины синие. Такая синева блёкнет сгодами, у этого не поблёкла. Сколько ему? Да лет уже сорок. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Крепок. Не очень высок, но строен, с прочно–сухими плечами, с тяжеловатой шеей. Из спортсменов? Из кадровых военных? А может, из артистов? Ничего про него не угадаешь. Да вот и лицо вдруг стало не таким уж простецким. Лукавый веерок морщинок у глаз, да и губы не по-простецки ужаты. Кто ты? Каков ты? Умён или глуп, простодушен или хитёр, зол или добр? Смотришь на человека, на его нос, лоб, плечи и руки, а думаешь про то, что у него сокрыто там, в голове, в сердце.
Леонид верил в свою способность с первого взгляда распознавать человека. Как‑то так выходило, что самонадеянность его ещё не была посрамлена. Случая ещё такого не представилось. И Леонид уверовал в свою прозорливость, в свой человековедческий талант. Глянет, прикинет, и найдена уже подходящая оценка. Но сейчас он и глядел, и прикидывал, а оценка эта самая всё не слагалась. Сбивало, путало, может быть, то, что УЖ очень хорошо, необычно хорошо был одет стоявший перед ним человек, а все‑таки с простецким лицом. Побивал в заграницах, в Германии там, марш–маршем прошёл по военной Европе? Так кто из нас не бывал, не ходил. Нет, чтобы так вжиться в крахмальную сорочку, такой подобрать галстук, такие туфли, запонки и чтобы не казаться при этом вырядившимся к празднику или вот ко вступлению в Директорство, надо было не солдатом проходить выучку в задымлённой Европе, а жить где‑то в благополучном, далёком от войны мире, жить там и год, и другой.
– Вы не из дипломатов к нам пожаловали, Сергей Петрович? Откуда вы такой?
Синие кружочки глаз сузились. И разом изменилось лицо, очерствело.
– Что‑нибудь знаете про меня?
– Только то, что вижу.
– Какой нибудь дружок из главка не отбил телеграмму: жди, мол, тогда‑то и такого‑то? Признаюсь, я хотел опередить подобные телеграммы.
– Я не Сквозник–Дмухановский, чтобы получать известия о прибытии ревизора. Мне бы поскорей сдать дела – и домой.
– Ясно. – Директор широко улыбнулся. Ну, черт его побери, миляга парень! Протянул руку: – Денисов. А вы угадали, две недели назад я ещё был в Канаде. Да, что‑то вроде дипломатической работы. Глазастый.
«Ага!» – Леонид крепко пожал протянутую руку, страшно довольный собой.
– Глазастый и быстрый. Заявление ос уходе уже подготовили?
– Нет. Но я могу хоть сейчас, – Леонид потянулся к столу за листком бумаги.
– Даже очень быстрый. Что ж, и я такой самый. Говорят, вы ладили с моим предшественником?
– Он не мешал мне работать.
– Не вмешивался?
– Не мешал.
– Кстати, почему отклонили ваши два сценария?
– В главке, по–видимому, вас уже информировали?
– Конечно.
– И вы с ними согласились?
– Я ещё не читал сценариев.
– Будете читать?
– Обязательно.
– Моё мнение: оба сценария могли бы жить. Но… один показался образцом мелкотемья – какие‑то ребятишки, какие‑то подземные колодцы. Я говорю о «Подземном источнике». Вот он, – Леонид взял со стола сценарий. полистал его. – А во втором усмотрели гигантов манию. Сценарий о Каракумском канале. – Леонид взял другую папку, заглянул в неё. – Честное слово, хороший был сценарий. С мечтой. Как это говорят, дерзновенный.
– А вы хоть спорили?
– До хрипоты. На министерскую коллегию даже прорвался.
– И что же?
– Простили по молодости лет. Или нет, не простили? Всё дело в том, что строительство канала перестали проектировать. Законсервировали проект. А я с этим сценарием лезу. Бестактность, если только не дерзость. Один мой знакомый старшина говорил…
– Старшины – народ остроумный, это известно. – Директор отошёл от Леонида, прерывая разговор, и снова пристально глянул на него, теперь уже издали, как бы общим планом, вобрав в свои синие кружочки всего его – худющего, длинного, большеглазого, пёстро, по-киношному, одетого с помощью барахолки: рыжие башмаки– чуть великоватые, синие брюки – чуть маловатые, рубаха – жарче, чем надо бы, но зато с «молнией», роговые очки от солнца, небрежно зацепленные дужкой за пояс, действительно отличные очки, предмет зависти всей студии, жаль только – с треснувшим одним стеклом. Что ещё вошло в этот общий план, что там ещё понял про него директор, этого Леонид знать не мог. Но, кажется, что‑то такое понял, такое, что даже заставило покраснеть. Вот кто глазастый‑то! – Знаете что, давайте‑ка попробуем поработать вместе. – Денисов проговорил это от двери, отворяя её, спиной к Леониду. – Решено?
Леонид машинально наклонил голову, хотя Денисов никак не мог его сейчас увидеть.
– Вот и отлично! – Дверь настежь. – Входите, входите, товарищи!
Леонид шагнул было к Денисову, чтобы объясниться, чтобы тот поверил в его искреннее желание уйти со студии, понял бы, как ему опостылела эта работа впустую. И если он остаётся, так только потому… Куда там! В кабинет уже гурьбой входили большие и маленькие студийные начальники. Предстояло совещание. По технике, судя по тем, кто пришёл.
Леонид кивнул Денисову, опять в его спину, и вышел из кабинета.
– Ну как?! – вскинулась Ксения Павловна.
– Остаюсь, – устало сказал Леонид. – Зачем‑то там я ему нужен.
– Слава богу, слаьа богу! – Ксения Павловна быстро перекрестилась, небрежно, словно в шутку – так крестятся верующие, стыдясь на людях признаться в своей религиозности.
– А вам я зачем нужен, Ксения Павловна?
– Да так… – она улыбнулась ему издалека, грустно, как бы в себя заглянула. – Все‑таки интеллигентный человек…
Леонид остановился. Подойти, снова поцеловать ей руку, поблагодарить – не за слова, нет, за голос, за доброту! Он вдруг увидел себя со стороны, хлыщеватую свою походочку, какой подойдёт к ней, изогнувшегося себя, когда приложится к руке, – шутовство, ведь все это шутовство! – и стал сам себе жалок. Как и там, только что, за свои мальчишеские кивки в спину. Насколько же этот Денисов взрослее его, сильнее…
– Вы чем‑то потрясены? – участливо спросила Ксения Павловна. – Вы какой‑то сам не свой! Что с вами?
– Потрясён?.. – Он оставался верен себе: есть возможность сострить, надо воспользоваться этой возможностью. – Правильнее сказать, сотрясён, ибо все мы сотрясаемы в этом сейсмическом поясе.
Теперь можно было уходить, и он ушёл, как триумфатор подняв руку и презирая себя за это неискоренимое в себе позёрство.
2
Снова двор студии с просто уже озверевшим над тобой солнцем. Пойдёшь направо – придёшь в свой отдел, где томятся две девушки–редакторши, которым совершенно нечего делать и которым надо придумать это дело. Пойдёшь налево – там душевая, там можно обжечь себя холодной струёй, а потом сразу замёрзнуть и забыть на миг, где ты, позабыть вообще обо всём, слыша лишь всполошившееся сердце, словно стучащее в тебя кулаком: «Опомнись! Опомнись! Так нельзя жить!»
А прямо пойдёшь – в павильон придёшь, в пустынный, прохладный, как покинутый храм. Даже с хорами, откуда остекленело таращатся прожектора, до поры затаившие свой огонь. Католический храм, полонённый бесами.
Он пошёл прямо. Захотелось побыть одному, даже, может быть, вслух поговорить с самим собой. В пустом зале всегда тянет заговорить. Громко и значительно. Про главное. Самому себе сказать речь. Одну из тех, что слагаются по ночам и никогда не произносятся вслух. А как бы хорошо произнести такую речь вслух. Хоть в пустом зале. Говорить и слышать свой голос. Прозвучавшее слово куда больше значит, чем сказанное внутри тебя. Звук выверяет правду этого слова, правду и смелость всей твоей мысли.
«Пойду и выкрикну сейчас все про себя. – Леонид усмехнулся. – Буду кричать и слушать, что посоветует мне этот крик. Войду и громко спрошу себя: дорогой товарищ, что собираешься ты делать в ближайший год, два, три? И вообще, кто ты и на кой черт родился, дорогой товарищ!»
В громадных воротах в павильон была маленькая дверца, и Леонид отворил её, нетерпеливо запнувшись о порог. Так идёт к трибуне оратор, спеша выкрикнуть в зал какие‑то самые сокровенные слова, идёт, запинаясь, перегорая от волнения, с каждым шагом теряя мужество и самые эти сокровенные слова.
Но в павильоне, увы, горел свет. В дальнем углу, где стоял рояль, виднелись люди. Обвинительная речь откладывалась…
Леонид двинулся на свет и на звук: какая‑то женщина пела под рояль слабеньким, перепуганным голосом. Слова были неважны в этой песне, важен был молящий звук в голосе, он был понятнее слов. Он пел, замирая от страха, всякий миг готовый заплакать: «Возьмите меня, я талантливая, я миленькая, правда ведь миленькая, возьмите меня…» Вот что пел этот молящий звук, о чём твердил под бойко–рассыпчатый аккомпанемент.
– Возьмите её, она талантливая, – ещё издали, ещё не видя, о ком идёт речь, весело сказал Леонид.
– А что? А ведь верно? Гляньте‑ка, разве это не Зульфия?
У рояля, оказывается, пребывал сам художественный руководитель студии. Он и его жена – аккомпаниатор и ещё тоненькая, с прижатыми к груди руками девушка, застывшая в таком сейчас страхе, что на неё смотреть было больно. Да и незачем. Отойдёт, и совсем иное станет у неё лицо, даже иной станет фигура.
– Зульфия? – переспросил Леонид, удивлённо глянув на худрука. – Итак, Александр Иванович, вы решились?
– Решился, мой дорогой, решился. Новый директор, знаете ли, обаял меня и улестил за какие‑нибудь десять минут. Вам же ведомо, как я слабохарактерен…
Громадный красивый старик, седой и кудрявый и, как черт, хитрющий, всё лукавилось в нём – глаза, губы, голос, хотя старик‑то думал, что являет одно простодушие, – громадный этот старик сжал в могучих своих лапах Леонида и привлёк к груди, чтобы лишний разок показать, как мал и хлипок в сравнении с ним этот будто бы высокий, стройный молодой человек. Леонид знал слабости своего худрука, его главную слабость: не признаваться, что старится, а посему откровенно хвастать силой, статью богатырской, знал и охотно подыгрывал старику, потому что любил его. За эту самую стать, силу, за невозмутимейший в мире характер, даже за его лукавство.
Они постояли обнявшись, Леонид не противился, когда старик больно стиснул ему плечи, а затем приподнял, будто маленького, – все согласно намеченной программе демонстрации негаснущих сил.
– Ну как, беседовали с новым? – Александр Иванович отпустил его, повёл поближе к горевшей в углу лампе. – Ну что? – Он спрашивал, стараясь приглушить свой победный бас, но это ему худо удавалось. Как обычно, когда рядом была жена, он секретничал так, чтобы и она была в курсе дела. – Имейте в виду, я охарактеризовал вас самым лучшим образом.
– Я остаюсь, – сказал Леонид. – Он предложил мне остаться.
– Да ну?! – Изумление и радость худрука были вполне искренними. – Клара, ты слышишь?! Галь остаётся, они поладили с Денисовым!
– И чудесно, чудесно, – вялым голосом отозвалась жена Александра Ивановича. – Прежде всего Леонид Викторович не чужой нам человек.
– Прежде всего я интеллигентный человек, – сказал Леонид и потянул за руку Александра Ивановича назад к роялю. – Продолжим наш разговор здесь, чтобы не кричать. Да, я остаюсь. Да, я буду помощником. Итак, вы… – Он поглядел сперва на худрука, потом на его жену, не молодую и не старую, не красивую и не уродливую, а властную – это было главным в ней, главным в этой маленькой, худенькой женщине. Леонид посмотрел на них обоих, как бы объединяя в одно целое, чтобы в дальнейшем с этим целым и вести разговор. – Итак, вы согласились доснимать фильм?
Ответила жена:
– Не доснимать, а снимать почти заново.
– Но ведь в Москве вы наотрез отказались.
Ответил муж:
– В Москве не было ещё Денисова. Мне только обещали энергичного директора, но я не знал, сколь основательно это обещание.
Добавила жена:
– Я видела его, он производит самое благоприятное впечатление.
Добавил муж:
– Я просто влюбился в него. Ну а вы, вы, Леонид Викторович? Признаюсь, я побаивался за вас. Рассказывайте, как и что у вас было?
– Рассказывать почти нечего. Сдаётся, он уже во всём разобрался сам. Немного послушал меня, предложил остаться. Я кивнул. Вот и все.
– «Вот и все!» Слыхала, Клара?! А я тут трясусь за него, мысленно готовлю протест: мол, без Галя я как без рук. Нет, дорогой мой, недаром вас по батюшке Викторовичем величают. Виктор! Виктория! Вы из тех, кому улыбается удача. – Леонид видел, старик рад, искренне рад, что так все хорошо обошлось, что не понадобится привыкать к новому человеку – какой ещё будет? – ас ним, Леонидом, старик ладил и даже Клара Иосифовна ладила, что тоже имело немаловажное значение. Но был ли рад старик просто так, по–человечески рад за него, за Леонида Галя, которого вот не погнали с позором, как несправившегося, – этого Леонид углядеть не мог. Симпатичнейший ему Александр Иванович все ж таки был лукав. И потом, может быть, старости свойствен этот откровенный эгоизм, это самообережение, которого нет ничего на свете важнее?
Тоненькая девушка – о ней забыли – все так и стояла с прижатыми к груди руками, с перепуганным чужим лицом. Она все слышала, но вряд ли что‑либо поняла. Она только ждала: вот сейчас прервётся этот непонятный разговор и её впять начнут экзаменовать. Она уже и не рада была, что согласилась попробоваться на роль в кинокартину. Куда ей! Здесь все так страшно, так непонятно. Мечта, далёкая, несбыточная мечта стать артисткой, сейчас, здесь, отодвинулась от неё ещё дальше, в ещё дальшее небытие.
Леониду стало её жаль. Ему захотелось протянуть руку и погладить её, как девочку, по головке. Да у неё и причёска была девчачья: две тугие с бантиком косицы. Он решил её выручить. Он вдруг качнулся к ней, будто поражённый увиденным.
. – Ну конечно же, конечно, это она! – вскричал он таким восторженно–кликушеским голосом, что сам себе изумился. – Это она, Зульфия! Александр Иванович, вы нашли то, что нужно! Поверьте, я никогда не был так убеждён! – Он все же унял немного голос под пристальным взглядом Клары Иосифовны. – Конечно, понадобится работа, но главное есть. Ведь Зульфия в сценарии не разбитная, как это кое–кому кажется. Она вся собрана из множества «вдруг». Она сама не знает, что взорвётся в ней через мгновение. Тишина ли, озорство ли, песня, может быть. Она во власти этого «вдруг»… – Леонид явно увлёкся, он и сам был во власти этого «вдруг». И вот «вдруг» вспыхнувшее в нём желание помочь этой перепугавшейся страшно девочке теперь уже было его убеждением. – Поглядите на неё, вот даже на такую, какая она есть сейчас, а сейчас она просто–напросто напугана. И все же… – Он исполнил своё желание, протянул руку и коснулся её тугих, блестящих волос, девчачьего посреди пробора. И услышал под пальцами дрогнувшую, как у зверька кожу. Он отдёрнул руку, смутясь, опомнившись. – И все же…
– Так, так! Да, да! – Александр Иванович с величайшим наслаждением внимал словам Леонида. И смотрел, смотрел на сжавшуюся девушку, как смотрят на картину, толкуемую знатоком. – Удача, удача, и я так думаю. А знаете, ведь это Клары Иосифовны находка. Надо же, доброе, доброе предзнаменование. Подумайте‑ка, только я дал согласие ставить этот разнесчастный сценарий, только успел зайти в свой кабинет, как звонит Клара Иосифовна. «Ну, ты, конечно, согласился, конечно, пал ниц перед этой сильной личностью?» – «Угадала, – отвечаю. – Согласился. Приезжай, я вас познакомлю. Именно. так, сильная личность». – «Хорошо, еду, и не одна, а с ‘Зульфией». Представляете, ещё ничегошеньки не было решено, а она уже нашла для меня эту вот мою Зульфию. – Старик по праву, данному ему возрастом, наклонился и чмокнул девушку в щеку. Помедлил и ещё раз чмокнул.
– Ну, ступай, Марьям. – Клара Иосифовна, призывая мужа к порядку, сухо хлопнула в ладони, словно выстрелила из дамского пистолетика. – Дело сделано. Мой супруг даже переусердствовал в своём восхищении. Ступай, ступай, теперь все зависит от тебя, от этого обнаруженного в тебе «вдруг», – Она обернулась к Леониду: – А вы это угадливо сказали, Леонид Викторович. Понять, что Марьям вовсе не брёвнышко, каким она стояла да и стоит сейчас перед нами, для этого немалая нужна зоркость. Поздравляю вас.
– Ну, он чудо, чудо! – пробасил Александр Иванович и снова по праву старика, а теперь уже и режиссёра, чьи права безграничны, чмокнул в щеку застывшую Марьям.
– Ступай же, тебе говорят! – прикрикнула на неё Клара Иосифовна.
Назревала сцена ревности, надо было выручать девчонку.
– Пойдёмте, я провожу вас, – Леонид взял её за руку. – Проснитесь же!
Она взглянула на него. Господи благослови, какие у неё были глаза! И никакого испуга в них. Человечек будто бы обмер от страха, а глазищи у этого человека такую внутри притаивали весёлость, такую бедовую, бесшабашную смелость, дерзость даже, что Леонид, изготовившийся к роли покровителя, опешил.
– Пойдемте… – это теперь она позвала его тихим, трепещущим голосом. И пошла, низко опустив голову, сторонкой обойдя могучего старика, благодарно поклонясь Кларе Иосифовне, робко цепляясь за руку Леонида. О женщины!
– И пожалуйста, Леонид Викторович! – смягчившемся голосом крикнула Клара Иосифовна. – Пожалуйста, поглядите, этот невероятный диалог в сценарии! Сомневаюсь, чтобы актёры смогли его произнести…
3
Они вышли из павильона, ослепли, быстро загородились руками от солнца, а потом смеясь поглядели друг на друга из‑под ладоней, как два заговорщика.
– Притворщица, кто ты?
– Я не притворщица. Я сперва очень испугалась. У меня ведь никакого голоса. Но я люблю петь, святая правда!
– А потом, когда ты посмотрела на меня, тебе все ещё было страшно?
– Нет, что вы! Я уже знала, они меня берут. И вы мне помогли. Спасибо. Очень милый этот старик, знаете ли. Но… бедная Клара…
Она на редкость правильно говорила по–русски, разве только чуть–чуть протягивала иные слова, нежданно открывая в них и ещё какой‑то затаённый образ. Она проговорила «спасибо» —и длинное «с» и длинное «о» вернули этому слову его изначальный, утраченный смысл: спаси бог… Она проговорила «знаете ли» – и Леонид услышал, как сплелись вопрос и утверждение, бесконечно поширив это «знаете ли». А когда она протянула «бедная Клара…», Леонид просто ахнул, о стольком сразу подумалось. И верно, легко ли этой маленькой, болезненной женщине владычествовать над своим кудрявым бурлаком? Да и владычица ли она?..
– Вы о чём‑то задумались?
– Говорите, говорите, мне очень интересно вас слушать.
– То «ты», то «вы». На чём остановимся?
– Мне бы хотелось на «ты»!
Они переглянулись, прошли несколько шагов не отводя глаз, так глядя друг в друга, как глядят, когда пьют на «ты».
– Говори, говори… Мне очень интересно тебя слушать…
– Что ты, я совсем не умею разговаривать. Я ведь училась чему‑нибудь и как‑нибудь. Святая правда!
И вот ещё эта «святая правда!», это присловье, кстати, много раз и недавно слышанное, но и как бы заново услышанное только сейчас. «Святая правда!» – какие действительно громадные два слова, если их говорят тебе, самозабвенно выпрямившись и ширя и без того огромные глаза, в которых, как по заказу, вспыхивает святость. На миг, правда. И уже иное в них. Смех? Издёвка?
– Ох и трудно же мне с тобой будет! – Леонид изобразил ужас на лице. – Святая правда! – сказал вслух и тотчас вспомнил, кто этак же несерьёзно, балагуря, любил поминать святую правду.
И мигом остыл к идущей рядом с ним девушке. Вон это кто! Здесь всё было непростым, не для шуток, это другого шла судьба, всерьёз судьба. Он знал, оказывается, эту Марьям, был наслышан о ней. Её любил его приятель Володька Птицин. И вот из‑за неё, из‑за этой маленькой балеринки, понаделал он множество безрассудств, бросил жену, остался ныне без работы.
– Почему я вас никогда раньше не видел? – спросил Леонид, останавливаясь. Они как раз подошли к студийному фонтану. – Ну хотя бы в брызгах «Бахчисарайского фонтана»?
– Ага, вот вы и догадались, кто я. А потому, что я не хотела, чтобы вы меня увидели. Я запретила Володе. У вас злой язык. И вовсе я не в «брызгах», а давно уже солирую.








