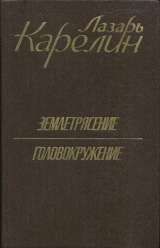
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Ну, вставай, герой, – сказал Туменбай. Это он оттащил Костю от пропасти и теперь лежал рядом с ним. Туменбай вскочил, помог подняться Косте. – У нас в горах так не шутят, друг.
– Ничего бы не случилось, – сказал Костя. – Я как раз собирался отшагнуть. – Он прислушался: только сейчас пришёл из глубины отклик от упавших на дно камней.
– Уж больно ты подозрительно качнулся, – сказал Григорий. – Я прямо обмер. С таким‑то наследством– и падать в пропасть. Туменбай, ты спас жизнь наследному принцу. Требуй награды, Туменбай.
– Жаль, что не было у нас бутылки с вином, – насмешливо сказала Ксана. – А то бы, как Пьер Безухов на подоконнике. Глупо! – Она пошла к машине. – Вот что, поехали домой!
Да, глупо! А все‑таки, а все‑таки он сумел подойти к самому краю.
Весь спуск разговаривал в машине только Григорий. Он вдруг вздумал дать Косте урок автомобильной езды.
– Как пускать машину – этому ты обучишься за две минуты, а вот как вести её, да ещё если не по прямой российской дорожке, а по нашему серпантинчику, – вот это дело не простое. Приглядывайся, теперь ты не пассажир, теперь у тебя машина. Пассажир всю жизнь рядом с водителем проведёт, а ни одного знака, ни одного движения не запомнит. Ему это без надобности. Но вот начал пассажир копить денежки на машину – ч не узнать человека. Все‑то ему объясни, все‑то покажи. Ещё до машины ему пять лет тянуть, а он уже заядлым стал автомобилистом. Твой случай, Костя, посложнее. На тебя машина с неба свалилась. Ты ещё не очухался. Малость обалдел даже. К пропасти вот стал кидаться. Радость – чего только она с людьми не творит. Ну ладно, обойдётся, привыкнешь. А теперь смотри…
Григорий уселся попрямее, построже, инструкторскую на себя напустив серьёзность.
– На руки, на руки смотри.
А за спиной безмолвствовали. Наверное, они сидят сейчас, взявшись за руки. Оглянуться бы, но нет, теперь Костя не мог на это решиться.
– Руки должны лежать на руле легко, свободно, – сказал Григорий. – Чутко лежать. Вцепился в баранку, и руль потерян, перестал его слышать. Усвоил?
Костя кивнул.
– Потерял, не слышишь руль, – потерял, не слышишь и машину. А в том‑то и суть, чтобы ты был вместе с машиной, слился с ней, как с любимой девушкой. Ясно? Усвоил?
– Да, – кивнул Костя.
– Опыт по этой части имеешь?
– Да, – кивнул Костя.
– Что – да? Эй, парень, а ты меня не слушаешь!
– Нет, я слушаю. В том‑то и суть…
– В чём?
– Ну, в руках…
– Ладно, пошли дальше. Теперь на ноги смотри. Смотришь?
– Да.
– Ногам волю не давай, помни о них. Особенно о правой. Нога может струсить по собственной дурости. Струсит и тормознёт. И хана! При спуске тормозить – хуже нет. Надо ровно идти, чтобы не занесло. Ровно, понял?
– Да, – кивнул Костя.
Но если он посмел шагнуть на край пропасти, так неужели не хватит у него решимости оглянуться? Просто оглянуться, как оглядывался, когда ехали вверх. И спросить, вопрос какой‑нибудь задать. Только и всего. Нет, он не мог оглянуться, не решался.
– О чём ты думаешь?
– О дороге.
– Ладно, допустим. Про дорогу и поговорим. Главное, как проходить поворот. Тут, конечно, многое от характера водителя зависит. Но для начала, Костя, надо все делать по правилам. Во–первых, помни о покрытии. Асфальт – одно дело, гравий, камушек, – другое. И помни о боге, чем он нынче нас порадовал. Дождь, снег, гололёд – все это диктует свою езду. Понятно, со временем автоматизм вырабатывается, но сперва…
– Гриша, ты про ветер забыл, – сказала Ксана. – Особенно в горах. Особенно на поворотах. Обязательно, Костя, надо учитывать силу ветра.
Он оглянулся. Он был признателен ей за её доброту. Ведь она могла промолчать до самого города.
И счастьем было, что Туменбай сидел поодаль от неё, уткнувшись в угол. Похоже, он даже подрёмывал, глаза у него были так узко прорезаны, что не поймёшь, что там, за этими прорезями.
– Слава богу, подала голос! —сказал Григорий и вдруг утратил интерес к автоинструкторским наставлениям. – Приглядывайся, Костя, а я помолчу. Тут спуск не из лёгких, тут не до разговоров.
Они проехали пятачок с шашлычной. Музыкантов там уже не было. Наверное, сразу же покатили в город. Вечером им предстоял концерт. Нарядные, сияющие, жизнерадостные выйдут они на сцену. Правда, актриса будет петь и грустные песни, но это будет грусть возвышенная. Костя решил не ходить на этот концерт, если даже Лукьян Уразов и достал для Анны Николаевны билеты. Да что там этот концерт. Иное решение почти вызрело в нём, серьёзное решение. Вот приедут в город, вот попрощаются, пожмёт он Ксане руку, поглядит на неё ещё разок – и все, прощай, Ксана, совсем, навсегда, на веки вечные. Будто тебя и не было, и этого города не было, и этих гор. Всё приснилось. А есть ли на Москву вечерний рейс? Хорошо бы, если бы был. Костю пугала ещё одна ночь в дядиной комнате. Пугали эти присматривающиеся к нему глаза чужих вещей. И присматривающиеся глаза Лизы. И присматривающиеся глаза Анны Николаевны. Разговор с ней. Зачем? Всё показалось бессмысленным, тягостным.
За спиной опять воцарилось молчание, и опять у него не было решимости оглянуться.
12
Говорят: «Человек предполагает, а бог располагает». Бог ли, случай ли, – а что такое случай, про это учёные люди толкуют разное, – но только события дальше пошли совсем не так, как хотелось бы Косте, как он сам с собой порешил. Думалось, вот простится с Ксаной и – в путь, а очутился в доме у Ксаны, где его уже загодя ждали и где уже был приготовлен обед, чуть ли не специально в его честь.
Въехав в город, Григорий даже не стал спрашивать у Кости о его планах. Согласно выработанному Уразо–вым–старшим сценарию, Косте надлежало нынче отобедать у них. Григорий действовал по сценарию.
Правда, Туменбай не был включён в этот сценарий, но тут уж Григорий ничего поделать не мог. Тут Ксана вмешалась. Она не отпустила Туменбая, когда он хотел сойти по дороге. Узнав о плане родителя, она свой собственный наметила план.
– Обед, говоришь? Вот и чудесно, я давно собиралась позвать Туменбая к нам в дом. Нет, нет, Туменбай, прошу тебя, не спорь.
Что ж, так даже получалось интереснее. Григорий, посмеиваясь, вёл машину через город. Планы отца были и его планами, но Григорий не любил скуку, а обед в отчем доме обещал теперь стать не из скучных.
Подъехали к дому. Он был у Уразовых такой же, как и у Лебедевых. С улицы такой же. Высокий дувал почти вровень с домом, прочные, без щёлочки ворота, небольшие окна на улицу, да ещё приуженные ставнями, деревья за дувалом, много деревьев, сливших свои пышные кроны. Там был сад, большой, должно быть. И туда, вовнутрь этого сада, и была обращена жизнь дома, надёжно сокрытая от посторонних глаз. Европейцы вот и снова устроились здесь на азиатский манер. Спору не было, так жить в этом жарком городе было удобнее, чем, скажем, вон в тех новых домах с пропечёнными солнцем стенами. Там, в жару, есть ли спасение? А дом Уразовых подманивал тенью, прохладой, журчанием воды. Костя приготовился к чуду, к такому же, как и в доме тётки, где этот внутренний сад, заплетённый лозой, поразил его. И Костя вовсе не сетовал сейчас, что кто‑то действует наперекор его собственным планам. Главным, ведь главным было принять решение. А он его принял. Он – уезжает. Если есть рейс и если успеет, – сегодня же. А нет, так завтра. Это – главное. А когда все решено, то можно и помешкать чуть–чуть. Пусть этот сон ещё продлится немного. Ксана, её дом, этот город, эти горы, – пускай это все ещё продлится. Даже хорошо, что так вышло. Ведь решено, он уезжает.
Лукьян Александрович с первых же мгновений отдал своё внимание и радушие Косте. Он был приветлив и с Туменбаем, но Косте Уразов–старший чуть ли не являл свою родственность, а Туменбай был для него всего лишь соучеником дочери, и не более того.
И тотчас соответственно повела себя Ксана: все внимание она отдала Туменбаю, а Костю попросту перестала замечать.
Что ж, помня, что он ещё сегодня, ну, завтра уедет из этого города, помня, что он прощается сейчас с Ксаной, всё время помня об этом, Костя какое‑то даже утешение находил в том, как она обходится с ним. И он не ожесточался, а как бы со стороны смотрел на все происходящее. И ясно видел, как весь обширный дом Уразовых разделился сейчас на две части. Там, где находились Ксана и Туменбай, там было так, как на старинных картинах, там было высвечено, туда, неведомо откуда, падал добрый, мягкий, счастливый свет. Но туда ему было нельзя. А там, где он находился, всё время ведомый куда‑то Уразовым, там, как на тех же старинных картинах, краски были пригашены, жила неясность, было сумрачно и печально. И невозможно было выйти из этого сумрака и печали, Уразов крепко держал его под руку, водя от картины к картине, – а дом его был весь увешан картинами, в старинных, тяжёлых, позолоченных рамах. Люди на этих картинах были громоздки, жирны, они поглядывали косовато и с хитрецой. И чванились своими нарядами, золотыми цепями и перстнями, выписанными любовно, тщательно, чуть ли не с подобострастием.
Лукьян Александрович, гордясь, произносил имена художников, которые ничего не говорили Косте, а часто Лукьян Александрович и сам не знал имён творцов этих полотен, называя лишь школы, к которым, как ему думалось, они принадлежали.
– Из рубенсовской конюшни картинка, его, его ученика. Умели в те времена писать женское тело. Просвечивает, живёт. – Лукьян Александрович был рад случаю потолковать о своей коллекции. – Не малых денег мне стоила эта толстуха, скажу тебе, Костя. Не жаль. На картины не жаль. Да они и не дешевеют, картинки-то. Напротив.
– Наилучшее помещение капитала, – бесстрастно молвил Григорий. Не понять было, поддерживает он отца или спорит с ним.
Лукьян Александрович решил, что спорит. Похоже, давний это был спор.
– Да, помещение капитала! – сразу же осерчал он на сына. – Если не видишь в этом искусства, то разгляди хоть деньги. Не тряпки, не побрякушки, а ценности, и даже потвёрже, чем твоя валюта.
– Согласен, не спорю, – миролюбиво заметил сын. – Да только мне бы живых деньжат…
– Погоди, все твоим будет! Устроишь аукцион! – Лукьян Александрович рассердился не на шутку. Да и Григорий, хоть и пытался сохранять миролюбие, упрямо наклонил голову. Давний, давний возник у них спор. Но не при гостях же его продолжать…
– Смотри‑ка, Костя, какие плоды, какие утки, какова снедь да посуда! – Уразов повлёк Костю дальше вдоль стен. – Все собираюсь в столицу свезть эти натюрморты, к специалистам. Хочу дознаться, не великих ли мастеров под своей крышей держу.
– Так ведь вы же сами художник, – сказал Костя.
– Скульптор. Да, я, конечно, вижу, угадываю кисть, но кто тут кто – про это и не всякий искусствовед скажет. Потому‑то художнички во всём мире на подделках и наживаются. Картина и подписана, а не верь глазам своим. Иное же полотно безымянно, а оно‑то – бесценный клад.
– Совсем как в спортлото, – сказал сын. – Игра втёмную.
– Болтай!
– А где же эти картины берутся? – спросил Костя. – У вас тут прямо музей.
– Музеи так и возникают. Картина к картине – вот и собрание. – Уразов оглянулся, шутя будто погрозил мясистым пальцем сыну. – Смотри, сын, возьму да и откажу все местному музею.
– А не жаль будет? – спросил Григорий.
– В том‑то и дело, что жаль. А надо бы. – Уразов снова занялся Костей.'– Вот эту женскую головку итальянской школы я совсем в глухом углу нашёл, в районном у нас тут городке, у одной дряхлой старушки. Как уж эта картинка залетела в наши горы – этого и старушка не знала. Или забыла, может быть. Все твердила: «Память, память!» За «память» пришлось лишнего переплатить. Школа‑то угадывается, но мастерства не видно.
– А вдруг это и есть тот клад бесценный, – сказал Григорий.
– Заветные те шесть цифр! – насмешливо подхватил отец. – Нет, Гришенька, в спортлото я не играю. Для ленивых мозгов игра. А вот здесь у меня, Костя, два полотна Айвазовского. – Уразов ввёл Костю в просторную комнату с большим, в полстены, окном, за которым близко встали снежные вершины.
Если бы Уразов не предупредил Костю, что собирается показывать ему Айвазовского, то Костя принял бы эти горы в окне за картину. Удивительна и прекрасна была эта картина. Не надо было быть специалистом, ценителем, чтобы понять это, чтобы вздрогнуть от радостного изумления перед этим окном в небо и горы.
– Повесил в самой светлой в доме комнате, – сказал Уразов. – Нарочно такое окно заказал во всю стену. Люблю Айвазовского. Старомоден, говорят, монотонен, толкуют. Я это все мимо ушей. Люблю!
Наконец Костя увидел два больших полотна на противоположной окну стене. Уж как старалось солнце для этих полотен! Да и художник был прилежен, выписывая свои волны, гребни, гребешки и брызги морские. Пожалуй, картины были и не так уж плохи. Но не повезло им, их затмили эти снежные горы в окне, строгие, неприступные и словно бы близкие. Костя знал теперь, что до них далеко. А они были рядом, опять рядом. И верилось, что они рядом, хотя помнилось, что это не так. Не повезло Айвазовскому.
– Мне эта картина больше нравится, – сказал Костя, кивнув на окно.
– Эх, милый! Так то природа. – Уразов задумался. —Пожалуй, а ведь, пожалуй, полотна не на месте. Костя, а ведь ты прав. Молодец, ну, молодец! Как думаешь, натюрмортам здесь не лучше будет? – Лукьян Александрович советовался с Костей, всерьёз советовался и даже пояснил почему: – Свежий глаз может иногда так подсказать, как никакой специалист не сумеет. Что скажешь, Костя? Как порешишь, так и сделаю.
Костя ещё раз глянул в окно. В комнате было душно, только форточка была приоткрыта. Там же, за окном, в лёгком, угретом воздухе зеленели, розовели, искрились виноградные гроздья. Если распахнуть окно, до них можно было бы дотронуться рукой. За стеклом же они были как на картине. Пожалуй, итальянской как раз школы. Тёплый, розовый виноград, живое небо, близкие и далёкие горы. И опять эта картина, сотворённая природой, оказалась победительно лучше, чем натюрморты из уразовской коллекции.
Лукьян Александрович проследил, на что смотрит Костя, и все понял:
– Согласен, эта комната не для картин. Даже и для хороших. Окно подводит. Уж очень завидный в оконце этом вписан мир. Вицоват. – Уразов уважительно разглядывал Костю. – Смотри‑ка, ткнул носом. Тем только могу оправдаться, что зимой все затевал. Зимой в это окно даже и горы не часто заглядывают. То туман, то дождичек. Решено, отдам эту комнату своим вазам. 51 ещё вазы, Костя, собираю. Малахит, яшма. Пойдём, покажу.
Они вернулись в комнату, где были Ксана и Туменбай. О чём‑то они разговаривали. Разговор был серьёзен, они не улыбались. Ксана просила о чём‑то, Туменбай не соглашался. Попросила бы так она Костю, так вот, сведя ладони, Костя не сумел бы отказать. Все бы сделал. А Туменбай не соглашался, он терпеливо слушал, опустив руки, и не соглашался. Его несогласие жило в упрямом наклоне головы, в окаменелой твёрдости сухих плеч.
Увидев отца, Ксана умолкла, быстро заведя просящие руки за спину. Как девочка, которая что‑то прячет от родительских строгих глаз. И Туменбай хоть и помедленнее, но тоже распрямился, разжал плечи. Пожалуй, только Костя успел заметить этот трудный разговор. Приметлив был он сейчас, все замечал. Ведь он прощался.
– А не приступить ли к обеду… – сказал Григорий. – Жрать хочется.
– Мой брат счастливейший из смертных, – сказала Ксана. – Он всегда знает, что ему хочется. А ты, Туменбай?
– Иногда знаю.
– Сейчас знаешь?
Их трудный разговор возобновился, но теперь он шёл на людях и потому снова стал потаённым, как там, в машине.
– Знаю, – сказал Туменбай и потянулся глазами к двери.
– Только‑то? – Ксана, жалеючи Туменбая, покачала головой. – А как это называется?
– Ребята, перестаньте вы шептаться! – досадливо вырвалось у Григория.
– Мы говорим громко, – сказал Туменбай.
– Чуть что не кричим, – сказала Ксана. – Костя, вы нас слышите?
– Да.
– Ну вот, чего же тебе надо, мой придира–брат?
– Люблю ясность.
– Есть тебе хочется – вот и злишься. Папа, давай нарушим традицию, и ты покажешь гостям все свои сокровища после обеда. Твой наследник оголодал, а он в голоде страшен.
– Хорошо, согласен. Но с матерью‑то надо Костю познакомить. – Лукьян Александрович вдруг помрачнел, напрягся, трудно задумался, сжав в руке свою поповскую бороду. Только что был весел и всем доволен человек, картинами своими вот похвалялся, домом, – и вдруг слинял, померк, постарел. И Ксана тоже будто вздрогнула, чего‑то испугавшись. Иной заботой зажило её лицо. Потрудней была эта забота, чем та, какую подметил Костя. Даже Григорий впал в уныние, понурился. Что с ними со всеми?
– Да, да, – сказала Ксана, решаясь. – Надо их познакомить. Туменбай, пойдём же, я познакомлю тебя с мамой.
Так вот от чего он отказывался! Теперь Костя знал, о чём просила Туменбая Ксана. Но разве такое это трудное дело – знакомство с Ксаниной матерью? Общая тревога передалась и Косте.
– Пошли! —решился наконец Лукьян Александрович.
Ещё одна дверь была в этой комнате, задёрнутая портьерой дверь. К ней и подошёл Лукьян Александрович, тихонько отодвинул портьеру, тихонько постучал, прислушался, наклонив голову.
– Можно! – Он, чуть ли не робея, потянул на себя дверь. – Машенька, я не один. Тут вот… – Лукьян Александрович взял Костю за руку, и они вместе переступили порог.
Окно в комнате было плотно зашторено, и в комнате жили сумерки, нежданные в этот солнечный день. Посреди комнаты, как то бывает в спальнях, стояла широкая кровать. И пахло, пахло лекарствами, прогоркло и тяжко. Это был укоренившийся тут запах, он стал тут воздухом. Вон что, Ксанина мама была больна. Давно больна.
Костя всмотрелся в её лицо на подушке, едва различив его. Женщина лежала с закрытыми глазами. Но вот она медленно стала открывать их. И всё замерло в Косте, когда он повстречался взглядом с её глазами. Только они и жили на маленьком, иссохшем лице. И они так засветились в сумеречной этой комнате, что будто свету прибавилось. И они так смотрели, так пристально, неотступно, проникая, что не было сил выдержать этот взгляд. А надо было выдержать. Не для себя, не для того, чтобы утвердиться в её глазах, а для неё, чтобы она не угадала в его испуге, смятении горестную правду о самой себе.
– Лукьян, отдёрни штору, темно. – Говорить ей было трудно, каждое слово выговаривалось медленно, и после каждого слова начинала звенеть тишина.
– Сейчас, сейчас! – Лукьян Александрович суетливо подскочил к окну. – Вот, Машенька, вот, Мария Петровна, и тот самый Костя Лебедев, нашего Василия племянничек, про которого я тебе рассказывал…
Грянул свет. Костя зажмурился, сейчас можно было зажмуриться, а заодно передохнуть и от этих глаз.
– И вот, мама, мой друг Туменбай, – за спиной сказала Ксана. – Я тоже про него тебе рассказывала. – Звонок был голос Ксаны, и жил в нём вызов.
Костя открыл глаза. Туменбай стоял рядом с ним. Он тоже смотрел на Ксанину маму. А она теперь смотрела на них обоих. Они стояли рядом, как два солдата в строю, и, как у солдат, у них выпрямлены были руки, подняты были головы, и они не смели пошевелиться. Ксанина мать смотрела на них. То на одного, то на другого. Беззвучно шевелились у неё губы. Может быть, ей казалось, что она разговаривает с ними.
Ксана наклонилась вперёд, угадывая по движению губ слова матери.
– Костя, нравится тебе в нашем городе? – спросила Она, вслух произнеся вопрос матери.
– Да. Но я уезжаю. Сегодня, наверное, не успею. Завтра…
– Почему? – спросила Ксана. Костя и сам угадал это «почему?» на губах её матери. Но ему показалось, что она ещё прибавила: «Не спеши». Показалось. Ксана этих слов не повторила.
«Мне трудно здесь, – хотел сказать Костя. – Мне очень трудно здесь». Он этих слов, конечно, не сказал, только беззвучно шевельнулись губы у него. Вслух он произнёс лишь одно слово:
– Пора.
Ксанина мать внимательно следила, как шевелились его губы, родившие только одно слово.
– Не спеши, – проговорила она явственно, – Не спеши… – Она не понадеялась, что дочь правильно повторит её слова. – Молодость… торопится…
Теперь она смотрела на Туменбая. Снова шевельнулись её губы, беззвучно заговорив.
Ксана наклонилась, совсем близко, боясь упустить хоть единое слово. Угадывая, она и сама зашевелила губами. Мать говорила, Ксана угадывала, разгадывала её шёпот, но молчала. И это безмолвие затянулось. Тогда вдруг Туменбай шагнул вперёд, шагнул из строя и, прижав руки к груди, как это делают на Востоке, низко, медленно поклонился Ксаниной матери. А потом, едва распрямившись, рванулся к двери.
– Туменбай! – метнулась за ним Ксана.
– Стой! – Григорий схватил сестру за руку. – Ты ещё побежишь за ним!
Захлопали двери в доме, стихли убегающие шаги Туменбая.
– Мама, прости! – сказала Ксана шёпотом. – Прости…
Лукьян Александрович как стал у окна, отодвинув штору, так там и остался. Он стоял, пожёвывая кончик бороды, удручённый, но и отрешённый. Не вмешивался. Даже когда рванулся из комнаты Туменбай, и тут не шевельнулся Лукьян Александрович, не молвил ни словечка. Здесь мать решала, здесь её жила воля. Да, жила, ещё жила, и все они, и дети и он сам, были подвластны этой воле, подчинялись этой женщине, маленькой, иссохшей, почти ушедшей. Но воля её не иссякла, и мать все ещё была центром семьи.
Она снова смотрела сейчас на Костю. Все смотрели сейчас на Костю. Даже Ксана. А он, а ему было так не по себе, что впору бы повернуться и убежать, как это сделал Туменбай. Нет, Туменбай не убежал. У него гордо всё получилось. Он что‑то прочёл по этим губам, что-то такое, чего его гордая душа не стерпела. И Ксана тоже прочла. И потому и молчала, что спорила с матерью, не соглашалась. Так зачем же тогда? Разве не Ксане решать, кто ей нужен? Разве не ей надо будет жизнь прожить с человеком, которого она, она и должна выбрать? Она и никто другой. А сейчас, а здесь ей пальцем указывали на него. Бери, мол, этого Костю Лебедева, бери, так будет лучше для тебя, для всех нас, мы‑то знаем, что лучше. Вся семья была за Костю, но Ксана была против. В том‑то и дело, она была против.
– Подожди… – медленно проговорила Мария Петровна. – Не спеши…
Она закрыла глаза, отпуская Костю, отпуская всех. Очень она устала.
– Пойдёмте, пойдёмте, – Лукьян Александрович снова задёрнул штору и на цыпочках пошёл к двери.
В комнате жены он был совсем не похож на себя, он будто меньше сделался, и иной в нём проглянул характер. Не таким напористым и самонадеянным он выглядел. И, показалось Косте, в чём‑то чувствовал он себя виноватым перед этой маленькой, избывающей женщиной.
Следом за Лукьяном Александровичем направились к двери Костя и Григорий. И тоже пошли на цыпочках. Ксана шла последней, оглядываясь, надеясь, что мать скажет ей что‑нибудь. Мать молчала.
13
Когда все вышли, Лукьян Александрович осторожно притворил дверь, осторожно задёрнул портьеру, потом обеими руками провёл по лицу, по бороде и распрямился. И стал опять самим собой. Улыбнулся даже самонадеянно.
– Обедать, а теперь обедать!
Но какой там обед, не получалось с обедом.
– Я потом! – сказала Ксана и выбежала из комнаты. Захлопали в доме двери, послышались её убегающие шаги.
– И мне пора, – сказал Костя. – Спасибо. Да я и есть не хочу.
– Что ж, неволить не стану. – Уразов помрачнел. – Но хоть по рюмочке‑то. Нехорошо, в доме побывал, а до хлеба не дотронулся. Пошли, не задержу.
По длинному коридору, в котором и стояли, где только возможно, громадные зелёные и жёлтые вазы, будто то опять был не дом, а музей, прошли в сад. Сперва он показался Косте таким же, как и у Анны Николаевны. Тоже рдели в глубине ветвей громадные яблоки, тоже все оплёл тут виноград. И фонтан подкидывал ломкую струю неподалёку от стола. Но, приглядевшись, заметил Костя, что это был все же какой‑то странный сад. У ограды и вдоль стены дома здесь выстроились плиты из мрамора, и какие‑то мрачные, согбенные фигуры из гипса, и кресты, кресты, вырубленные из камня, большие, даже громадные кресты стояли по углам.
– Мастерская тут у меня, – пояснил Уразов. – Да ты не смотри, Костя, тут ничего такого не высмотришь. Работаю, деньги зарабатываю. – Он попробовал пошутить: – Для души работать – душа вон вылетит. Ну, Григорий, наливай. Водки. Мне в стакан. Доверху. Устал что‑то я.
Не присаживаясь к столу, выпили. Григорий накинулся на еду, а Костя, помня упрёк хозяина, взял кусок хлеба и стал жевать. Есть ему не хотелось. И каждая минута здесь ему была в тягость. Он чувствовал себя тут, как на кладбище. Эти кресты, кресты повсюду, надгробья. Они не были уж очень печальны, потому что были сделаны торопливой, беспечальной рукой, но, став рядом, всё равно превратили этот сад в кладбище. А ведь здесь жила Ксана…
Уразов снова кивнул сыну, чтобы тот налил ему. Прежде чем выпить, прежде чем отпустить Костю, который, томясь, переминался с ноги на ногу, Уразов сказал ему, многозначительно и чуть уже пьяновато протягивая слова:
– Ты, Костя, только и вправду не вздумай уехать. Опрометчиво поступишь, опрометчиво. О тётушке своей, об Анне Николаевне, подумай, обо всём подумай. Одним словом, не спеши… Ну, а я повторю, пожалуй. Устал! Поезжайте!
Григорий отвёз Костю домой. Надо было и машину в гараж поставить. Но чей это был дом? Чья это была машина? Запутываться начал Костя. Его дом был не здесь, но Григорий вёз его к нему домой. Никакой не было у Кости машины, но не тут‑то было, эта машина принадлежала ему, и если не он сам, то Григорий уже привык к этой мысли.
Всю дорогу, чертыхаясь, что подыхает от голода, что успел схватить только одну рюмку и один кусок колбасы, ругая на чём свет стоит и Туменбая, и свою милую сестрицу, Григорий не забывал о машине, наставляя Костю, объяснял ему встречавшиеся по пути дорожные знаки, советовал запоминать, на каких перекрёстках стоят орудовцы, советовал запоминать названия улиц.
Чудной, если не сегодня, так уж завтра‑то наверняка он уедет, улетит из этого города. Зачем ему запоминать названия здешних улиц? Без нужды ему, что тот молоденький орудовец ходит в приятелях у Григория, а вон тот, устрашающе усатый и кривоногий, ненавидит всех частников. Он уезжает, он улетает. Не сегодня, так завтра. И этот «кирпич», запрещающий проезд, и эта «прямая стрела», говорящая, что тут можно ехать только прямо, – все эти знаки–приказы не обязательны для него. Он тут недолгий гость. Прощайте, знаки, прощайте, горы.
Они расстались у дверей гаража. Передавая Косте ключи от машины, Григорий крепко пожал ему руку. Мало ему этого показалось. Он дружественно, чуть ли не по–братски обнял Костю.
– Не тужи, все обойдётся. Так даже интереснее.
Костя тоже обнял Григория, на случай, если больше не увидит его. Костя прощался с ним. Григорий этого не понял.
– До скорого! – крикнул он и побежал, придерживая рукой ковбойскую шляпу. – Жрать хочу! Помираю!
Анна Николаевна сама открыла Косте. Она ждала его. Оказывается, она была в курсе всех событий, всех его передвижений.
– Ну как наш город? Приглянулся? А горы? Уж они‑то, надеюсь, оставили впечатление?
Она знала и про званый обед, который не состоялся.
– Лукьян звонил только что, убивался. – Анна Николаевна внимательно поглядела на Костю. – Что, мой дружок, зацепило тебя?
Костя ничего ей не ответил, не сразу поняв, про что она спрашивает. Поняв же, удивился этому откровенному слову: «зацепило», задумался над этим словом. Зацепило… Как это? Как рыбу на крючок? Он – рыба, а Ксана – крючок?
– Не тужи, все обойдётся. – А вот этого Анна Николаевна не знала, что слово в слово повторила только что сказанное Григорием. – Ты голоден? Пойдём, я накормлю тебя. Лиза нынче у нас с богом беседует. На весь день отпросилась в церковь. Хотела бы я знать, что у неё за молитвы на уме, о чём бога просит?
Она повела Костю в сад, где уже всё готово было для обеда.
– И я с тобой чего‑нибудь пожую. – Тяжело ступая, Анна Николаевна пошла на кухню.
Костя нагнал её.
– Давайте, я сам.
– Нет, нет, не мужское это занятие подавать к столу. Да мне и приятно тебе услужить. Не скрою, приятно.
– Давайте я хоть помогу вам.
– Ну, помоги. – Наливая суп, устанавливая тарелки на подносе, Анна Николаевна все посматривала на Костю. И, кажется, о чём‑то все порывалась спросить. Но не спрашивала. Трудно ей было, не умела она придерживать свои вопросы, из тех была, что сразу ей подавай всю истину и не смей ничего утаивать. Так всю жизнь прожила, утверждая своё право спрашивать, осуждать, повелевать, – привыкла властвовать. Да вот Костя не давался ей, никак не давался. То вспыхнет, как порох, то отмолчится. Что толку спрашивать, если он молчит. С ним как‑то по–другому надо было разговор вести. А как? Ждать, когда сам заговорит? Не умела Анна Николаевна ждать, не приучена была.
С подносами вернулись в сад. Анна Николаевна расставила тарелки, уселась, посадила Костю напротив, притихла на миг. Не то молилась, не то задумалась о чём‑то. И Костя притих, задумался. Звенела тишина в саду, ручей шелестел. Костя вспомнил, как Ксана пила вчера здесь чай из пиалы, вспомнил её смеющийся, облитый перламутром рот. Вчера это было? Вчера? Да не может быть! Это было ещё тогда, когда он совсем другим был, чем сейчас. А каким? Легко тогда ему было, просто, свободно. Вернуться бы во вчера! Разве так это трудно – взять и позабыть один всего день из своей жизни, взять да и перечеркнуть его? Костя решил, что попробует это сделать. Он даже вилкой повёл в воздухе, перечёркивая этот день.
– Да ты, никак, крестишься? – удивилась Анна Николаевна.
– Открещиваюсь, – сказал Костя.
– Досадуешь? А ты расскажи, не затаивайся. – Анна Николаевна опять поспешила: замкнулся Костя, спугнула она его. – Что ж, молчи. И верно, когда я ем, я глух и нем. – Она подивилась своей кротости. – Ешь, Костя, стынет суп. – И сама, показывая пример, зачерпнула из тарелки.
Отобедали молча. Анна Николаевна почти и не ела ничего, из‑под насупленных бровей рассматривая Костю. Странно ей было, тревожно и радостно. Похож, похож был этот юный Лебедев на человека, ещё недавно сидевшего в том же вот кресле. Он мог бы быть их сыном, её сыном. Вот зачем нужны дети – они нужны в старости. Всю жизнь не понимала этого она, все свои молодые годы. Дети помехой казались. Они и были помехой. Она видела, как мучаются с детьми её приятельницы. Дети были неблагодарны. Она видела это, она сотни примеров накопила про это. Жить для себя, для Василия, жить, обученно оберегаясь от всяческих житейских невзгод, неудобств, – это с годами стало её целью, её верой, её гордыней. Она гордилась умной своей жизнью, налаженной, благополучной, безмятежной. Что только не бушевало вокруг, какие только бури не гуляли по земле, а для неё с Василием то был лёгкий ветер. Они не прятались, не хитрили, не чурались работы. Нет, просто они не рисковали. Им посчастливилось с работой, им посчастливилось с городом, где они начали свою самостоятельную жизнь, им посчастливилось друг с другом. Страшно было потерять всё это, потерять душевный покой. А дети – это всегда риск. И годы шли, годы прошли. Бог не дал? Сама не захотела. Ошиблась. Это была ошибка. Глядя на Костю, глядя сейчас на Костю, Анна Николаевна сокрушённо призналась себе, что это была ошибка. Её собственная. Врач, она так привыкла управляться с людьми, что вот и с собой управилась, материнством своим распорядилась. Она слишком возомнила о себе, о своём уме, проницательности, предусмотрительности. Вот и расплачивается сейчас одиночеством. Паренёк, что сидел напротив, был не её сыном, но он был единственной её надеждой в борьбе с одиночеством.








