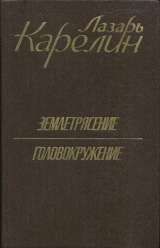
Текст книги "Землетрясение. Головокружение"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Денисов привёл Леонида к себе – в две смежные комнатёнки из фанерных листов. В одной комнатёнке стояло кресло, то самое, из директорского кабинета, а комнатёнка теперь и была кабинетом. В другой комнатёнке, куда они прошли, стояла кушетка с отбитыми ручками, здесь Денисов жил.
Денисов вёл Леонида через двор, ввёл в кабинет, затем в свою комнату, так и не сняв с его плеча руки. Как обнял он Леонида, когда подбежал к нему, так все и длил это объятие. Он завладел Леонидом, единолично им завладел и никому не желал уступать в эти первые минуты встречи. И все говорил, говорил ему что‑то. Негромко говорил, только ему, на ухо, чтобы вокруг не услышали. Но и Леонид плохо слышал. Он не мог вникнуть в смысл того, что проборматывал быстро Денисов. Он был поражён Денисовым. И не видом его, не постарелостью этой, а вот тем, как Денисов проборматывал слова, и тем, какие у него глаза были странные, не было им покоя, вздрагивали всё время, и тем, как укладывались у него губы, наново, нетвёрдо как‑то, как у человека, которому вставили протез и губы ещё не привыкли к этой новиЗне, ещё приноравливались, и человек на время остался без своего лица.
Денисов усадил Леонида на кушетку, сел рядом и близко, все так и не снимая руки с его плеча. Теперь они остались вдвоём, Денисов затворил и дверь со двора, и дверь из кабинета в свою комнату – теперь он мог заговорить погромче.
– Ты знаешь? – спросил он и замолчал, прищурившись по–денисовски, так, что совсем не видно стало синих его глаз. Но всё равно их беспокойная жизнь угадывалась под веками, и веки вздрагивали.
– Да, – сказал Леонид. – Мне рассказали в постпредстве. – Он умолк, никаких он больше не знал слов, какие бы мог произнести вслух.
– Тебе рассказали, надеюсь, что Марьям была убита в первый же миг? Ты понимаешь, всё было кончено в первый же миг? Она не мучилась, ты понимаешь?
– Да.
– А Володя…
– Я знаю.
– А я вот убежал… Какой‑то провал в памяти, ничего не помню… Потом вернулся… Пожар на студии… Заметался… К рассвету мы откопали Марьям… Мне помогали Ксения Павловна, Фаддей Фалалеевич… Ты расспроси их… Марьям лежала как живая… Я даже крикнул: живая!.. Ей было не больно, поверь мне…
– Я верю, верю…
– Нет, обязательно расспроси их, непременно. А Птицин… Он отомстил мне!.. Знаешь, он отомстил мне… Здорово отомстил!..
Леонид прислушался: ему почудились завистливые нотки в голосе Денисова. Что же, или Денисов позавидовал сейчас участи Володи Птицина?
– Здорово отомстил! – повторил Денисов. – Ты знаешь, Лёня, они у меня всё время перед глазами... Я их вижу… И себя там вику… Жаль… – Денисов вдруг нагнулся, плечи у него затряслись. Он плакал. – Ты прости меня… Я сейчас…
Он плакал. Денисов плакал.
6
Леонид едва дождался утра. Он не спал, всматриваясь в квадрат ничем не занавешенного окна, подстерегал тот миг, когда начнёт сереть мгла в небе. Он почти всю ночь не сомкнул глаз. Кушетка, которую уступил ему Денисов, тоже была жертвой землетрясения: в ней вдруг начинали громко и протяжно переговариваться пружины. И звуки эти, когда Леонид задрёмывал, казались голосами людей, и в звуках этих длился их рассказ все о том же самом, о том же самом.
Весь вечер минувший и часть ночи продолжался этот рассказ. Пришла Ксения Павловна, кутаясь в платок, укрывая, будто туркменка, платком часть лица. Она стыдилась нагрянувшей на неё старости. Пришла Зоя в чужом, слишком просторном для неё платье, в мужских башмаках. Она принесла с собой папку с бумагами, папку со сценариями – всё, что осталось от архива сценарного отдела.
У этих женщин никто не погиб, у них не было мужей, не было детей, вообще не было родных в городе. Они и спаслись счастливо, отделались разве что ушибами. Но они были уже не теми, что раньше. Они переменились, да, им прибавилось по десятку лет, но дело было не в этом, не в морщинах вокруг глаз и губ. Они переменились изнутри. Опять вспомнилась война. И женщины на улицах городов, где побывали немцы и куда вернулись наконец свои. У этих женщин были удивительные глаза. Мудрые, настрадавшиеся, как на иконах.
Вот такими глазами и смотрели на Леонида Ксения Павловна и Зоя, когда рассказывали ему все о том же, все о том, кто погиб и кто уцелел, как погиб и как уцелел. И эти глаза тоже рассказывали, иной раз больше говоря, чем слова.
Бурцеву и его жене посчастливилось – ни царапины. Их не было сейчас в городе, они приходили в себя в Кисловодске. Цел и Углов. И его не было в городе, улетел в Ташкент. Фильм–концерт пока не снимается. Не до концертов. И Бочковы тоже отбыли в Ташкент. Там сейчас полно ашхабадцев. И в Баку тоже, и в Алма–Ате тоже. Кто залечивает раны, кто сил набирается, переводит дух. Марьям… Птицин… О них заговорили, когда Денисов вышел из комнаты. Кто‑то позвал его, и он на минутку, сказав, что на минутку, вышел.
– Вы видели их? – шёпотом спросил Леонид у Ксении Павловны.
– Да. – Она тоже свела свой голос к шёпоту. – Бедненькая… Такая красивая, молодая…
– Она сразу погибла?
– Не знаю… Кто это может сказать? Не знаю… А Володя, ведь он на помощь к ней кинулся. Подумать только, в его положении.., Я считаю это геройством…
– Это не геройство, – сказала Зоя. – Это любовь. Самая великая любовь, про какую я только знаю. И не из книжки, из жизни. Их рядом и похоронили. А он… – Она кивнула на дверь. – Он теперь изведётся. Вот помяните меня, он себя не простит…
Вернулся Денисов.
– О чём разговор? – спросил он, настороженно глянув на женщин.
– Да все о том же, – сказала Ксения Павловна. – Да, Лёня, а знаете, какая беда постигла Ваню Меркулова? У него вся семья погибла… Трое детей… Жена…
– Боже мой, боже мой, – сказал Леонид и вспомнил, увидел, как шёл через студийный двор Иван Меркулов, медленно, как лунатик.
– А пьяницы, а все городские гуляки уцелели! – гневно сказала Зоя. – Их ресторан «Горка» только осел, только и всего. А их «Фирюза» распалась на две половины, и никого там даже не ушибло. Ну разве есть бог?!
– Есть, Зоечка, есть, по–моему, – задумчиво сказала Ксения Павловна. – Спаслись же мы… А нас бы и откопать было некому… Да, Лёня, а вы знаете, ведь и этот инспектор Воробьев тоже погиб…
Денисов вдруг вскочил, вдруг забегал по комнатёнке своей, плечами стукаясь о податливые стены.
– Они обвиняют меня! – Он махнул рукой куда‑то, на кого‑то там. – Они заподозрили, что я тогда ночью побежал к гостинице, чтобы украсть у Воробьева его проклятый портфель. Подумай, Лёня, в чём они меня заподозрили! Да, портфель пропал, да, меня видели в ту ночь у гостиницы, но разве… – Денисов осёкся, и снова дрогнули, затряслись его плечи.
– Боже мой, боже мой, – сказал Леонид.
Едва только рассвело, он вышел за студийные ворота. Он многое знал теперь. Предстояло узнавать – ещё и ещё.
Он направился сперва к своему дому, отыскав то место, где стоял его дом, по воротам. Они были из дерева, столбы были глубоко врыты в землю, и ворота устояли. А маленького домика слева от ворот не было. И большого хозяйского дома справа от ворот не было. Разве что хибара об одно окно этот бывший дом?
Леонид недолго стоял у обломков, у груды камней на том месте, где жил когда‑то. Он приподнял и отбросил исковерканную потолочными балками кровать, на которой спал когда‑то. Не жить бы ему, если бы он спал в ту ночь на этой кровати.
Под обломками ничего не уцелело – Леонид это сразу понял, не стал даже и разгребать кирпичи. А ему ничего и не жалко было. Какие‑то вещи пропали? Пустое. Ему не жалко было и пропавших рукописей. Даже их не жалко ему было. Начатый сценарий, несколько рассказов, наброски сюжетов. Бог с ними! Кто‑то разжёг ими костёр. Пускай! Не то, не так надо писать. Нельзя писать, чуть прикасаясь к жизни, выдумывая всякие историйки. Вот она – жизнь! Ну‑ка попробуй напиши об этом! Когда‑нибудь…
Не оборачиваясь, Леонид зашагал в город к центру. Он ещё в Москве, в постпредстве, узнал, что Лена спаслась, что спасся её муж. Это и всё, что следовало ему узнать. Лена не нуждалась в его помощи – вот и всё, что должен был он знать. Но были другие, оставались друзья. Саша Тиунов. Что с ним? Хаджи Измаилов. Что с ним? Нина, Соня… Живы ли они?.. Ира… Жива ли?
Леонид шёл по широкому асфальтовому полотну улицы Свободы. Снова этот обман, когда, кажется, если не смотреть по сторонам, что город есть – ведь улица-то, асфальт, деревья, ведь все это уцелело. Ну, потрескался асфальт, ну, не подметена улица – и весь не порядок. Но стоило поднять голову…
Солнце всё разгоралось, тёплый обещая день. Тёплый ветер подул, живой травой запахло. Но рядом стоял и иной запах. Он был рядом со всеми запахами. Он был знаком Леониду. Это был запах войны, мерзко сладковатый запах гари и тления.
Солнце всё разгоралось, город проснулся. Много ли в нём осталось людей? И чем они займут свой новый день? Леонид присматривался, прислушивался. Картина обычной жизни открылась ему. Да, обычной жизни. В этих развалинах обычная шла жизнь. Люди умывались, готовили себе еду, люди начинали работать. Они строили. Везде, куда бы ни поглядел Леонид, возводились стены. Новые стены новых жилищ. Вдоль улиц были сложены штабеля досок, брёвен, щиты сборных домов. Иные из этих домов уже встали на фундамент, в иных уже занавески появились на окнах. Смелый город. Смелые люди.
Кто‑то окликнул Леонида. Он обернулся. К нему шёл через улицу оператор Андрей Фролов. В руках у него была съёмочная камера, он был в комбинезоне, он был на работе.
– Твои целы? – спросил Леонид.
– Да. Шесть часов откапывал. Да, целы.
– Что ты снимаешь сейчас?
– Ашхабад. Я начал снимать с того самого дня. Как только рассвело, так и начал. Надо, чтобы люди знали. Это очень важно.
Они пошли рядом.
– Город мы поднимем быстро, – сказал Фролов. – Строить теперь будем по–умному. Вон, смотри, как кладут стены. Рама, крестовина из досок – и кирпич не посыплется. Хоть десять баллов – стена накренится, но не упадёт.
– Так просто?
– Все просто. Надо только головой работать. Ты прости, я тебя оставлю. Мне надо снимать.
Леонид проводил глазами Андрея. Не очень высок, совсем не широк в плечах, а шесть часов откапывал он своих, а потом пошёл снимать и снимает, снимает…
Смелый город. Смелые люди.
Леонид свернул к площади Карла Маркса. Он знал: в первые часы после землетрясения эта площадь стала городским госпиталем. И сейчас ещё на ней стояли бараки, палатки. Здесь теперь, жили. Раненых же увезли кого куда. Множество городов приняло их, прислав за ними своих врачей, свои самолёты, свои санитарные поезда. Вся страна встрепенулась, чтобы помочь Ашхабаду. Леонид слышал в Москве, что обсуждался вопрос, быть ли городу на старом месте. Теперь он понял: город останется на старом месте. Люди не уйдут отсюда. Да они уже и отстраиваются здесь. Смелый народ. Смелые люди.
Ещё одна встреча. Нина! Женщина в белом халате, врач, спешащий к страждущим. Строгое лицо, не постаревшее, слишком молодое лицо, чтобы постареть, но ставшее изнутри строгим, взрослым.
Леонид кинулся к ней.
– Нина!
Она протянула ему руку.
– Вернулся? Все знаешь?
– Узнаю. Соня жива?
– Она уехала незадолго до землетрясения в Баку.
– А Саша Тиунов?
– Жив Саша. В госпитале в Ташкенте. Перелом рёбер, ключицы. Выходится. А его мама, старшая сестра… Ты их знал?
– Знал.
– Ну, я побегу. Увидимся ещё. – Она пошла, широко, по–мужски шагая.
Леонид окликнул её:
– Нина, скажи, Хаджи Измаилов, писатель Хаджи Измаилов, – он жив?
Она остановилась.
– У него одной руки не было. Ты о нём?
– Да.
– Он погиб, Лёня. – Она двинулась дальше.
И ещё одна встреча, уже к полудню, когда Леонид зашёл в какой‑то барак у базара, в котором разместилась столовая. За буфетной стойкой он увидел Иру. Он не осмелился подойти к ней. Жива – и все. Зачем он ей? Жива – и все. Она сама подошла к нему. Он думал, что она его не заметит, он сел за самый дальний столик. Заметила.
Раскачиваясь, она не спеша подошла к нему, наклонилась, всмотрелась.
– А ты все такой же.
А каким ему ещё быть? Ведь это не он попал в землетрясение, а она.
– И ты не изменилась, – сказал он. Это была ложь, она изменилась. Она погасла. Не постарела, а погасла. И у неё странные были глаза, всё время бегали глаза, подведённые, с наплывающей на них краской, мутные, утратившие свой цвет.
– Правда? Пополнела вот только. – Она села на пододвинутый им стул. – На моё письмо не обижаешься? Все бабы дуры. Вот захотелось написать тебе, похвастаться захотелось, что счастливая. Не обижаешься?
– Да что ты, Ира! Я был рад за тебя.
– Рад… Рано мы обрадовались с тобой, дружок. А знаешь, как я спаслась? Работала, вот и спаслась. В нашем кабаке никто не погиб. Пьяницам – счастье.
– А муж?
– Сожитель‑то мой? Погиб. он. Когда дом раскопали, его в хозяйкиной постели нашли. Вот тебе и муж, вот тебе и хозяйка–святоша.
– А Макс, собачка твоя?
– Потерялся Макс. Зайдёшь? У меня хибара сколочена. Все на том же месте.
– Зайду, – сказал Леонид, хотя знал, что не зайдёт.
Да и Ира поняла по его голосу, что ждать его нечего. Она поднялась, кивнула ему отчуждённо и пошла к стойке не своей, не раскачивающейся походкой.
7
Леонид скоро пообвык в этом городе из руин, научился ходить по его улицам, не поднимая глаз, полагаясь на память. В памяти хранился былой город, недавний, и надо было только не поднимать глаз на рухнувшие стены. Но вот притерпеться к сладкому зловонию, жившему в воздухе, было невозможно. Всё время хотелось ополоснуть лицо и хотелось куда‑то нырнуть, туда, где чистый воздух. А его нигде не было, и даже вода, чудилось Леониду, продушилась зловонием и пожирнела.
Пыль стояла над городом, она слилась в сплошную тучу, которая то припадала к земле, то взлетала невысоко, но от города отлетать не собиралась. Рваные крылья этой тучи, колыхаясь над улицами, казались крыльями громадного стервятника. Выпростаться из‑под него было некуда.
И все же люди жили во всём этом: и в пыли, и в зловонии, и в нагрянувшем небывалом холоде, в этих вот землянках, времянках, палатках. Жили, заново вживаясь в жизнь. И было это геройством, но только никто не знал, что это геройство, не думал так о своей жизни. Напротив, хотелось поскорее привыкнуть, забыть или хотя бы забыться. Мешали сны. Весь город видел сны. Весь город пробуждался от малейшего толчка, а толчки, хоть и совсем слабые теперь, случались чуть ли не всякую ночь. Пробуждаясь, ещё не отрешившиеся от страшного сна, одного и того же, одного и того же из ночи в ночь, люди выбегали на улицы. Стены их времянок были не опасны, да и толчки были ничтожны, но всё равно все выбегали на улицы и, путая сон и явь, вслушивались мучительно, не загудит ли снова земля тем страшным, неслыханным, необъяснимым гулом. Земля молчала. Люди снова укладывались спать. И снова до первого толчка, которому обязательно предшествовал страшный сон, один и тот же, всегда один и тот же. Для каждого свой собственный сон, но для всех вместе про одно и то же – про землетрясение.
Леонид исходил весь город, каждый день у него начинался с путешествия на какую‑нибудь далёкую улицу, вернее, к руинам этой улицы. Похоже было, он что‑то искал там. Но он ничего там не искал. Улица была незнакома ему, он раньше не бывал на ней, никто из его друзей не жил там ни раньше, ни теперь. А шёл он на эту улицу, пересекая весь город, лишь затем, чтобы пересечь весь город, будто спеша куда‑то, будто по делу, шёл, чтобы миновать как раз те улицы, которые он знал, где некогда жили его друзья и где теперь их не было. Он не мог понять этого, не мог смириться с этим, ен не доверял глазам, он доверял памяти. В памяти жил былой город и были все живы. И в памяти ещё была Лена, но не чужая, не вышедшая за кого‑то там замуж.
Лену он ни разу не встретил. Ничего не стоило её встретить, но он не хотел этого. Он всегда стороной обходил её улицу. Должно быть, она там строила свой новый дом. И на улице, где пока во времянке ютйлось её министерство, он тоже ни разу не был.
Да, и ещё на кладбище Леонид не был. Не на кладбище, а на кладбищах. Вместо одного их стало четыре. Туда всякий день с утра и до позднего вечера шли люди. И подолгу оставались там.
Где‑то там в одной могиле были похоронены Марьям и Птицин. Так распорядился Денисов. Вот он как распорядился, оказывается. Туда надо было сходить. Обязательно. Но Леонид все оттягивал с этим. Он знал, когда он придёт на кладбище, на одно, на другое, он уже не сможет играть с собой в жмурки. Память больше не выручит его, не уведёт назад, в тот ещё город, где был он счастлив, может, и не ведая, что счастлив. Пусть то будут могилы незнакомых людей, но всё равно они жили вместе с ним, рядом с ним в том городе. Нет стен – это не самое страшное. Не стало людей – вот что страшно, вот что непоправимо.
И все же он пришёл на кладбище. Настал такой день, когда Леонид пришёл к могиле Марьям и Птицина. Какой‑то особенный это был день. С утра сильный ветер продул, промыл город и небо. Дышать стало леи че. Ветер промчался через город и больше не вернулся. Пыль улеглась. Потеплело вдруг. Леонид собрался с духом и свернул в сторону кладбища.
Он знал по рассказам Денисова, на каком кладбище и примерно где похоронены Марьям и Птицин. Бедняга Денисов часто заговаривал об этой могиле и, кажется, часто навещал её.
Леонид миновал железнодорожный переезд, стараясь не глядеть на руины вокзала. Ничем не примечателен был здешний вокзал. И все же он жил в памяти, возвращая те минуты волнения, которые всегда связаны с вокзалом, как бы уныл, казенен он ни был. Ведь от этого здания начиналась дорога. И здесь пахло дорогой, И хотя по этой линии не ходили паровозы, а бегали приземистые, похожие на жуков тепловозики, голос у которых был тонок и непривычен, всё равно, едва заслышав их клич, Леонид завистливо вспоминал дорогу, завидуя тем, кто в пути, угнетаясь, что сам он никуда не едет.
Теперь вокзала не было, а высилась громадная куча битого кирпича, с торчащими каркасами колонн. Как жалки они сейчас были – эти гиганты, какой оказались они хлипкой бутафорией, едва лишь качнула их настоящая сила. »
После переезда, как помнил Леонид, надо было пройти ещё немалый путь по барханам, через вклинившуюся в черту города полосу пустыни. Но то было раньше. А теперь пустыни этой Леонид не обнаружил. Она оказалась обжитой, она отдала себя кладбищу.
Леонид остановился. Вот оно – кладбище. Новое кладбище, непомерно громадное для небольшого города. Громадное, новое и уже заселённое, все уже в мелкой решётке скупых наделов. Вот она – правда о том, что случилось в этом городе в ночь с пятого на шестое октября. Та правда, которая вслух не произносится, потому что её больно произносить. Та правда, которую так боялся постичь до конца Леонид.
Он стоял и смотрел, здесь жмуриться было бессмысленно и недостойно. Он смотрел, ведя глаза до той черты, где вновь начиналась барханная пустыня. Извечная пустыня, отступавшая перед городами, и наступавшая на них, и поглощавшая их. Чего только не знает эта пустыня, о чём ещё узнает…
Но где было тут сыскать могилу Марьям и Володи? Леонид испугался вдруг, что не найдёт могилы. Он заставил себя вспомнить сбивчивые объяснения Денисова. Какое‑то чахлое дерево надо было пройти, потом свернуть по тропинке направо, потом поравняться с надгробием – согбенная старуха с укрытым покрывалом лицом высыпает из рога изобилия на могилу розы.
Дерева Леонид не нашёл, их было несколько, равно чахлых, равно одиноких. Но надгробие увидел сразу. Гипсовая старуха со швом отливки вдоль спины, скорбно сутулясь, щедро посыпала могилу гипсовыми розами. Рог изобилия, из которого изливались эти розы, был похож на садовую урну.
У Леонида шею заломило, такая это была никчёмная здесь старуха. И эта урна в её руках, и эти розы цвета пыли – все это было невозможным здесь. Вот кто‑то уже и стал наживаться на мёртвых.
Н все же Леонид обрадовался старухе, поскольку она была ориентиром. Теперь надо было пройти ещё шагов с десять и отыскать просто щит из фанеры, на котором помещены две фотографии – Марьям и Володи. Этот щит из фанеры – это временно. Его сменит мраморная доска. Она уже заказана. Денисов из своих денег оплатил её. Он продал фотоаппарат, чтобы раздобыть эти деньги. И ещё что‑то продал, лишь бы хватило денег. Он не мог допустить, чтобы эту плиту установили на казённый счёт.
Десять шагов неожиданно привели Леонида снова к гипсовой старухе, точно такой же, как первая. Он шарахнулся от неё, зашагал в противоположную сторону. И что же, опять гипсовая старуха преградила ему путь. Леонид тоскливо огляделся. Их было много – этих одинаковых старух. Кто‑то отливал и отливал их, штука за штукой. И должно быть, дорого брал за свою работу. А люди, чтя память близких, платили, продавали последнее, что у них уцелело, и платили. Ещё не было построено целиком ни одного дома, а уже возникли вот эти памятники. Леонид пригляделся к одной из старух. Она была в национальной одежде старой армянки. Ах вот что, эта часть кладбища была армянской. Ах вот что, видно, такой у них обычай, чтобы могилу стерегла старая мудрая женщина и чтобы не грустила она без нужды, а делала радостное дело, прекрасное дело, усыпая дорогую могилу розами. Что ж, пусть сидят здесь эти старые женщины, одинаковые старые женщины – время сделает то, что не смог сделать бездарный скульптор, время по–разному обойдётся с каждой из старух, и, может быть, через много лет этот уголок кладбища будет изумлять людей иссечёнными ветром старческими лицами и люди найдут в этих лицах и мудрость, и доброту, и скорбь.
Да вот и сейчас уже, как ни одинаковы эти стражи могил, по–разному выглядит всякая могила. Живые руки близких по–разному прикоснулись к земле. И есть тут уже старухи, которым не сиро вековать на кладбище, а есть уже одинокие и забытые.
Какая‑то женщина, стоя спиной к Леониду, поливала у могилы цветы. Ей было трудно держать лейку, и она оперлась рукой о плечо своей гипсовой старухи. Потом поставила лейку на землю и устало распрямилась. Й пока она распрямлялась устало, чуть повернувшись в сторону Леонида, и медленно поднимала руку к голове, оправляя растрепавшиеся волосы, Леонид вдруг услышал своё сердце, которое застучало, как сильно пущенный им метроном на пианино – когда‑то, очень давно, в детстве. Эта женщина у могилы – это была Лена.
Она не удивилась встрече' с ним. Не стала изображать какую‑то особенную дружественность, какую напускают на себя, жалея цас, женщины, выбравшие другого. Она протянула ему руку и поздоровалась с ним буднично и просто, словно вчера только они виделись и был он для неё всего лишь одним из знакомых, всего только одним из её городских знакомых.
Леонид не ответил на её «здравствуй, Лёня». Он забыл ответить. Он смотрел. Он знал, что смотрит на неё так в последний раз. Так глядеть на неё он если и мог, если и смел, то только один–единственный раз, вот в эту их первую после всего, что случилось, встречу. А потом, сколько бы раз они ни встречались, одни ли, на людях ли, ему уже было заказано так смотреть на неё. Так не смотрят на чужую, на всего лишь знакомую женщину.
А сейчас он смотрел, он прощался с ней сейчас, и она не отворачивала лица, позволяя ему так смотреть на себя, тоже зная, что это в последний раз.
Она подурнела. Она страшно подурнела. Он не видел этой её дурноты, только понимал, что это так. Он понимал, что жёлтые пятна на лице не красят её, что громадные её глаза потускнели, постарели. Он понимал, что у неё морщины появились у рта и глаз. Он это все понимал, но это все не мешало ему видеть её прекрасное лицо, видеть это лицо за всем новым, что проступило в нём в новой её жизни.
Но вот она вдруг смутилась чего‑то, вдруг отвернулась как‑то неуклюже, с несвойственной ей тяжеловатостью ступив в сторону. И тогда Леонид понял все до конца. Он понял, что Лена беременна. Вот почему она была в каком‑то мешковатом пальто, вот почему проступили эти жёлтые пятна на лице. Наконец он увидел её теперешней. И всё кончилось, с былым всё было покончено, и он более не имел права так смотреть на неё, они простились и расстались, оставаясь стоять друг подле друга.
– Вот, похоронила тётю Кнарик, – сказала Лена и повела рукой, коснулась пальцами гипсовой головы старухи. А ведь верно, эта гипсовая старуха была в чём‑то схожа, в чём‑то главном, в резком этом очерке согбенной фигуры с той старой женщиной, которая лежала сейчас в могиле. Может быть, бездарный скульптор был не так уж бездарен?
– А ты, а тебя? – спросил Леонид. Он не договорил. Он не знал, вправе ли он расспрашивать её теперь о чём бы то ни было.
– Ни царапины.
Лена ответила, но лицо её ещё больше замкнулось, преграждая путь дальнейшим расспросам. Она сама задала вопрос:
– Ты зачем здесь?
– Хотел найти могилу Марьям и Володи. Да вот заблудился.
– Пойдём, я покажу тебе их могилу.
Она протянула ему лейку, в которой ещё было много воды, и они пошли рядом по вытоптанной широкой тропе между могилами. Лена не хотела идти впереди Леонида, она не хотела, чтобы он смотрел ей в спину, они шли рядом, дотрагиваясь друг до друга плечами, и Леонид иногда поддерживал Лену под руку, забываясь на короткий миг и тотчас вспоминая обо всём. Так идти с ней рядом ему было мучительно трудно. И недолгий путь до могилы Марьям и Володи показался ему бесконечным. Но когда Лена остановилась и, указывая, протянула руку, Леонид горько пожалел, что этот путь кончился. Всё кончилось. Все сейчас было в последний раз, и он знал об этом.
Он шагнул вперёд и увидел фанерный щит, выкрашенный довольно умело под мрамор, увидел две фотографии под стеклом на этом щите. Он узнал фотографию Марьям. Это была фотография одной из её удачных проб на роль Зульфии. Косицы были туго заплетены, так туго, что натянулась кожа на лбу и ещё раскосее стали смеющиеся глаза. Совсем молоденькой выглядела Марьям на этой фотографии. И какой‑то очень крепкой, уверенной в себе, в свою удачу, в бесконечность молодой своей жизни. А Володя на фотографии был несчастлив, понур, нахмурен. Эту фотографию Леонид тоже узнал. Володя снимался тогда с ним и с Гришей Руховичем. Помнится, они сидели тогда на скамейке во дворе студии и Клыч незаметно снял их. Клыч любил незаметно снимать своих друзей и потом дарить им фотографии с какой‑нибудь многозначительной надписью. Мол, вот какой я зоркий оператор. Да. он был зорок. Он снял Володю Птицина таким как раз, каким Володя почти никогда не был на людях, он снял его самим собой – с его горестной заботой. Эта фотография, вырезанная из общего снимка и увеличенная, была тут к месту. Обе фотографии были тут к месту. А рядом, оказавшись рядом, они так много и сразу сказали Леониду, такую сразу открыли ему свою великую тайну, что он, знавший все про Марьям и Володю, только вот сейчас по–настоящему понял все про них. Про них, и про себя, и про Лену. И, не дико ли это, позавидовал участи Володи Птицина. Тотчас опомнился, конечно, но на миг позавидовал.
– Мне рассказывали, он погиб, спасая её, – сказала Лена.
– Да. Как думаешь, что было бы, если бы он её спас, если бы они уцелели? Как думаешь, она бы вернулась к нему?
– Нет, Лёня, она бы не вернулась. Он потерял её, он её раньше потерял. И навсегда.
– Да, ты права.
– Надо полить цветы, – сказала Лена. Она протянула руку к лейке, но Леонид не отдал лейку, он сам стал поливать цветы, высаженные вокруг холмика, под которым лежали Марьям и Володя.
Лена встала рядом с ним, нагнулась, поправляя поникшие стебли.
– Что ты собираешься делать? – спросила она, не поворачивая головы.
– Не знаю.
– Уедешь отсюда?
Леонид не успел ответить. Жук–тепловозик вынырнул невдалеке из‑за переезда и заглушил все прочие звуки своим пронзительным, непривычным гудком. Он отправлялся в дальний путь и оповещал об этом всех и вся.
– Вот, вырвался на волю, радуется, – сказал Леонид. – Будь счастлива, Лена.
Он поставил на землю лейку и пошёл в сторону переезда, только теперь увидев то чахлое деревце, про которое толковал ему Денисов. Леонид уходил не оглядываясь. Услышала ли его Лена? Может, и не услышала. Уж очень громко кричал жук–тепловозик, гордясь дальней своей дорогой. Он и Леонида звал в дорогу и все сулил, надрываясь: «Бууудет… Бууудет… Бууудет…»
8
Денисова и Леонида вызвали в Москву. Наконец‑то! Денисов извёлся в Ашхабаде. Ему казалось, что за его спиной все только и делают, что говорят о нём. Он подозрительным стал, обидчивым. Но хуже всего, что он говорливым стал. Он готов был часами говорить – и все о том же, о том же. Он каждый шаг свой обговорил, каждый миг из той ночи. Не оправдывался ли он? Не выискивал ли оправдания своим поступкам? Нет, не перед собеседником, а перед самим собой? Пожалуй, что так, пожалуй, он только затем и начинал разговор, чтобы ещё раз все припомнить и ещё раз во всём сыскать самому себе оправдание. Слушавшие его соглашались с ним, а он сердился, ему казалось, что они ему не верят. Он и сам себе не верил. Вот беда, он сам в себе изверился. И слухи, слухи ползли по студии. Говорили бог весть что. Денисов в себе изверился, и в нём изверились. И уж тут держись, человек! Всяк, кому не лень, всяк, кто обиду какую‑нибудь таил, – все они в тебя кинут камнем. Говорили и о пропавшем портфеле ревизора Воробьева. Ведь верно, ведь видели же Денисова в ту ночь у гостиницы. Как, зачем он там оказался? А в портфеле, конечно, были документы, которые Денисову кололи глаза. Говорили и о пожаре на студии, совсем уж чудовищное возводя на Денисова подозрение. Мол, он и поджёг. Ведь прибежал же он зачем‑то на студию. Зачем? Ему Марьям надо было выручать, а он на студию побежал. Странно, темно, подозрительно. Пожар начался с бухгалтерии. Ну ясно, это был поджог, кто‑то заметал следы. Как кто? Денисов!
Но вот они в Москве. Леонид громадные возлагал надежды на этот их приезд в министерство. Все затяжки с запуском сценариев в производство, хоть одного сценария, должны отпасть. Студии нет? Павильон упал? Аппаратура побита? Не беда! У людей нет работы – вот беда! Люди, пережившие такое, должны работать. Не хроникой пробавляться и не концерт, не дай бог, снимать, а делать настоящую, серьёзную работу. Тогда все и образуется, и страсти улягутся, и сгинут слухи, наветы.
Прямо с аэродрома они приехали в министерство, и Денисов сразу же был принят начальником главка. Леониду сказали, что с ним разговор будет потом. Странно… Впрочем, что ж тут странного, просто начальник главка поговорить с Денисовым хотел с глазу на глаз, расспросить его обо всём, что случилось. Это даже хорошо, что поговорят без помех, без свидетеля. Начальник главка был из хороших в министерстве людей, он был сердечным человеком, умным.








