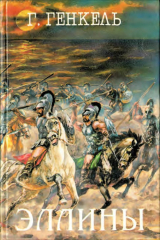
Текст книги "Эллины (Под небом Эллады. Поход Александра)"
Автор книги: Квинт Эппий Арриан
Соавторы: Герман Генкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц)
Внезапно, когда процессия стала уже подниматься в гору, Эпименид властным движением руки остановил рабов, нёсших его кресло. Обернувшись назад, старец долго молча глядел на раскинувшийся у его ног городок Мунихию. Слёзы выступили на его тусклых, померкших очах, и он слабым голосом, как бы про себя, промолвил:
– Как ослеплены люди относительно будущего! Если бы афиняне знали, сколько горя доставит им впоследствии это место, они, доподлинно, разрушили бы его собственными руками и срыли бы собственноручно стены его теперь мирных построек[22]22
Сравните у Плутарха, «Жизнь Солона», гл. 12, которая вообще легла в основу нашего очерка об Эпимениде.
[Закрыть].
Затем Эпименид повелел следовать дальше и уже не проронил ни одного слова за всю длинную дорогу вплоть до Афин. Казалось, старик был погружён в забытьё. Он закрыл глаза и не видя ничего вокруг, по-видимому, совершенно ушёл в себя.
Перед самым входом в городские ворота кортеж принуждён был остановиться. Из дверей одного из ближайших домов вышла погребальная процессия. В предшествии нескольких флейтистов толпа родных и друзей в траурных одеждах, предварительно окропив себя «чистой» водой из огромного чана, поставленного нарочно с этой целью у входа в жилище покойника, вынесла на плечах богато убранное ложе, на котором с непокрытым лицом лежал мертвец. Это был совсем ещё молодой человек, глубоко страдальческое, иссиня-бледное лицо которого с глубоко ввалившимся ртом, где между зубов была втиснута медная монета, обол для Харона, свидетельствовало, что покойный не без сильной борьбы и тяжких страданий расставался с милой жизнью, пресекшейся во цвете лет.
Непосредственно за трупом несколько рабов несло множество пёстро раскрашенных глиняных сосудов с пищей для покойника во время его дальнего странствования в преисподнюю. На отдельном блюде старая рабыня со всклокоченными волосами, разодранной одеждой и исцарапанным в кровь лицом держала несколько сладких маковых лепёшек, которые сжигались затем вместе с покойником и должны были служить ему, по народному поверью, верным средством умилостивить страшного трёхглавого Цербера, стерегущего вход в мрачное царство теней. Дикие вопли, неистовые крики и плач раздавались в толпе ближайших родных умершего, теперь выходившей из дома. Среди прочих женщин, которых здесь было очень много, особое внимание Эпименида приковала к себе молодая прекрасная девушка, как оказалось, невеста умершего. Дико потрясая в воздухе большим кривым ножом, остроотточенное лезвие которого зловеще сверкало на солнце, она в каком-то безумном неистовстве, разрывая на себе одежды и обнажая руки и грудь, наносила себе глубокие раны по всему телу. Её примеру следовали другие женщины, в исступлении ногтями раздиравшие себе лица. Кровь лилась тут ручьями. Платье же невесты и её пышные распущенные волосы представляли собой один огромный, безобразный кровяной ком.
При виде этого необычайного шествия, преградившего ему столь внезапно дорогу и заставившего его остановиться и поневоле стать свидетелем страшного, столь вкоренившегося в обычаи афинян погребального обряда, Эпименид не мог воздержаться от восклицания ужаса и омерзения. Он глубоко вздохнул и, обращаясь к Солону, шедшему рядом с его носилками, печально заметил:
– О, Солон, друг моего сердца! Доколе подобные обычаи будут царствовать во граде священной Паллады, вам нечего думать об искуплении. Тут люди обращаются в диких зверей и слепнут от необузданного исступления. Варвары могли бы поучиться у вас кровопролитию. И вы удивляетесь ещё, что бессмертные боги отвратили от вас чело своё! Златокудрый Гелиос, с выси небесной взирая на подобные ужасы, поневоле содрогнётся и поспешит поскорее прочь от столь проклятого места. Много городов и стран видел я на своём долгом веку, но нигде в пределах Эллады не встречал подобного зверства. Бедный, ослеплённый народ!
Солон на это ничего не ответил, но в том многозначительном и долгом взгляде, которым он обменялся со своим старым другом, ясно сказывалось, что он вполне разделяет мнение Эпименида.
Между тем шествие приближалось к так называемой Средней городской стене и, войдя через несколько минут в ворота, очутилось на узкой, извилистой дороге, ведшей между холмами Пниксом и Музейским прямо к Акрополю. Всюду на улицах толпа, сопровождавшая Эпименида, росла, и везде на перекрёстках встречали кортеж афинские граждане, опоздавшие или почему-либо не бывшие в состоянии попасть в Мунихию. Почти полное отсутствие жрецов резко бросалось в глаза. Когда Солон обратил на это обстоятельство внимание Эпименида, последний насмешливо улыбнулся и промолвил:
– Служители богов, делающие из своих молитв источник дохода и безбедного существования, никогда не были в числе моих друзей, равно как и я никогда не искал их дружбы. Мы друг друга не понимаем и никогда не поймём, вернее, слишком хорошо знаем друг друга, чтобы питать приязненные друг к другу чувства. Но меня поражает не отсутствие жрецов, а почти полное отсутствие храмов в городе. Это – плохой знак и наводит на грустные мысли.
– Ты прав, Эпименид; особым благочестием мои сограждане похвастаться не могут: храмов и капищ у нас немного. Но всё-таки они есть. Не будет ли тебе угодно подняться на этот холм налево, на холм Музейский? Оттуда открывается хороший вид на весь город, да и Акрополь как на ладони.
Эпименид ответил согласием на предложение Солона, и шествие, по приказанию притана-эпистата, направилось на вершину холма. По дороге туда, однако, кортеж ещё раз был остановлен неожиданным инцидентом. В одном из небольших домиков по соседству с Музейским холмом были настежь открыты двери и окна, и оттуда неслись душераздирающие вопли. Когда Эпименид попросил осведомиться о причине этих неистовых криков, оказалось, что один из наиболее богатых евпатридов, которому владелец домика заложил свою незначительную недвижимость, как раз сегодня утром ворвался, во главе толпы вооружённых рабов, к своему неисправному должнику и собирался теперь не только отнять у него домик и прилегавший к нему небольшой виноградник, единственное средство к жизни семьи, но и увести в рабство жену, дочерей и сыновей несчастного должника. Последний на коленях умолял евпатрида обождать ещё два месяца, до новой жатвы, и не губить его семью. Тщетно взывал несчастный к состраданию безжалостного кредитора, тщетно домочадцы искали защиты у алтаря богини домашнего очага, Гестии: всё было напрасно. Евпатрид насмешливо указывал на каменный столб, водружённый на дворе должника и ясно видный из окон жилища. На этом столбе была надпись, гласившая, что «владелец дома и усадьбы, афинянин Демокл, за долг евпатриду Фимею, сыну Агесиппа, закладывает ему не только своё имущество, но и себя, и членов семьи, с которыми, в случае просрочки заклада, Фимей, сын Агесиппа, волен поступить по своему личному усмотрению».
Эпименид, узнав, в чём дело, немедленно оставил носилки и направился в дом. Картина, представшая его взору, заставила его содрогнуться. Рабы Фимея только что заковали несчастного Демокла, почтенного уже старца, в заранее приготовленные кандалы и теперь, невзирая на мольбы и рыдания домочадцев, хотели поступить так же и с другими членами семьи.
Всё это так расстроило Эпименида, что он отказался смотреть на панораму города с вершины Музейского холма. Он не захотел посетить и Акрополь, а тут же внеся требуемую Фимеем сумму выкупа за усадьбу и семью Демокла, просил безотлагательно провести себя к дому Солона, где Эпименид решил остановиться и где для него уже заранее было приготовлено удобное помещение.

V. ЭПИМЕНИД
Внутренний двор дома афинского гражданина Солона, сына Эксекестида, был убран по-праздничному: окружавшие его с четырёх сторон стройные колонны были сверху донизу обвиты зеленью, равно как и возвышавшийся посреди двора жертвенник, посвящённый Зевсу-странноприимцу. На алтаре бога горел огонь, уже много часов тщательно поддерживаемый тремя молодыми рабами, в обязанности которых входило также следить за тем, чтобы не угасали высокие светильники, в большом числе расставленные между колонн и по углам двора. Вымощенный каменными плитами пол последнего был усыпан листьями маслины и лепестками роз. Кроме упомянутых уже трёх рабов, следивших за огнём на жертвеннике и за правильным горением светильников, на дворе то и дело появлялись фигуры других невольников и служителей, уходивших на заднюю половину дома, где помещались, кроме отделения для женщин, кухня и кладовые. Вскоре невольники снова возвращались на двор, неся в руках большие глиняные кувшины с водой и вином, медные чаши, серебряные и золотые кубки. Несколько подростков несло целую кучу душистых роз и лилий. Все эти прислужники направлялись со своей ношей в один из боковых покоев, двери которого, обычно закрытые занавесью из дорогой, вышитой разноцветными узорами ткани, были теперь широко открыты и позволяли находившимся на дворе рабам видеть и слышать всё там происходившее.
В этом обширном покое, освещённом несколькими высокими бронзовыми светильниками и большой висячей лампой, было теперь довольно шумно: только что окончился званый обед, данный хозяином дома, Солоном, в честь именитого гостя, Эпименида из Феста. Присутствующие в числе семи человек собирались приступить к десерту. Рабы поспешно убрали со стола, вокруг которого были поставлены три обширных скамьи для возлежания, последние яства и подали несколько дорогих блюд с плодами, сыром и пирожным. Тут же красовалась и большая серебряная солонка, содержимое которой, смешанное с благоухающими травами, должно было, по общегреческому обычаю, возбуждать в гостях жажду и заставлять их отведать побольше вина, поданного в разной величины и формы кувшинах. Рядом с амфорами вина стояли сосуды с холодной, как лёд, и тёплой, как молоко, водой, дабы каждый по вкусу мог разбавить ею вино.
Рабы уже успели подмести пол, вновь посыпать его лепестками и листьями роз, подать пировавшим тазы для омовения рук и обнести всех присутствующих масличными венками. Среднюю скамью занимал сам хозяин, Солон; по правую руку от него, опираясь левым локтем на мягкую подушку, поместился престарелый Эпименид. Слева от него возлежали родственник Солона, Писистрат, сын Гиппократа, почти ещё юноша, и его закадычный друг, молодой учёный, Ономакрит. Против них на одной скамье возлежали приятели хозяина, афиняне Конон, Клиний и Гиппоник. Последние, как наиболее близкие Солону, вели себя особенно шумно. Беспрерывный смех вызывали остроумные, нередко довольно едкие шутки Клиния, который, по общему требованию присутствующих, и был назначен на сегодняшний вечер распорядителем, или базилевсом попойки. Он, видимо, с особенной охотой взял на себя эту почётную и нетрудную обязанность и неустанно подливал соседям и себе янтарную влагу, дар бога Диониса, не слишком щедро разбавляя её водой.
Один Эпименид, казалось, не разделял общего веселья, хотя и был причиной и виновником настоящего пиршества. Он, принеся богам установленное возлияние, то есть выплеснув из своего кубка несколько капель вина на пол и произнеся установленную обычаем формулу в честь «доброго божества и богини здоровья», лишь слегка прикоснулся губами к драгоценному сосуду с красной, искрившейся влагой и с видимым утомлением откинулся на подушку. Жёлтое, как воск, лицо его казалось чрезвычайно утомлённым, веки были почти опущены и на лбу лежала глубокая, суровая складка. Тонкие, бескровные губы старца были плотно сжаты, и он как бы нехотя и лишь в случаях крайней необходимости, когда того требовало приличие, открывал их, отвечая на вопросы односложно и кратко.
– Твой дорогой гость сегодня, видимо, не в духе, – заметил Писистрат, обращаясь к Солону. – Не утомил ли его продолжительный и великолепный обед, делающий честь женской половине твоего дома, Солон, в одинаковой мере, как и тебе?
– Да, и я замечаю, что добрый наш Эпименид что-то не весел. Это искренне огорчает меня, – возразил хозяин.
– Прости, Солон, если я буду вполне откровенен. Но на это дают мне право и возраст мой, и положение моё, и дружба моя к тебе, – отвечал Эпименид.
Солон с тревогой взглянул на говорившего и спросил:
– Уж не болен ли ты, Эпименид?
– Хвала всесильным богам, я не болен телом. Но всё горе моё, что я не могу, даже в этом тесном дружеском кругу, отрешиться от душевных своих страданий. И это гнетёт меня, гнетёт тем сильнее, что я ясно чувствую разлад, вносимый моим тяжёлым настроением в это весёлое общество.
Старик замолчал и снова бессильно опустился на подушку, с которой, при первых словах Писистрата, он было приподнялся.
Среди присутствующих сразу наступило молчание. Веселье беспечного Клиния как рукой сняло. Конон и Гиппоник перестали улыбаться. По лицу Солона пробежала тень неудовольствия. Но с обычной греческой изысканной вежливостью он тотчас пересилил себя и проговорил мягко:
– Поделись с нами своей печалью, дорогой и глубокоуважаемый всеми нами гость мой. Да будут далеки от нас шутки и смех, раз чело твоё омрачается тяжёлой думой, и сердце твоё гложет тайное горе. Быть может, мы сумеем рассеять твоё тревожное состояние и заставим забыть гнетущую тебя скорбь. Что печалит боговдохновенного Эпименида? Поделись с нами своими глубокими мыслями, и мы благоговейно выслушаем тебя.
Когда и остальные присутствующие примкнули к Солону, Эпименид снова поднялся с подушки. Статная фигура его сразу выпрямилась и как бы выросла на глазах у всех. Глаза старика широко раскрылись и метнули молнию. Властным движением руки он отстранил от себя кубок и с резкой горечью воскликнул:
– Раз вы того хотите, я скажу вам, друзья, чем полно сейчас моё сердце, это сердце, так много перечувствовавшее и перестрадавшее за долгое время своего существования вот в этом слабом и дряхлом теле. Не гневайтесь на меня, если речь моя покажется вам не соответствующей тому празднично-весёлому настроению, которое сегодня царит здесь в этом доме. Со вчерашнего утра, со времени въезда в сей славный и прекрасный город, я не могу отрешиться от тех впечатлений, которые я восприял с первых же минут вступления за врата священного града Паллады-Афины. Как живая стоит передо мной картина, виденная в доме одного должника. Нигде, воистину нигде в прекрасной Элладе, озаряемой лучами Гелиоса и находящейся под покровительством бессмертных олимпийцев, я не видел ничего подобного. Это здесь хуже, чем у диких скифов или грубых ливийцев. Где видано, чтобы гражданин так бессовестно-грубо, так безжалостно-жестоко глумился над своим, по его же вине обедневшим согражданином? Слыхано ли, чтобы разжиревший от чужих трудов евпатрид осмелился посягнуть на жизнь домочадцев своего кормильца-должника, притом у самого алтаря богини, покровительницы города? Душераздирающие крики несчастных жертв бессовестного, нахального негодяя до сих пор раздаются в моих ушах, и сердце обливается кровью при воспоминании о том гнусном спокойствии, с которым презренные фракийские рабы взирали на коленопреклонённого перед ними, закованного в цепи свободного гражданина свободной страны.
Старик закрыл руками лицо, понемногу начинавшее краснеть. Грудь Эпименида тяжело вздымалась, и, когда он, спустя минуту, вновь заговорил, голос его дрожал от едва сдерживаемого гнева.
– А эти безобразные похороны! Этот варварский, даже дикарями оставляемый обычай уродовать себя якобы в знак печали! Где видано, чтобы человек с такой гнусной целью, как эта, налагал на себя руки, уродуя своё от природы прекрасное тело, созданное по подобию тел небожителей! Сколько варварства, сколько первобытной дикости, сколько самого грубого невежества сказывается в этом жестоком обычае, гнусном пережитке седой старины, когда люди мало чем разнились от диких, кровожадных зверей! Вижу я, что, кажется, совершенно напрасно прибыл издалека к берегам Аттики, той Аттики, которую почему-то привык считать чистой, прекрасной, великой страной! Здесь не государство, а вертеп каких-то разбойников и насильников, сборище существ, утративших образ людской. Как я очищу этот город, весь обагрённый кровью и пропитанный злодеянием? Чем, какой водой омою почву, замаранную насилием и отягчённую греховностью ходящих по ней?
Вот и сейчас: мы здесь, в богато убранном цветами, уютном покое мирно сидим за уставленным роскошными яствами столом, который ломится от избытка драгоценных сосудов с дорогим, изысканным вином. И в это же самое мгновение, быть может, через два-три дома, люди гибнут от голода, снедаемые заботами о мрачной веренице беспросветных грядущих дней! Кто знает, быть может, там происходят сейчас вещи ужаснее той, которой я был вчера случайным свидетелем! И земля не разверзается и не поглощает в своих недрах гнусных и жалких нечестивцев! Да, жалких, именно жалких, потому что они сами не ведают, что творят... Вы ждёте от меня очищения города, обагрённого кровью и запятнанного злодеяниями, а сами как будто не в силах понять, что раньше, чем очистить город, вам самим и множеству вам подобных следует очиститься от присущей всем вам порочности. Доколе вы сами не очиститесь, не ждите благополучия, не уповайте на милость богов. Если они гневаются на вас, то в том виноваты вы сами.
Вы хладнокровно пируете в то время, как на ваших глазах гибнут сотни и тысячи сограждан от насилия своих же сородичей. Вы находите время и средства ублажать свою плоть, вместо того, чтобы, умерщвляя её, тем самым подать пример своим обезумевшим от невежества соотечественникам. Вам доставляет удовольствие забывать обо всём в мире, кроме своей утробы, и, как дикие звери в знойный полдень набрасываются на случайно находимую в густой, тенистой чаще леса влагу прозрачного ручейка, вы с остервенением кидаетесь на амфоры с вином и с грубыми, плоскими шутками уничтожаете великий, божественный дар всесильного Диониса. Вы уподобляетесь при этом тем титанам, которые тщетно пытались умертвить слабого, беззащитного божественного отрока. Стыдитесь, если в вас есть хоть капля человечности, если ваши души ещё не превратились в камни!
Голос Эпименида оборвался, и старик бессильно опустился на скамью. При последних словах его, которые он выкрикнул особенно громко, толпа рабов хлынула с внутреннего двора в покой. Некоторые схватили чаши с водой и подали их совершенно оторопевшему Солону. Первым пришёл в себя от неожиданности Писистрат. Быстро выхватив из рук невольника чашу с ледяной влагой, он поднёс её к губам Эпименида. Старец отпил глоток, но прошло ещё довольно много времени, пока он совершенно оправился от охватившего его волнения. Затем он обвёл долгим, испытующим взглядом всех присутствующих и, слабо улыбнувшись, проговорил уже спокойно:
– Вы не сердитесь на меня, друзья мои, если я, в увлечении, сказал что-либо лишнее. Никого из вас обидеть я не хотел и не хочу, но душа моя скорбит и плачет при мысли о всех творящихся тут беззакониях, о которых мне уже столько успел порассказать наш уважаемый хозяин. Что делать? Как поправить зло? Душа моя жаждет дела, великого, светлого дела, но, находясь сама как бы в оковах, в этом слабом и всё-таки столь властно заявляющем о себе теле, тщетно силится разбить стены своей позорной темницы. Что делать? Много нужно страданий, чтобы души афинских граждан, погрязших в беззакониях, очистились от пропитавшего их насквозь зла. Бедствия, ниспосланные богами на этот богатый город и на эту славную цветущую страну, не что иное, как своевременное и вполне целесообразное испытание ваших душевных сил, вашей стойкости, вашей веры. Не отчаивайтесь в конечном спасении, сделайте всё от вас зависящее, чтобы уменьшить, если не прекратить, творимые здесь повсюду беззакония, и ваш пример подействует на умилостивление гнева богов благотворнее всяких очистительных церемоний и искупительных жертвоприношений. Облагородьте себя, и вашему примеру последуют все граждане афинские. Постарайтесь понять самих себя, и вы легче поймёте других, а равным образом и они поймут вас. Не в одних молитвах дело, а в той душевной чистоте и той вере в конечное торжество справедливости и правды, с которой вы приступаете к алтарю небожителей. Боги – не люди. Такими их сделали лишь жрецы, чтобы приблизить их к пониманию необразованной черни. Перестаньте низводить Олимп и его горнии высоты на низменную землю, и вы поймёте, что к богам следует приступать не так, как вы это обычно делаете. Вы в них видите, со слов обманщиков-жрецов, не что иное, как одарённых вечной юностью и бессмертием таких же людей, какими являетесь вы сами. Это грубейшая ошибка, в которую может впасть человек. Она заставила течь уже целые потоки крови и слёз, и нет конца тем бедствиям, которые испытает род людской, если он будет переносить землю и все земные отношения на небо и его небожителей...
Старик умолк. Глубокая благоговейная тишина воцарилась среди присутствующих, которых внезапно охватило дотоле неведомое им молитвенное настроение. Молчание было прервано Солоном. Он тихо взял Эпименида за руку и промолвил:
– Поделись с нами, дивный, божественный старец, своими глубокими мыслями о божествах и мироздании. Ты многое знаешь, что недоступно обычным смертным, и мы рады у тебя поучиться. Пусть будет сей день началом новой для нас жизни, на путь которой мы вступим под твоим просвещённым руководством. Поделись, умоляю тебя, своей мудростью с нами, и мы постараемся оказаться достойными твоего к нам доверия.
– Я охотно готов исполнить ваше желание, друзья мои, – отвечал Эпименид, и в глазах его сверкнула радость. – Я это сделаю тем охотнее, что среди нас, здесь собравшихся, есть совсем юные люди, вроде Писистрата и Ономакрита. Им особенно полезно выслушать и узнать истину, потому что они, по самому возрасту своему, восприимчивее к ней, чем вы остальные, мужи уже зрелых лет. То, что я скажу вам, есть истина, сокровенная мудрость, преподанная мне и мне подобным самим божественным Орфеем[23]23
Орфей — мифический певец-фракиец, живший в глубокой древности и наделённый необычайным музыкальным даром. Когда умерла его любимая жена Эвридика, Орфей спустился в преисподнюю, но ему не удалось увести оттуда Эвридику, что разрешил Аид, очарованный дивным пением Орфея.
[Закрыть], которого небожители избрали в вещие певцы сокровенного, тайного учения. Орфей – мой учитель, и я один из его так называемых орфеотелестов, последователей, посвятивших себя изучению орфической науки и проведению в жизнь её мудрых, дивных положений. Мы, орфики, как вы все, вероятно, заметили уже по мне, стараемся вести по возможности чистый и воздержанный образ жизни. Мы почти никогда не употребляем в пищу убоины и вовсе не пьём вина, разве только в тех случаях, когда нужно совершить возлияние в честь бессмертных богов, особенно великого и наиболее могущественного среди них, Диониса-Загрея[24]24
Загреем назывался бог плодородия и силы Дионис, вероятно, вследствие своего семитического происхождения. Имя Загрей близко семитическому слову «зогар» (свет) и указывает на тождество Диониса с богом солнца. Это же подтверждает и связь его с Фанесом, что означает «светящийся».
[Закрыть]. Вы удивляетесь, друзья мои, что я так назвал бога Диониса, что я не поставил во главе небожителей Зевса. Но я вам сейчас объясню, почему я так поступил и почему таков взгляд всех орфиков. Для этого мне придётся, однако, сперва коснуться обычных и всюду в Элладе распространённых верований, которые, конечно, разделяются и вами.
По общепринятому мнению, боги – те же люди, отличающиеся от смертных лишь вечной юностью и бессмертием. Ещё старый Гомер обрисовал нам Олимп с его дивными чертогами, жилищами богов, как наилучшее и самое счастливое место на земле. Живущие там боги и богини не знают ни забот, ни горя, и вечно веселы и беспечны, пользуясь цветущим здоровьем и всеми благами, в изобилии расточаемыми щедрой природой. Если они иногда вмешиваются в дела людей, то лишь оттого, что связаны с последними нередко кровными узами: боги вступают в брак со смертными женщинами, богини нередко рожают героев от смертных отцов. Но всему в природе бывает конец: как над жизнью каждого человека тяготеют неумолимые парки, так и олимпийские боги зависят от всевластных мойр, могущих в один прекрасный день положить конец их беспечному и весёлому существованию. Безжалостный Рок властно тяготеет над всеми. Что случится с богами и богинями, когда наступит час беспредельной власти мойр, никто не знает Людской же род погибнет, люди умрут или, как принято выражаться, тени их заполнят мрачное царство Аида, куда не заглядывает луч солнца и где божественный Ахилл, царь царей, тяготится настолько, что, по его собственному признанию, он был бы готов начать вновь земное существование своё хотя бы в положении последнего, жалкого подёнщика. В царстве теней все равны, праведные и грешники, и никто не получает воздаяния за свои земные поступки. Справедливо ли это? – позволю я себе спросить вас. Разве мыслимо, чтобы преступник, обагривший руки в крови своих ближних, может быть, родного отца или родной матери, чувствовал себя точно так же, как человек, всю свою жизнь являвший образец праведности? Можно ли сопоставить разбойника с мудрецом, особенно если вспомнить, как часто бывает, что праведный мудрец в своей земной жизни и несчастлив, и терпит нужду и гонения, тогда как явный злодей пользуется всеобщим успехом, почётом и невозбранным счастьем?
Тут кроется явная несправедливость, с которой мысль думающего человека не может и не хочет примириться. Пытливо доискиваясь истины, она поневоле приходит к убеждению, что мы неверно представляем себе как олимпийских богов, так и жизнь наших умерших. Много столетий наиболее выдающиеся мыслители всех народов томились и мучились навязчивыми думами. Их не удовлетворяло объяснение жрецов, знавших меньше последнего простолюдина о вопросах, которые они брались разрешать. Они терзались при мысли о явной несправедливости, тяготевшей над миром, и не успокаивались, когда жрецы им говорили, что за рубежом смерти наступает Лета, забвение. Людям пришлось бы ещё долго мучиться сомнениями и неудовлетворённой любознательностью, если бы в пределах Эллады не явился человек, соединивший в себе знания, решительно все знания Востока и Запада, Севера и Юга. Человек этот был Орфей. Он, по преданию, подчинил себе своим дивным пением могучие силы природы: дикие звери, бездушные камни внимали его боговдохновенным песням и смирялись пред ним. И всё это Орфей делал лишь после того, как побывал в преисподней, постарался, как мог, разрешить загадку о загробной жизни. Когда его самого уже не стало, от него к его ближайшим последователям и ученикам, орфикам, перешли те боговдохновенные гимны, которые содержат в себе всю сущность орфического учения. Там нашлись и ответы на тревожные вопросы о жизни нашей души за гробом, о том, почему на земле царит такая несправедливость, и о том, что со временем снова наступит тот «золотой век», когда все люди будут равны, и между ними не будет больше ни злобы, ни ненависти, ни насилий, ни обид. День этот должен наступить непременно, только беда, что никто не знает, когда, как скоро это будет.
Старец умолк и в глубоком раздумье снова опустился на скамью. Слушатели, увлечённые его речью, вопросительно глядели на него, с явным нетерпением ожидая продолжения этих объяснений, затронувших в каждом из них ряд сокровенных вопросов. Несколько отдохнув, Эпименид продолжал:
– Я начну издалека и сперва сообщу вам, как мы, последователи Орфея, представляем себе сущность мироздания, его возникновение и устройство. Из этого само собой проистечёт и наше учение о душе человеческой и ожидающей её за гробом судьбе. Повторяю ещё раз, в этом учении сосредоточена мудрость мыслителей разных времён и народов, особенно же Востока, потому что Орфей знал все науки всех народов. Итак, слушайте, что сказано в орфических рапсодиях.
С самого начала и вечно существовало три основных божества, в сущности, некогда бывших чем-то единым, а затем распавшихся на три части. То были: Хронос, вечное время, Зас или Зевс – верховное божество жизни, и Хтония, мать сыра-земля. Всех их окутывала Ночь с её беспросветной тьмой, породившей змеиного бога Офионея и целый сонм его приверженцев, титанов. Офионей желал владычества своей матери, Хронос же не терпел вечной тьмы и создал могучее серебряное яйцо, в котором были частицы светлого Заса и Хтонии, матери-земли. Из этого яйца вышел светозарный Фанес, или бог любви, Эрот. В сообществе Фанеса и Заса Хронос победил Офионея и толпу его титанов и стал властвовать над Вселенной, свергнув противников в недра Океана, по волнам которого стало носиться расколовшееся во время выхода из него Фанеса «великое серебряное яйцо мира». Нижняя, более тяжёлая часть его образовала землю, материк, верхняя – куполом небесного свода охватила края земли и повисла над ней. Старого Хроноса сменил более молодой и сильный Зас, который затем под именем Зевса стал править вселенной. Он сочетался браком с богиней земных сил, Персефоной, и от этого союза произошёл божественный Дионис-Загрей. Но титаны, некогда побеждённые Хроносом, не хотели смириться. Всю свою злобу они перенесли на малютку Диониса. Спасаясь от всюду угрожавшей ему опасности, он принимал различные образы, но всегда титаны настигали его и грозили его умертвить. Тогда Дионис обратился в ужасного, свирепого быка, бесстрашно ринувшегося на толпу своих преследователей. Но последние оказались сильнее его, и Дионис был разорван ими на клочки и бешено пожран. В последнюю минуту Зевсу удалось спасти трепещущее, окровавленное сердце своего сына. Он немедленно проглотил его, имея в виду произвести из него «нового Диониса», титанов же Зевс поразил насмерть могучей своей молнией, которая обратила их в пепел. Из этого-то праха возникли впоследствии люди, состоящие поэтому из двух элементов: низменного пепла, или плоти, и дионисиева, божественного начала, происходящего из крови, которую титаны поглотили, разорвав Диониса-Загрея. Эти два элемента, плоть и душа, вследствии огромной разницы своего происхождения, постоянно борются и доныне в человеке. Душа стремится к небу, к божеству, тело же старается удержать её в себе и приковать к земле со всеми её низменными страстями. Но душа всеми силами пытается разорвать эти узы и освободиться из постылой темницы. Как пойманная птица в клетке, бьётся она в своём узилище, и много приходится ей выстрадать, пока усилия её не увенчаются успехом. Таково облечённое в форму общедоступной притчи наше орфическое учение о начале мироздания и о распределении тех божественных и телесных сил, которые проявляются в нём.
– Теперь я понимаю, почему вы, орфики, столь заботитесь о чистом, святом образ жизни, – воскликнул Солон. – Вы стараетесь облегчить освобождение души от тела и слияние её с Дионисом-Загреем, частицей которого она является. Не правда ли, Эпименид?
– Ты угадал истину, мой друг, – ответил старец. – Но одними усилиями умертвить плоть дело ещё не будет сделано. Глубоко веруя в необходимость и неизбежность конечного слияния души человеческой с «новым Дионисом», мы, орфики, находим наш воздержанный образ жизни средством недостаточным для очищения души от той грязи, которая запятнала её во время её столь продолжительного пребывания в бренном теле человека. По нашим верованиям, душе предстоит трудная и очень продолжительная работа, чтобы освободиться от всякой нечисти и стать достойной слиться с Дионисом. Наконец, и количество душ в мире ограничено, как ограничено и сердце и количество крови, вмещавшихся в образе Загрея. Поэтому мы полагаем, вместе с учёными мыслителями, обитающими на далёком Востоке, и жрецами, живущими по плодородным берегам священного Нила, что души умерших странствуют по земле в образах сперва разных животных, а затем и людей. Странствование это – необходимый искус для души. Тут она постепенно очищается от запятнавшей её нечисти и понемногу становится всё достойнее и достойнее слиться с Дионисом. Вот отчего мы, орфики, воздерживаемся от убоины, вот почему, в наших глазах, всякое мучение, которому подвергает человек беззащитное и бессловесное животное, – величайшее насилие и самая вопиющая несправедливость; вот, наконец, чем объясняется наш всегдашний призыв ко всеобщему очищению, которое мы понимаем не только в смысле телесном, но и, главным образом, душевном. Очиститесь от внутреннего зла, старайтесь по мере сил способствовать нравственному возрождению своих ближних, и тогда вы будете счастливы. Заботьтесь о том, чтобы поменьше несправедливости творилось среди вас, чтобы правда торжествовала всюду на земле, чтобы снова настал «золотой век» былых времён, когда среди людей не было ни злобы, ни зависти, ни вражды. Помните, что все люди равны, и что самый могущественный и сильный среди вас с течением времени может стать не только презренным рабом, но и низшим животным. Помните, что не в богатстве и земном могуществе сила, а в чистоте наших помыслов и незапятнанном образе жизни. Напоследок обращаю ваше внимание ещё на одно серьёзное обстоятельство: члены нашего братства (мы, орфики, считаемся все братьями друг другу) в подавляющем большинстве случаев набираются не из среды имущих, богатых граждан, а из числа беднейших и обездоленных судьбой, как принято выражаться у вас. Это значит, что такие люди более чутки, более способны чувствовать несправедливость и отличать зло и ложь от добра и правды, чем сытые, обеспеченные лентяи...








